|
||||
|
ГЛАВА 1. САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ 1920-х И НАЧАЛА 1930-х ГОДОВ Первая мировая война послужила мощным стимулом к развитию авиастроения во всем мире. Уже в первые месяцы боевых действий самолет показал себя как высокоэффективный вид военной техники, и правительства воюющих стран стали выделять большие средства на развитие авиации. Всего за время войны было построено около 200 тыс. самолетов. К 1918 г. в авиапромышленности работало 700 тыс. человек [1, с. 40]. Самолетостроение стало крупной отраслью индустрии. Что представлял собой «типичный» самолет образца 1918 г.? Это был биплан со стойками и проволочными растяжками между крыльями. Такая пространственная конструкция обеспечивала эффективное восприятие сил, действующих на крыло, и обладала высокой прочностью при сравнительно малом весе. Фюзеляж также имел ферменную конструктивно-силовую схему. Основным материалом, из которого делали самолеты, было дерево. Потом его обтягивали полотном, а последнее покрывали лаком, чтобы обеспечить влагостойкость и воздухонепроницаемость обшивки. В качестве силовой установки использовали двигатели внутреннего сгорания мощностью 200–400 л. с. На истребителях часто устанавливали более легкий двигатель воздушного охлаждения, самолеты-разведчики и бомбардировщики обычно снабжали двигателями водяного охлаждения, отличающимися большей мощностью и экономичностью. Скорость самолетов периода первой мировой войны не превышала 200 км/ч, а совершенству аэродинамических форм летательных аппаратов не уделялось особого внимания. Самолеты имели открытые пилотские кабины, неубираемое шасси, много других выступающих в поток частей: нагрузка на крыло составляла 30–40 кг/м². коэффициент лобового сопротивления — 0, 05-0, 06. 11 ноября 1918 г. германское командование подписало акт о капитуляции. Окончание войны прервало напряженную гонку вооружений. По условиям Версальского мирного договора (1919 г.) Германии было запрещено иметь военную авиацию, а бывшие у нее военные самолеты уничтожили (рис. 1.1) [2]. Австро-Венгерская империя распалась на несколько самостоятельных государств. В России произошла революция, и последовавшие за ней гражданская война и развал экономики приостановили развитие авиации в этой стране. Что касается авиапромышленности Франции, Англии, США и Италии, то наличие у этих стран огромного количества самолетов и двигателей вызвало застой в авиастроении. Существующие самолеты (а их имелось около 85 тысяч) распродавались по цене, во много раз меньшей их себестоимости и наладить выпуск новых типов самолетов в этих условиях было почти невозможно. Авиапроизводство упало в десятки раз. Многие крупные авиационные фирмы были вынуждены искать работу в новых областях или объявили себя банкротами.  Рис. 1.1. Уничтожение запаса пропеллеров в Германии. 1919 г. Еше одной проблемой на пути развития авиации был поиск новых областей применения самолетов. После ужасов кровопролитных сражений 1914–1918 гг. начало новой войны казалось невозможным и бюджеты на военные нужды резко сократили. Применение авиации для коммерческих целей было новой и, учитывая дорогостоимость и не очень высокую надежность самолетов, непростой задачей. В сложившихся к концу 1910-х голов неблагоприятных условиях для развития авиации многие авиафирмы пошли по простейшему пути: занялись совершенствованием наиболее удачных образцов самолетов периода первой мировой войны. Этот «эволюционный» подход был характерен для развития авиации на протяжении более, чем десяти лет. Совершенствование конструкции самолетов образца первой мировой войны в первое послевоенное пятнадцатилетие Развитие самолетов-бипланов в первые 15 послевоенных лет удобно проследить на основе сравнения типичных военных самолетов конца первой мировой войны и 20-х — начала 30-х годов: истребителя, разведчика и бомбардировщика. На рис. 1.2 изображены схемы одноместных истребителей с двигателем воздушного охлаждения Сопвич «Снайп» и И-5 конструкции Н. Н. Поликарпова. Первый из этих самолетов появился в 1918 г. и был последним образцом знаменитых истребителей английской фирмы Сопвич периода первой мировой войны с ротативным двигателем Бентли BR-2. Всего было построено около полутора тысяч «Снайпов». И-5, снабженный стационарным двигателем воздушного охлаждения «Бристоль Юпитер-4»(1930 г.), стал первым советским массовым истребителем; было построено 803 самолета. В конструкции обоих самолетов широко применялась древесина, обшивка — преимущественно полотняная. 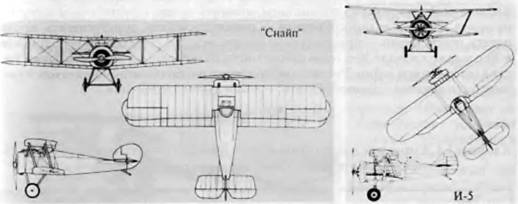 Рис. 1.2. Схемы истребителей Сопвич «Снайп» и И-5 Как видно из чертежей, общая компоновка самолета-истребителя за двадцатые годы практически не изменилась. Это по-прежнему — биплан со стойками и растяжками между крыльями, с неубирающимися шасси и открытой кабиной летчика. Основными тенденциями в развитии аэродинамической схемы были замена крыльев равного размаха и площади схемой полутораплан (верхнее крыло больше нижнего) и применение только одной пары стоек между крыльями. Распространение полуторапланной схемы было вызвано желанием улучшить обзор из кабины, а увеличение толшины профиля, и, следовательно, прочности крыла позволило уменьшить чисто межкрыльевых стоек. С годами увеличивались длина и вес самолета, что объясняется возросшими габаритами двигателей и необходимостью увеличения объема топливных баков в связи с ростом мощности силовых установок. Наиболее существенным изменением явилась замена ротативного мотора стационарным двигателем воздушного охлаждения. Применение ротативных двигателей на ранней стадии развития авиации связано с тем, что двигатель с вращающимися цилиндрами лучше охлаждается в полете. Однако особенности конструкции такого мотора не позволяли сильно увеличивать мощность: под действием центробежных сил появлялись трудности с подачей смазки, возросший гироскопический момент начал влиять на управляемость самолета. Проблема надежного охлаждения была решена применением алюминиевых головок цилиндров, что улучшало теплоотдачу. Одним из наиболее распространенных авиационных двигателей стал английский 9-цилиндровый звездообразный Бристоль «Юпитер», первые образцы которого (1921 г.) имели мощность 425 л.с. при 1700 об/мин. Он применялся на многих английских самолетах, по лицензиям производился в СССР, Франции. Германии, Чехословакии. Японии, Польше. Причиной популярности двигателя был его малый удельный вес и, что также немаловажно, учитывая проблемы производства и сбыта авиатехники после первой мировой войны, сравнительно небольшая стоимость. Для лучшего охлаждения цилиндров их обычно не закрывали капотом. Вызывающие завихрения потока головки цилиндров были причиной большого лобового сопротивления самолетов. Тем не менее скорость истребителей продолжала постепенно возрастать. Это достигалось повышением мощности мотора и увеличением нагрузки на крыло. Остальные характеристики — скороподъемность, маневренность, время полета, огневая мощь — практически не изменились. Это свидетельствует о том, что в 20-е и даже в начале 30-х годов самолет-истребитель остался примерно таким же, как в годы мировой войны. Увеличению скорости и полезной нагрузки авиаконструкторы были обязаны, главным образом, успехам двигателестроения. Таблица 1.1. Сравнение лстно-технических характеристик различных типов самолетов конца первой мировой войны и конца 20-х годов.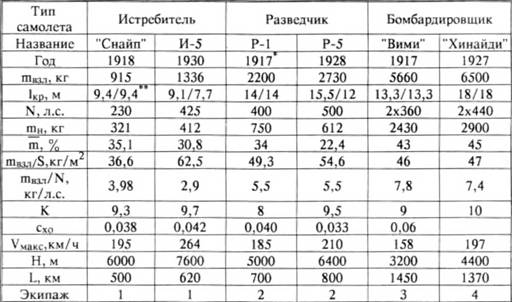 * Год выпуска прототипа — DH-9 ** Размах верхнем крыла/размах нижнего крыла Конечно, нс следует считать, что все истребители строились по одной и той же схеме. То, о чем говорилось выше — это лишь характерный пример. В условиях конкурентной борьбы многочисленных самолетостроительных фирм были неизбежны различные конструкторские подходы. Рассмотрим кратко наиболее известные истребители 20-х и начала 30-х годов. В годы первой мировой войны самые удачные истребители среди стран Антанты строили во Франции и Англии. Эти две страны остались лидерами в этой области и в первые послевоенные годы. Первым французским истребителем, поступившим на вооружение после мировой войны, был Ньюпор-Деляж-29 (рис. 1.3). Его создатель, Густав Деляж, начал конструировать этот самолет еще в 1918 г., но из-за окончания войны на время приостановил работу, поэтому истребитель стал поступать на вооружение только в 1922 г. Тем временем Деляж построил гоночный вариант самолета, с уменьшенным вдвое по площади крылом и форсированным двигателем. На этой машине в феврале 1920 г. летчик Сади-Лекуант установил первый послевоенный рекорд скорости — 276 км/ч, а осенью того же года завоевал первый приз на международных состязаниях гоночных самолетов на приз Гордон- Беннетта [6, с. 5]. Серийный Ньюпор-Деляж имел двухстоечное бипланное крыло и 8-цилиндровый двигатель «Испано-Сюиза» с водяным охлаждением мощностью 300 л.с. Из-за несовершенной аэродинамики самолета прибавка в мощности не дала большого эффекта — максимальная скорость составляла 213 км/ч. Тем нс менее, репутация конструктора и победа на престижных состязаниях сделали свое дело, и на истребитель последовало много заказов. Он состоял на вооружении Франции в количестве 250 экземпляров. Самолет приобрели также Бельгия, Испания, Италия и Швеция, 609 самолетов купило японское правительство, активно занимающееся развитием авиации в своей стране [5, с. 698]. С середины 20-х годов во Франции конструкторы начали тяготеть к более совершенной в аэродинамическом отношении схеме «подкосный моноплан». Это доказывают результаты конкурса 1925 г. на новый истребитель, победителями которого стали два моноплана: Вибо-72 и LGL.32. Оба самолета имели одинаковые звездообразные двигатели воздушного охлаждения Гном-Рон «Юпитер»9, однако «Вибо» отличался цельнометаллической конструкцией, что для того времени было большой редкостью. Более легкий LGL оказался на 10 км/ч более скоростным, поэтому и заказов на него было больше; построили 350 самолетов, которые применялись в ВВС Франции. Румынии, Турции и Испании до середины тридцатых годов.  Рис. 1.3. Истребитель Ньюпор-Деляж-29 В конце двадцатых годов фирма Ньюпор-Деляж выпустила новую модель истребителя — NiD.62. Формально ото был полутораплан, но по существу — моноплан, т. к. площадь нижнего крыла была настолько незначительна, что его правильнее воспринимать как промежуточную опору подкоса, а нс как несущую поверхность. На самолете установили новый вариант «Испано-Сюизь» — 12-цилиндровый мотор, мощностью 500 л.с. На стойках шасси располагался весьма распространенный в 20-е годы радиатор Ламблена, имевший форму цилиндрической поверхности (рис. 1.4). При взлетном весе 1840 кг самолет развивал скорость до 250 км/ч, практический потолок составлял 7700 м. «62-й» был одним из самых \‹ассовых французских истребителей межвоенной эпохи: их было произведено более 800. К моменту нападения Германии на Францию (май 1940 г.) 143 таких самолета все еще находились на вооружении французских ВВС [5, с. 699]. Вообще же строительством истребителей во Франции в 20-е и начале 30-х годов занималось окаю 10 фирм. Компании, получившие известность своими истребителями-бипланами в годы войны (СПАД, Ньюпор), оставались сторонниками двукрылой схемы, тогда как недавно созданные фирмы, например Девуатин, предпочитали монопланы. Основатель фирмы, Эмиль Девуатин, занялся конструированием самолетов в начале 20-х годов, но, не добившись заказов от французского правительства. уехал в Швейцарию. Там он разработал оригинальный истребитель-парасоль D-27 с подкосным крылом и двигателем водяного охлаждения «Испано-Сюиза» 12Мс мощностью 500 л.с. (рис. 1.5). В ноябре 1927 г. пилот Марсель Доре установил на D-27 мировой рекорд скорости на дистанции 1000 км. 66 таких самолетов были проданы в Швецию для ВВС этой скандинавской страны [5, с. 323]. После успеха D-27 Э. Девуатин получил приглашение вернуться во Францию и вскоре прославился серией скоростных истребителей-монопланов: D-500, D-510 и др. Некоторые из них будут описаны в 3-й главе. В отличие от французов, склонные к приверженности традициям английские авиаконструкторы продолжали развивать истребители-бипланы с одностоечным крылом — тип самолета, с успехом опробованный ими в годы первой мировой войны. Они также остались сторонниками звездообразного двигателя воздушного охлаждения, заменив, правда, ротативный двигатель на стационарный.  Рис. 1.4. Радиатор Ламблена  Рис. 1.5. Истребитель Девуатин D-27 К числу наиболее известных английских истребителей первого послевоенного десятилетия следует отнести Армстронг Уитворт «Сискин» и Бристоль «Бульдог». «Сискин», сконструированный для замены истребителя конца первой мировой войны Сопвич «Снайп», появился в частях ВВС в начале 20-х годов. В 1924 г. на вооружение стал поступать усовершенствованный вариант «Сискин» 3 с более мощным двигателем («Ягуар-3», 325 л.с.). При размахе крыла 10,1 м и взлетном весе 1365 кг он развивал скорость 251 км/ч. Английская промышленность произвела свыше 400 самолетов этого типа. Истребитель Бристоль «Бульдог» (рис. 1.6) совершил первый полет в мае 1927 г. Конструктором самолета был капитан Барнуэлл. Также как «Сискин» 3, «Бульдог» имел схему полутораплан, металлическую сварную конструкцию и полотняную обшивку. С двигателем Бристоль «Юпитер» VII мощностью 440 л.с. он мог летать со скоростью 285 км/ч — быстрее всех других английских истребителей. Размах крыла составлял 10,3 м, взлетный вес — 1590 кг; кроме стандартного вооружения (двух пулеметов), самолет мог брать четыре 9-кг бомбы, которые крепились к нижнему крылу. «Бульдог» был самым известным английским истребителем конца 20-х — начала 30-х годов. Кроме Великобритании, самолет находился на вооружении прибалтийских государств — Латвии, Эстонии, Швеции, Финляндии. Всего построено 360 истребителей «Бульдог». Самолет Глостер «Геймкок» (рис. 1.7), сконструированный Г.Фолландом, был испытан в начале 1925 г., год спустя поступил на вооружение и применялся в ВВС Великобритании до 1931 г. Он пользовался популярностью у летчиков из-за легкости в пилотировании и отличной маневренности.  Рис. 1.6. Истребитель Бристоль «Бульдог»  Рис. 1.7. Истребитель Глостер «Геймкок» Разработкой и производством истребителей занимались и многие другие английские фирмы — Мартинсайд, Фейри, Виккерс, Авро, Блекберн, Уэстланд. Всего в двадцатые годы в Англии было создано свыше 30 истребителей различных марок. Характерно, что все они были бипланы и почти все — с двигателями воздушного охлаждения. Такой приверженности определенной компоновке не существовало ни в одной другой авиационной державе. Наибольшей индивидуальностью отличались самолеты фирмы Хокер. Для них была характерна исключительная обтекаемость внешних форм, присущая скорее гоночной машине, чем боевому самолету. Возможно, на творческий стиль главного конструктора фирмы Хокер Сидни Камма повлияли идеи его соотечественника — аэродинамика Мелвилла Джонса, опубликованные позднее в статье «Обтекаемый самолет», в которой показывалось, насколько несовершенны существующие самолеты по сравнению с «идеальным», с точки зрения аэродинамики, самолетом [75]. Первым скоростным «Хокером» был многоцелевой «Харт» с двигателем ноля но го охлаждения Роллс-Ройс «Кестрел» в 525 л.с. (1928 г.) Этот двухместный одностоечный биплан, с заостренным впереди капотом двигателя и хорошо обтекаемым фюзеляжем овального сечения, мог с бомбовой нагрузкой 225 кг развивать скорость почти 300 км/ч — больше, чем многие одноместные истребители того времени. Его развитием стал одноместный истребитель «Фьюри» (рис. 1.8) с тем же двигателем «Кестрел», впервые поднявшийся в воздух в марте 1931 г. В начале 30-х годов он являлся самым скоростным истребителем — его максимальная скорость на высоте 4200 м составляла 333 км/ч. В том же 1931 г. фирма выпустила двухместный истребитель-перехватчик Хокер «Демон» с форсированным до 584 л.с. двигателем (рис. 1.9). Скорость полета самолетов С. Камма могла быть еще выше, если бы не бипланное крыло и неубираемое колесное шасси; несмотря ни на что, они оставались продуктом инженерной мысли 20-х годов. Всего выпущено 215 «Фьюри», 234 «Демона» и около 1000 «Хартов» (из них 500 — в варианте учебно- тренировочного самолета) [51, с. 119, 152].  Рис 1.8. Истребитель Хокер «Фьюри»  Рис. 1.9. Двухместный истребитель Хокер «Демон» Американская военная авиация в начале 20-х годов находилась еще в стадии становления. США вступили в первую мировую воину в 1917 г., и до этого времени правительство почти не уделяло внимания развитию авиации. Опыт войны показал большую роль самолетов в боевых действиях и заставил американское руководство форсировать создание собственных ВВС. В области истребительной авиации в США в 20-е голы господствовали две фирмы — Боинги Кертисс. В 1924 г. начался выпуск истребителя Боинг PW-9 (рис. 1.10) — биплана с трапециевидными в плане крыльями. На самолете стоял новый 12-цилиндровый двигатель водяного охлаждения Кертисс D-12, развивавший мощность 435 л.с. В то время это был один из самых мощных авиационных двигателей, что позволило самолету с весьма посредственной аэродинамикой иметь неплохую по тем временам скорость — 265 км/ч. Всего было произведено 111 PW-9.  Рис. 1.10. Истребитель Боинг PW-9  Рис. 1.11. Гоночный самолет Кертисс «Нэви-Рейсер» Фирма Кертисс, начавшая выпуск самолетов еще в начале столетия, прославилась после мировой войны серией гоночных бипланов. В отличие от европейских гоночных машин, эти самолеты строились на государственные средства: таким образом правительство США стремилось создать базу дли развития самолетов-истребителей. Все гоночные самолеты Г. Кертисса были бипланами. Однако, благодаря усилиям конструктора по уменьшению вредного сопротивления, они отличались очень хорошей аэродинамикой; по оценке С. Я. Макарова, коэффициент лобового сопротивления самолета «Арми-Рейсер № 1» (1922 г.) составлял всего 0.003 [6. с. 7]. Это было достигнуто заменой стандартной N-образной межкрыльевой стойки более обтекаемой 1-образной стойкой, сокращением до минимума числа расчалок, применением вместо цилиндрических радиаторов Ламблена крыльевых поверхностных радиаторов и, наконец, обтекаемыми формами капота двигателя и кока пинта. Все это, наряду с непрерывным совершенствованием двигателя «Кертисс D-12», обеспечило победу гоночным самолетам фирмы Кертисс не только в национальных, но и в международных состязаниях: на них установлены два мировых рекорда скорости — 359 км/ч (Арми-Рейсер No I, 1922 г.) и 429 км/ч (Нэви-Рейсер R2CI, 1923 г… рис. 1.11). На основе опыта проектирования гоночных самолетов фирма Кертисс в 1925 г. создала истребитель-биплан «Хоук» (рис. 1.12). Хотя самолет и не имел таких особенностей гоночных «Кертиссов», как поверхностные радиаторы и I-образные стойки между крыльями, в скоростном отношении самолет по-прежнему представлял собой выдающуюся машину. С новым двигателем Кертисс «Кокуэрор» мощностью 675 л.с. (1927 г.) максимальная скорость истребителя превышала 300 км/ч. На рубеже 20-х — 30-х годов «Хоук» был одним из основных американских истребителей. Первые американские военные самолеты обязаны своими успехами инженерам, создавшим превосходные для своего времени двигатели водяного охлаждения: «Либерти», Кертисс D-12 и др. Однако флот, наметивший обширную программу развития авианосцев, был заинтересован в том, чтобы палубные самолеты-истребители снабжались бы более легкими, более компактными и более простыми в эксплуатации звездообразными двигателями воздушного охлаждения. Под нажимом руководства военно-морского ведомства США фирма Райт с 1922 г. занялась разработкой двигателей воздушного охлаждения. В 1924 г. от фирмы отделилась группа специалистов, организовавшая новую двигателестроительную компанию Пратт-Уитни. Созданные этими фирмами отлично показавшие себя 9-цилиндровые радиальные авиадвигатели Пратт-Уитни «Уосп» (1926 г.) и Райт «Циклон» (1927 г.) послужили фундаментом для дальнейшего прогресса в американском самолетостроении.  Рис. 1.12. Истребитель Кертисс «Хоук» Первым американским истребителем с двигателем воздушного охлаждения, выпускавшимся большой серией, стал самолет фирмы Боинг Р-12, впервые поднявшийся в воздух 25 июня 1928 г. Благодаря новому типу двигателя он был меньше по размерам и весу, чем описанные выше американские истребители. Другое отличие заключалось в замене трапециевидного по форме крыла более технологичным крылом постоянной хорды, с эллиптическими законцовками. Самолет выпускался в двух вариантах — для армии (Р-12) и для флота (F4B, рис. 1.13). Морской вариант имел усиленные шасси и тормозной крюк на хвосте. Он применялся как палубный истребитель на первых американских авианосцах «Лексингтон» и «Ленгли». Несмотря на меньшую скорость из-за более высокого аэродинамического сопротивления двигателя воздушного охлаждения, этот недорогой и маневренный самолет полюбился и в армии, и на флоте. Было заказано 586 машин — рекордное количество для американской авиапромышленности межвоенной эпохи. В итальянской авиации лидером в создании истребителей после первой мировой войны стала фирма Фиат. Главным конструктором фирмы был Целестино Розателли, чьи инициалы — C.R.- обозначали название созданных им самолетов. Первый истребитель Розателли Фиат CR-1 (рис. 1.14) разработан в 1923 г. и построен в количестве около 100 экземпляров. Этот самолет, с 8-цилиндровым двигателем водяного охлаждения Иззота-Фраскини мощностью 320 л.с., отличался от других бипланов тем, что его нижнее крыло имело большие размеры, чем верхнее. Кроме того, у этого и других самолетов Розателли межкрыльевые стойки были расположены диагонально, что устраняло необходимость в обычных для бипланов диагональных растяжках.  Рис. 1.13. Истребители Боинг F4B-4 В следующей модели истребителя Фиат CR-20 (1926 г.) конструктор отказался от схемы «обратный полутораплан», т. к. эта компоновка, не давая каких-либо аэродинамических преимуществ, ухудшала обзор летчику и увеличивала опасность касания крылом земли при посадке с креном. Помимо этого, деревянный каркас самолета был заменен металлическим, установлен новый 12-цилиндровый двигатель Фиат А-20. Несмотря на увеличение мощности силовой установки (400 л.с.) максимальная скорость самолета практически не возросла, так как из-за замены деревянной конструкции металлической вес машины стал больше на 240 кг. Однако, в целом, самолет получился удачным, отличался прочностью и хорошей маневренностью. Он много лет состоял на вооружении итальянских ВВС, применялся в военных конфликтах в Ливии (1927 г.) и Эфиопии (1936 г.), экспортировался в Австрию, Венгрию, Парагвай. В общей сложности заводы фирмы Фиат выпустили почти 70 °CR-20. Из всех стран-участниц мировой войны в наиболее трудном положении в развитии самолетостроения оказались Германия и Советский Союз. Германии было запрещено иметь собственную военную авиацию, поэтому некоторые известные немецкие конструкторы решили покинуть страну. А. Фоккер обосновался в Голландии, А. Рорбах — в Дании, К. Дорнье организовал самолетостроительное производство в Италии. Остальные были вынуждены заниматься созданием разрешенных Версальским договором спортивных и одномоторных коммерческих самолетов, причем их скорость не должна была превышать 170 км/ч, а грузоподъемность — 600 кг. Авиастроение России после революции и нескольких лет опустошительной гражданской войны пришло в полный упадок. Многие талантливые авиационные специалисты эмигрировали за границу, некоторые были расстреляны как «контрреволюционные элементы». Производительность российских авиазаводов в 1920 г. снизилась в 10 раз по сравнению с уровнем 1917 г. В этой ситуации советское правительство возлагало большие надежды на сотрудничество с германскими авиаконструкторами и предпринимателями, которые, в свою очередь, были заинтересованы в поиске рынка авиационной техники. В 1922 г. между СССР и фирмой Юнкерс был заключен договор об участии последней в развитии советской военной авиации. Предполагалось, что немецкие специалисты наладят в СССР производство металлических самолетов различного назначения, авиамоторов, окажут помощь в освоении производства авиационных материалов [7]. Кроме того, в 1923–1925 гг. СССР приобрел у Фоккера около 200 самолетов D.X1. Эта машина являлась развитием знаменитого немецкого истребителя конца первой мировой войны Фоккер D.VII. Как и его предшественник, D.XI представлял собой полутораплан с крылом относительно толстого профиля, что позволяло обойтись без использования межкрыльевых расчалок. Созданный Фоккером в 1923 г., этот самолет с двигателем «Испано-Сюиза» в 300 л.с. не отличался высокими скоростными характеристиками (УМ акс=225 км/ч), но имел прочную и рациональную конструкцию и был весьма надежен в эксплуатации. Кроме СССР, D.XI в меньших количествах поступал на снабжение военно-воздушных сил Аргентины, Испании, Швейцарии, США, Румынии. Странно, но само нидерландское правительство не проявило интереса ни к этому, ни к последующим истребителям А. Фоккера.  Рис. 1.14. Истребитель Фиат Cr-1 Вскоре по заказу Советского Союза Фоккер разработал истребитель D.XIII с более мощным двигателем Нэпир «Лайон» (450 л.с.). По схеме он мало отличался от D.X1. Новый самолет был куплен в количестве 50 экземпляров для секретной немецкой авиационной школы военных летчиков в г. Липецке (рис. 1.15). Что касается сотрудничества с фирмой «Юнкерс», то оно не оправдало возлагаемых на него надежд. Темпы развития производства на выделенном Юнкерсу заводе в Москве сильно отставали от намеченных, а созданные там самолеты обладали весьма невысокими летными характеристиками. Поэтому в марте 1926 г. Политбюро ЦК ВКП (б) постановило расторгнуть договор с Юнкерсом и направить усилия на развитие самолетостроения собственными силами [8].  Рис. 1.15. Истребители Фоккер D.XIII на аэродроме в Липецке Главной проблемой для советской авиации было отсутствие собственных двигателей. Единственным мошным двигателем являлся выпускаемый по лицензии под обозначением М-5 американский «Либерти» (400 л.с.). Однако этот мотор водяного охлаждения, сконструированный еще в голы мировой войны, по весу и габаритам мало годился для самолетов-истребителей. Поэтому советские истребители середины 20-х годов имели больший взлетный вес, чем однотипные зарубежные самолеты. Первые в СССР истребители ИЛ-400 и И-l вышли на испытания в 1923-24 гг. Конструктором первого самолета был Н. Н. Поликарпов, второго — Д. П. Григорович. Оба самолета были снабжены двигателем «Либерти», но на этом сходство между ними заканчивалось. ИЛ-400 (рис. 1.16) являлся свободнонесущим монопланом с деревянным крылом толстого профиля (16 % у корня). И-1 представлял собой обычный деревянный одностоечный биплан с равными по величине крыльями. Благодаря более совершенной аэродинамической схеме на испытаниях ИЛ-400 показал значительно лучшие скоростные свойства: его максимальная скорость достигала 274 км/ч по сравнению с 230 км/ч у биплана Григоровича. Однако полеты самолета Поликарпова сопровождались рядом аварий из-за его недостаточной устойчивости и плохих штопорных характеристик, что было связано с неправильным выбором центровки и большой по тем временам нагрузкой на крыло (79 кг/м~›. Поэтому основным стал более тихоходный И-1 Григоровича: в 1926–1929 гг. построено 209 самолетов И-1 (под маркой И-2), а выпуск ИЛ-400 ограничился 14 машинами. Во второй половине 20-х годов правительство, разуверившись в обещаниях фирмы Юнкерс наладить современное авиастроение в СССР, закупило лицензии на производство зарубежных авиационных двигателей: английского Бристоль Юпитер- VI (в нашей стране он обозначался как М-22) мощностью 480 л.с. с воздушным охлаждением и немецкого двигателя водяного охлаждения BMW-6 (М-17) мощностью 500 л.с. на номинальном режиме. Выбор двух разнотипных двигателей не случаен. На протяжении всего времени существования винтомоторной авиации между специалистами шел спор, какой тип двигателя предпочтительнее для самолета — с водяным или воздушным охлаждением. Рядный или V-образный двигатель водяного охлаждения создавал меньшее лобовое сопротивление и обеспечивал при той же мощности большую скорость полета, а плохообтекаемый, но более легкий звездообразный мотор позволял уменьшить вес машины, и, следовательно, улучшить ее маневренные свойства. Так как в 20-е и в первой половине 30-х годов скорости и маневренности истребителей уделялось одинаковое внимание, в СССР, как и во многих других странах, решили строить самолеты с двигателями обоих типов.  Рис. 1.16. Истребитель ИЛ-400  Рис. 1.17. Истребитель И-3 В 1927–1928 гг. начались испытания бипланов И-4 А. Н. Туполева с М-22 и И-3 Н. Н. Поликарпова с М-17. Как и следовало ожидать, И-3 (рис. 1.17) получился более тяжелым, но более скоростным (Vмакс 278 км/ч), а И-4 — более маневренным. Последний из указанных самолетов имел цельнометаллическую конструкцию из отечественного аналога дюралюминия — кольчугалюминия. Сторонник схемы «свободнонссущий моноплан», А. Н. Туполев, понимая важность снижения нагрузки на крыло для маневренности истребителя, при создании И-4 пошел на компромисс: самолет имел схему «полутораплан», причем площадь нижнего крыла была в 5 раз меньше верхнего. За 1928–1931 гг. советскими авиазаводами было выпущено 389 И-3 и 349 И-4. В самом конце 20-х годов судьба свела вместе двух основных авторитетов (и конкурентов) в проектировании истребителей — Н. Н. Поликарпова и Д. П. Григоровича. Они оба были арестованы по необоснованному обвинению в контрреволюционной деятельности и помещены в Бутырскую тюрьму в Москве. Там им предоставили возможность заниматься авиаконструкторской деятельностью. Результатом совместного творчества двух выдающихся специалистов стал новый истребитель И-5 (рис. 1.18). Этот самолет смешанной конструкции с двигателем воздушного охлаждения М-22 объединил в себе достоинства своих предшественников: по скорости он не уступал И-3, а по маневренности превосходил И-4. Еще до окончания государственных испытаний было решено начать серийное производство самолета. Он строился в большом количестве (803 экз.) и находился на вооружении до конца 30-х годов. Успех этого самолета способствовал освобождению обоих конструкторов.  Рис. 1.18. Первый опытный экземпляр истребителя И-5 Наряду со строительством собственных самолетов, советское правительство в конце 20-х годов купило лицензию на производство истребителя фирмы Хейнкель Не-37. После войны Э. Хейнкель создал ряд спортивных самолетов, занявших призовые места на авиагонках в Германии, а также выполнял отдельные заказы скандинавских государств на военные самолеты. Контракт с советским военным руководством был несравненно выгоднее — в СССР по лицензии был произведен 131 Не-37 под обозначением И-7. Этот самолет-биплан с мотором BMW-6 не проявил каких-либо преимуществ перед отечественным И-5. Посте первой мировой войны ряды стран с авиастроительной промышленностью пополнили новые государства. Активно развивалось производство самолетов в Чехословакии. Наибольшего успеха в строительстве истребителей добилась фирма Авиа, возглавляемая конструкторами Павлом Бенешем и Мирославом Хайном. Первый истребитель этой фирмы — моноплан ВН-3 с подкосным крылом, несколько напоминающий металлический истребитель Юнкерса времен первой мировой войны, появился в 1921 г.(было выпущено только 10 самолетов этой марки). Значительно более известен истребитель-биплан Авиа ВН-21 с двигателем Испано-Сюиза 8Kb мощностью 300 л.с. 120 таких самолетов было заказано для ВВС Чехословакии, кроме того, 50 ВН-21 построили по лицензии в Бельгии. Проектированием самолетов в Чехословакии занималась также фирма Летов. В 1926 г. конструкторы этой фирмы создали истребитель-биплан S-20 с тем же двигателем Испано-Сюиза 8Kb (выпуск этих популярных моторов вела известная чешская фирма Шкода). Самолет имел скорость 256 км/ч — на 10 км/ч больше, чем ВН-21. Всего было произведено 95 самолетов, из них 20 — для ВВС Литвы. В Японии, изучив опыт мировой воины, принялись усиленно развивать военную авиацию. Не располагая собственным опытом в данной области, японское правительство активно использовало зарубежную помощь, привлекая европейских авиаконструкторов к созданию собственных ВВС. Одним из них был автор известных истребителей фирмы Сопвич англичанин Герберт Смит. Под его руководством был построен палубный истребитель Мицубиси 1MF. Как и большинство самолетов рассматриваемого периода, это был одностоечный биплан с двигателем «Испано-Сюиза», 300 л.с. В феврале 1923 г. самолет испытали с палубы первого японского авианосца «Хошо» и затем запустили в серийное производство. До конца 1928 г. было выпущено 128 таких самолетов. Другим японским истребителем, но сухопутным, был Накадзима 91. Конструкция этого легкого монплана-парасоля с двигателем воздушного охлаждения несла явный отпечаток французских истребителей конца 20-х — начала 30-х годов. ВВС Японии получили 320 самолетов Накадзима 91 для замены устаревших французских истребителей Ньюпор-Деляж 29. Э. Хейнкель был еще одним конструктором, принимавшим участие в формировании японской авиации. Созданные им в 1925 г. самолеты-бипланы Не-25 и Не-26 предназначались для использования с кораблей. Однако, в отличие от Мицубиси IMF, они стартовали не с палубы авианосца, а «выстреливались» катапультой с орудийной башни обычного военного корабля. Испытания, проведенные на идущим полным ходом крейсере «Нагато», прошли успешно и Япония приобрела лицензию на производства катапульт и катапультных самолетов фирмы Хейнкель [10, с. 69–75]. В конце 20-х годов к числу стран, производящих собственные самолеты, добавилась Польша. В 1929 г. авиаконструктор Зигмунт Пулавский построил истребитель PZL-1, отличающийся оригинальной конструкцией. Это был первый в авиации подкосный моноплан с крылом типа «чайка»[1]. Такая схема улучшала обзор вперед и позволяла уменьшить сопротивление, возникавшее из-за интерференции между крылом и фюзеляжем. Другим техническим новшеством было шасси, каждое колесо которого имело независимо действующий воздушно-масляный амортизатор. Самолет имел цельнометаллическую конструкцию. PZL-1 в серии не строился, так как был спроектирован под двигатель водяного охлаждения «Испано-Сюиза», а таких двигателей в Польше не выпускали. В 1931 г. на его основе Пулавский сконструировал истребитель PZL-7 с двигателем воздушного охлаждения Бристоль «Юпитер» VII, который производился по лицензии польской промышленностью. Максимальная скорость самолета достигала 317 км/ч, что являлось неплохим показателем для истребителя начала тридцатых годов со звездообразным двигателем. В 1931–1933 гг. было выпущено 149 PZL-7. которые составили основу польской истребительной авиации. Таким образом, Польша стала первой страной имеющей на вооружении исключительно металлические истребители монопланы. Таблица 1.2. Характеристики наиболее известных истребителей 20-х — начала 30-х годов.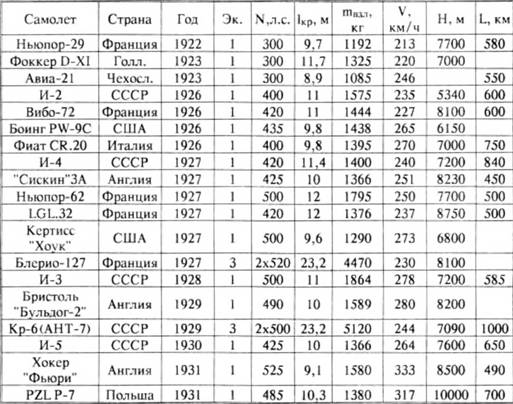 После первой мировой войны продолжилась дифференциация военных самолетов по типам. В классе истребителей появилось два новых вида — легкий истребитель («жокей») и тяжелый многоместный истребитель («воздушный крейсер»). Самолет-«жокей» отличался от обычного истребителя значительно меньшим весом, что достигалось, в основном, меньшим запасом горючего и облегченным вооружением. По назначению это был самолет-перехватчик. Обладая высокой маневренностью и скороподъемностью, «жокей» должен был вести бой с прорвавшимся в тыл воздушным противником, короткими и быстрыми атаками вывести из сл роя вражеский самолет до его подхода к цели. Самолеты этого типа впервые появились во Франции во второй половине 20-х годов. Это Ньюпор-48, Моран-121, Бернар-20, Спад-91. Их взлетный вес был на 100–150 кг ниже, чем у обычных истребителей. В СССР также делалась попытка создать специализированный истребитель- перехватчик — И-8 (АНТ-13) с американским двигателем Кертисс «Конкверрор». Согласно техническим требованиям, утвержденным Управлением ВВС в начале 1930 г., самолет должен был иметь максимальную скорость 310 км/ч на высоте 5 км, потолок — 8500 м, время набора высоты 5000 м — 6–7 минут [9, с. 124]. В связи с тем, что лицензию на «Конверрор» решили не приобретать, самолет в серии не строили. Противоположностью самолету- «жокею» был двухместный истребитель. При проектировании этих самолетов предполагалось, что, начав атаку передними пулеметами, экипаж продолжит ее задней огневой точкой. Таким образом, как полагали, повышалась эффективность атаки и одновременно обеспечивалась зашита самолета сзади. Вместе с тем, двухместный самолет неизбежно обладал худшими летными качествами, чем одноместный истребитель: присутствие второго члена экипажа и задней стрелковой точки увеличивали вес и ухудшали аэродинамику самолета. Поэтому ясного мнения о целесообразности создания двухместных истребителей не было, и число моделей таких машин сравнительно невелико. Поданным Н. И. Шаурова, из 231 типа истребителей, построенных за рубежом в период с 1919 по 1930 гг., только 30 были двухместными [11, с. 29]. Примерами двухместного истребителя 20-х годов являются такие машины как Бреге-17 и Ньюпор-42 во Франции, Бристоль «Файтер» в Англии, Альбатрос-77 (рис. 1.19) и Юнкерс К-47 в Германии. Производство этих самолетов велось ограниченными сериями, не более нескольких десятков экземпляров. Дальнейшим развитием концепции двухместного самолета воздушного боя стал многоместный истребитель или, как его тогда называли, «воздушный крейсер». Как правило, эти самолеты имели два двигателя, 3–5 человек экипажа, мощное пулеметное вооружение. Они предназначались для нападения на самолеты противника и для сопровождения и охраны собственных бомбардировщиков. Последнее требование заставляло иметь на борту большой запас горючего. Самолеты также могли применяться для решения самостоятельных задач — дальней разведки и бомбометания по обнаруженным целям. Первый «воздушный крейсер» был построен во Франции в 1927 г. Этот самолет, Блерио-127, имел два двигателя «Испано-Сюиза» по 520 л.с. Максимальная скорость, составляла 230 км/ч, потолок — 8100 м, экипаж — 3 человека. В том же году на заводе Юнкерса в Швеции создали двухмоторный К-37 — трехместный истребитель, вооруженный 5 пулеметами. Советским «воздушным крейсером» можно считать двухмоторный металлический моноплан АНТ-7. Работу над самолетом А. Н. Туполев начал еще в 1926 г. Он предназначался для отражения атак вражеских бомбардировщиков и для разведки, причем скорость, скороподъемность и максимальная высота полета должны были быть не хуже, чем у обычного истребителя. Испытания начались в 1929 г. В варианте самолета для воздушного боя (Кр-6) самолет имел 3 члена экипажа и был вооружен 4 пулеметами. Два двигателя BMW-6 обеспечивали 5-тонной машине скорость до 244 км/ч, потолок — 7090 м. Из-за необходимости устранения ряда дефектов серийное производство АНТ-7 началось только в 1931 г. К этому времени характеристики самолета уже не соответствовали требованиям к истребителю, поэтому он строился в варианте разведчика под обозначением Р-6 [9.с.220].  Рис. 1.14. Двухместный истребитель «Альбатрос-77» До середины 20-х годов почти все самолеты-истребители имели деревянную конструкцию. К концу десятилетия стало появляться все больше самолетов с каркасом из металлических элементов, обшивка делалась из полотна или фанеры (рис. 1.20). Металл (на легких самолетах-бипланах обычно применяли сталь) по сравнению с древесиной был более однороден по физико-механическим свойствам, более долговечен. Развитие самолетов-разведчиков происходило, в целом, тем же путем, что и истребителей: скорость и грузоподъемность увеличивали повышением мощности двигателей и нагрузки на крыло, в конструкции наблюдалась тенденция перехода от схемы многостоечный биплан с равными тонкими крыльями к схеме одностоечный полутораплан с крылом более толстого профиля (до 12 % относительной толщины). Основное отличие заключалось в том, что на большинстве разведчиков ставили двигатели водяного охлаждения. Такие двигатели были тяжелее и дороже моторов с воздушным охлаждением, но зато благодаря лучшей топливной экономичности они обеспечивали большую дальность полета. Имело значение и то. что двигатель водяного охлаждения менее шумный и самолет-разведчик было труднее обнаружить с земли. Применявшиеся вначале лобовые радиаторы создавали очень большое сопротивление и их вытеснили радиаторы других типов — в форме цилиндров, установленных на стойках шасси, под мотором или по бокам его (радиатор Ламблена), или выдвижные радиаторы, как на самолете Р-5. Преимуществом последнего заключалось в том, что с ростом скорости можно было постепенно вдвигать радиатор в фюзеляж и тем самым уменьшать общее лобовое сопротивление самолета. Это устройство было пригодно и для регулирования температуры воды вместо применявшихся обычно заслонок.  Рис. 1.20. Материал конструкции самолетов-истребителей В результате аэродинамическое качество возросло примерно на 20 %, главным образом, за счет уменьшения коэффициента лобового сопротивления. Тем не менее, по скорости разведчики сильно отставали от истребителей, так как из-за второго члена экипажа, более тяжелого вооружения и большего запаса горючего имели значительно больший взлетный вес при той же мощности силовой установки. Одними из самих массовых самолетов-разведчиков послевоенных лет были советские Р-1 и Р-5. Р-1 (рис. 1.21) представлял собой воспроизводство английского разведчика времен первой мировой войны DH-9 с американским двигателем «Либерти» (М-5) мощностью 400 л.с. В процессе подготовки к выпуску в конструкцию самолета был внесен ряд изменений, в частности использован новый профиль крыла, модифицирована конструкция радиатора, ряд металлических частей заменен на деревянные. Производство Р-1 началось в 1923 г. и продолжалось до 1932 г.; построили 2571 самолет, в том числе 124 — в поплавковом варианте. К моменту начала выпуска самолет в определенной мере морально устарел, однако потребность в военном самолете, который можно было бы использовать для решения широкого круга задач, была сталь велика, что советское руководство решило начать выпуск этого технологичного и неприхотливого в эксплуатации аппарата. О высокой надежности Р-1 свидетельствуют результаты сверхдальнего перелета группы советских летчиков на 6 самолетах различных типов из Москвы через Монголию в Китай (1925 г.) После посадки самолетов в Пекине именно Р-1 был выбран для продолжения полета до Японии. В конце 20-х годов на смену Р-1 пришел Р-5 (рис. 1.22), созданный под руководством Н. Н. Поликарпова. Он стал самым массовым самолетом- разведчиком первой половины 30-х голов. В разных модификациях на заводе № 1 в Москве было построено 6676 самолетов [9, с. 434–435]. Популярности самолета способствовали простая в производстве конструкция, неплохие для конца 20-х — начала 30-х годов летные данные, хорошая устойчивость и управляемость, удобство в эксплуатации. Р-5 был оборудован переставным в полете стабилизатором, позволяющим регулировать запас устойчивости и нагрузки на ручке управления. Другой технической новинкой являлся «самопуск» — баллон со сжатым воздухом для запуска двигателя из кабины. До этого для запуска двигателя приходилось прокручивать воздушный винт с помощью наземного персонала или использовать специальный автомобиль-стартер (рис. 1.23).  Рис. 1.21 Разведчик Р-1  Рис. 1.22. Разведчики Р-5  Рис. 1 23. Запуск описателя с помощью ашомобиля-стартера  Рис. 1.24. Цельнометаллический разведчик Р-3 В 1930 г. Р-5 принимал участие it Международном конкурсе разведывательных самолетов в Иране и продемонстрировал лучшие качества по сравнению с самолетами Англии, Голландии. Франции. В 20-е годы в СССР выпускался также металлический самолет- разведчик Р-3 (ЛНТ-3) (рис. 1.24.) Он был создан конструкторским коллективом А. Н. Туполева, но, в отличие от других цельнометаллических самолетов марки АНТ, имел схему «биплан». По скорости и пилотажным свойствам Р-3 уступал появившемуся вскоре самолету Р-5, поэтому его производство ограничилось выпуском 101 экземпляра. Тем не менее, Р-3 заслуживает упоминания как первый советский серийный цельнометаллический самолет. Среди зарубежных самолетов-разведчиков рассматриваемого периода самыми известными были французский Потез-25 (построено около 4000 самолетов) и голландский Фоккер C–VD (более 1000 экземпляров). Оба они (как, впрочем, и все другие разведчики 20-х годов) были бипланами. Более тяжелый «Потез» (рис. 1.25) кроме фотографического оборудования мог брать до 270 кг бомб и применяться в качестве легкого бомбардировщика, зато более легкий и более совершенный по аэродинамике «Фоккер»[2] имел лучшие скоростные характеристики. Основные данные этих и других самолетов-разведчиков первого послевоенного десятилетия представлены в табл. 1.3.  Рис 1.25. Разведчик Потез-25 Таблица 1.3. Характеристики некоторых самолетов-разведчиков 20-х годов.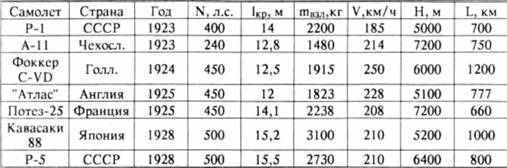 В рассматриваемый период разведчики представляли собой наиболее распространенный тип военного самолета. К началу 30-х годов в СССР разведывательные самолеты составляли 82 % от обшей численности авиапарка ВВС, в Польше — 60 %, во Франции — 44 %, в Италии — 40 %. Несколько меньше был «удельный вес» разведчиков в авиации Германии, США, Англии и Японии — от 37 % до 28 % [9, с. 183; 11, с. 22]. Многомоторные самолеты-бомбардировщики появились в годы первой мировой войны. Прототипом этого класса летательных аппаратов был, как известно, четырехмоторный самолет И. И. Сикорского «Илья Муромец», впервые поднявшийся в воздух в 1913 г. После революции 1917 г. из-за развала авиапромышленности в России и прекращения поставок авиадвигателей из-за границы большая часть этих самолетов пришла в негодность. Между тем, опыт боевых действий показал большое значение тяжелых бомбардировщиков. Поэтому в начале 1919 г. при Главном управлении Военно-воздушного флота была организована Комиссия по воссозданию тяжелой авиации, которую возглавил Н. Е. Жуковский. В 1920 г. она была переименована в Комиссию по тяжелой авиации. Отсюда и происходит название разрабатываемого ею самолета — «КОМТА» (рис. 1.26). В отличие от «Ильи Муромца» новый самолет решили делать по схеме «триплан», с двумя двигателями «Фиат» мощностью 240 л.с. Выбор трипланного крыла небольшого удлинения (2,5) был сделан из соображений, что такое крыло более компактно и имеет меньший вес по сравнению с бипланным. Кроме того, было известно, что за границей конструкторы также работают над тяжелыми самолетами схемы «триплан». Разработкой таких машин занимались фирмы Таррант и Парналл в Англии, Капрони в Италии, Барлинг в США.  Рис. 1.26. Самолет КОМ ТА Продувки модели самолета в аэродинамической трубе дали весьма обнадеживающие результаты. Однако, когда в 1922 г. начались летные испытания самолета, то оказалось, что «КОМТА» даже с минимальной полезной нагрузкой с трудом отрывается от земли, а максимальная скорость полета составляет всего 130 км/ч [12]. Причина заключалось в том, что в первые послевоенные годы теория индуктивного сопротивления и зависимость подъемной силы от удлинения крыла еще не были широко известны. В результате ошибочного выбора формы крыла аэродинамическое качество самолета оказалось значительно хуже, чем предполагалось.[3] Забегая вперед, отмечу, что испытания других тяжелых самолетов-трипланов также закончились неудачей. Таким образом, основной схемой тяжелого бомбардировщика в 20-е годы оставалась опробированная в первой мировой войне схема «биплан» с установленными вдоль размаха крыла двигателями. На рисунке 1.27 показаны схемы основного бомбардировщика ВВС Англии периода войны Виккерс «Вими» и английскою бомбардировщика конца 20-х годов Хендли Пейдж «Хинайди». Как видно, «Хинайди» мало отличался по конструкции от «Вими»: то же двухстоечное крыло с расчалками, тот же угловатый фюзеляж с открытыми кабинами пилотов и стрелка. Снижению лобового сопротивления способствовала замена бипланного хвостового оперения монопланным. Однако аэродинамическое качество самолета, несмотря на некоторое увеличение удлинения крыла, возросло всего на 10 % — сказывалось большое число выступающих в поток деталей, в том числе ничем не закрытые цилиндры моторов воздушного охлаждения. 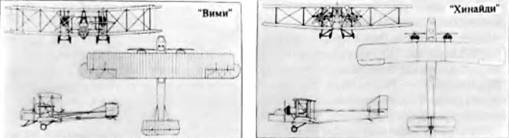 Рис. 1.27. Схемы бомбардировщиков «Вими» и «Хинайди» Другими известными английскими бомбардировщиками 20-х годов был и самолеты Виккерс «Вирджиния» и Боултон-Пол «Сайдстренд». Оба они представляли собой двухмоторные бипланы, в основном, деревянной конструкции. «Вирджиния» была спроектирована для обновления парка бомбардировочной авиации, укомплектованной самолетами «Вими». Она отличалась от своего предшественника большими размерами, новыми двигателями Нэпир «Лайон» и управляемым в полете горизонтальным стабилизатором. Первый полет «Вирджинии» состоялся в ноябре 1922 г., всего построено 162 самолета. Это был самый распространенный английский двухмоторный бомбардировщик двадцатых годов. Превосходя «Вими» по размерам и грузоподъемности, «Вирджиния» оставалась очень тихоходной машиной. Большое лобовое сопротивление 4-стоечного крыла, подкрепленного многочисленными растяжками, незакапотированных двигателей и бипланного хвостового оперения не позволяло самолету развивать скорость более 170 км/ч. По этой причине основные надежды в бою возлагались на оборонительное вооружение. Была даже модификация самолета со специальными «боевыми башнями» — стрелковыми точками на верхнем крыле, вблизи задней кромки. Однако ухудшение аэродинамики (впрочем, на это не обращали большого внимания) и невыносимый холод, уже через несколько минут делающий стрелка небоеспособным, заставили отказаться от этой идеи. Более легким и более скоростным самолетом-бомбардировщиком был Боултон Пол «Сайдстренд». С двумя моторами Бристоль «Юпитер» самолет развивал скорость 225 км/ч, правда бомбовая нагрузка при этом была вдвое меньше по сравнению с «Вирджинией» — 500 кг. Если «Вирджиния» была типичным тяжелым бомбардировщиком первых послевоенных лет, то «Сайдстренд» логичнее отнести к классу средних бомбардировщиков. Последним многомоторным бомбардировщиком-бипланом, поступившим на вооружение английских ВВС, стал Хендли Псйдж «Хейфорд» (рис. 1.29) — развитие самолета «Хинанди», с новыми двигателями Роллс-Ройс «Кестрел»3 и увеличенной до 1300 кг бомбовой нагрузкой. Конструктивной особенностью самолета было то, что фюзеляж соединялся не с нижним, как обычно, а с верхним крылом. Эта схема встречается в истории самолетостроения крайне редко, и ее единственное преимущество было в том, что при аварийной посадке нижнее крыло должно взять на себя основной удар и защитить фюзеляж с расположенными там людьми. С 1930 по 1936 гг. английские заводы произвели 122 «Хейфорда». По конструкции и летным характеристикам это был явно устаревший для своего времени самолет, поэтому он должен был использоваться, главным образом, как ночной бомбардировщик. Наиболее распространенным французским тяжелым бомбардировщиком, пришедшим на смену самолетам времен первой мировой войны, являлся LeO.20 фирмы Лиорс-Оливье. Этот самолет с двумя двигателями Гном-Рон 9 мощностью по 420 л.с. был произведен французской авиапромышленностью в 320 экземплярах. По конструкции он мало отличался от описанных выше бомбардировщиков — такой же трехстоечный биплан с крыльями равного размаха и открытыми кабинами пилота и стрелков, расположенными в фюзеляже прямоугольного сечения.  Рис. 1.28. бомбардировщик Хендли Пейдж «Хинайди» Основные двухмоторные бомбардировщики американских ВВС, появившиеся вскоре после первой мировой войны — это Мартин МВ-2 и «Кистоун». Разработка первого из них началась еще в годы войны, когда американское правительство обратилось к фирме Мартин с предложением создать бомбардировщик, обладающий лучшими характеристиками, чем строящийся в США по лицензии английский Хендли Пейдж 0/400. Прототип первого американского тяжелого бомбардировщика МВ-1 совершил первый полет в августе 1918 г. В следующем году на испытания вышел МВ-2, с новыми, более мощными двигателями «Либерти-12». Этот вариант и был принят на вооружение. До 1927 г. ВВС получило 110 самолетов. МВ-2 (рис. 1.30) оказался еще более тихоходным, чем современные ему английские бомбардировщики: его максимальная скорость составляла всего 160 км/ч. В 1926 г. в ВВС начал поступать новый двухмоторный бомбардировщик LB-5 фирмы Кистоун с теми же двигателями «Либерти». Благодаря уменьшению числа стоек и расчалок крыла скорость самолета возросла, увеличилась и дальность полета. По мере освоения американской промышленностью новых типов двигателей появлялись модификации бомбардировщика, в том числе со «звездами» Пратт- Уитни «Хорнет» и Райт «Циклон». Всего было произведено около 250 «Кистоунов». Большое значение строительству тяжелых бомбардировщиков придавалось в Италии — родине «доктрины Дуэ». Согласно этой теории, решающую роль в будущих войнах сыграет бомбардировочная авиация. Основным типом самолета-бомбардировщика двадцатых годов был двухмоторный Капрони Са-73, созданный в 1925 г. как развитие Са-33 — наиболее распространенного итальянского бомбардировщика времен первой мировой войны. Неудачная в аэродинамическом отношении схема «обратный полутораплан» с расположенной над фюзеляжем тандемной силовой установкой из двух двигателей «Лоррен» по 450 л.с., и бипланным хвостовым оперением и внешней подвеской бомб (по бокам фюзеляжа) ограничивали скорость полета 180 км/ч. Тем не менее, самолет был принят на вооружение и применялся в ВВС до 1934 г. В конце двадцатых годов он прошел «боевое крещение» при подавлении освободительного движения в итальянских колониях в Северной Африке, но соперничать с истребительной авиацией развитых стран этот тихоходный самолет, конечно, не мог, поэтому состоял на вооружении как ночной бомбардировщик.  Рис. 1.29. Бомбардировщик Хендли Пейдж «Хеифорд»  Рис. 1.30. Бомбардировщик Мартин МВ-2 В 1929 г. фирма Капрони выпустила новый самолет Са-90, значительно превосходящий по дальности и грузоподъемности Са-73. Такой же по аэродинамической схеме, этот бомбардировщик был снабжен 6 двигателями, расположенными в тандем в трех мотогондолах: двух на нижнем крыле и одной — между крыльями. Общая мощность силовой установки составляла 6000 л.с., бомбовая нагрузка — 8 тонн, дальность полета — 1300 км. Однако скорость полета 200 км/ч была явно недостаточна для ВВС 30-х годов, поэтому в серии самолет не строился. Примером трехмоторного бомбардировщика является самолет Юнкерс К-30 — военный вариант пассажирского Юнкерс G-23. Так как Германии было запрещено строить военные самолеты, К-30 собирали на заводе Юнкерса в Швеции под видом пассажирского, затем его перегоняли заказчику и там дооборудовали в бомбардировщик. К-30 приобрели СССР (в нашей стране он известен под обозначением ЮГ-1, рис. 1.31), Швеция, Турция. Но большого распространения этот и другие трехмоторные бомбардировщики (LWF, США, 1924 г.: Капрони Са-72, Италия, 1926 г.) не получили, так как установленный в носу самолета двигатель не позволял расположить там пулеметную турель и ухудшал обзор из кабины.  Рис. 1.31 — Юнкерс ЮГ-1 в СССР Особое место среди многомоторных бомбардировщиков 20-х годов занимает созданный в СССР самолет АНТ-4 (ТБ-l) с двумя двигателями М-17 по 500 л.с. Построенный под руководством А. Н. Туполева в ответ на заказ Научно- технического отдела ВСНХ на самолет для «сбрасывания предметов» [13. с. 136], АНТ-4 был первым тяжелым цельнометаллическим бомбардировщиком со свободнонесущим монопланным крылом (рис. 1.32). Эта подлинно новаторская машина воплотила в себе практически все характерные особенности будущих тяжелых бомбардировщиков. В 1930 г. на испытания вышел четырехмоторный ТБ-3 (АНТ-6), являющийся развитием ТБ-1 (рис. 1.33). Подробнее о конструкции этих самолетов будет рассказано ниже, отмечу лишь, что в 30-е годы они составляли основу тяжелой бомбардировочной авиации СССР; их было построено более тысячи экземпляров. В конструкции японского бомбардировщика Мицубиси Ki-2, появившегося в 1933 г… прослеживается заметное конструктивное сходство с советским ТБ-1. Это также был двухмоторный моноплан с низкорасположенным крылом и металлической гофрированной обшивкой. Самолет спроектировала для японских ВВС фирма Юнкерс. Его серийный выпуск начался в 1933 г. и продал- жался до 1938 г., было изготовлено 174 Ki-2. Самолет активно применялся Японией во время войны в Китае [51, с. 156–157]. Лучшим самолетом в классе одномоторных бомбардировщиков был французский Бреге-19 (рис. 1.35). Первый полет этого двухместного биплана с двигателем водяного охлаждения Рено 12Kb состоялся в марте 1922 г., а в следующем году он получил первый приз на конкурсе военных самолетов в Испании. Бреге-19 отличался чистотой внешних форм и рациональной конструктивно-силовой схемой из дюралюминиевых труб, соединенных болтами по фланцам. Металл был применен повсюду, за исключением полотняной обшивки крыльев, хвостового оперения и задней части фюзеляжа. Невысокое аэродинамическое сопротивление достигалось одностоечной схемой крыла, минимальным количеством расчалок, хорошо обтекаемым фюзеляжем овальною сечения. В отличие от большинства других однотипных самолетов того времени, бомбы, общим весом 300 кг, размещались внутри фюзеляжа. (В перегрузочном варианте под крылом могли подвешиваться еще 4 стокилограммовые бомбы). Все это позволяло самолету при мощности двигателя 450 л.с. иметь максимальную скорость 235 км/ч, т. е. по скоростным качествам Бреге-19 не уступал современным ему истребителям. Дальность полета составляла 800 км, вооружение — 4 пулемета, взлетный вес — 2350 кг.  Рис. 1.32. Бомбардировщик ТБ-1  Рис. 1.33. Бомбараировшики ТБ-3 Популярности самолета способствовали осуществленные на нем дальние перелеты: Париж — Гонконг (1924 г.), Сенегал — Бразилия (первый беспосадочный перелет через Южную Атлантику, 1927 г.), Париж — Нью-Йорк (1930 г.) и др. Около 1100 самолетов заказали французские ВВС. Бреге-19 поставлялся также в Польшу, Югославию, Румынию, Китай, Грецию, Аргентину, Турцию, Венесуэллу, Бразилию, выпускался по лицензии в Испании, Бельгии и Югославии. Всего было построено примерно 2400 самолетов. Среди других одномоторных бомбардировщиков 20-х годов следует упомянуть английские Фейри-ЗЭ (1923 г.) и Хокер «Хорсли» (1927 г.), первый чехословацкий самолет-бомбардировщик Летов SM-1 (1921 г.). В аэродинамическом отношении эти угловатые двухстоечные бипланы заметно уступали «Бреге», и их максимальная скорость не превышала 200 км/ч. Соответственно и объем выпуска был значительно ниже — от 100 до 200 экземпляров. Все самолеты были снабжены двигателями водяного охлаждения. В СССР в качестве легких бомбардировщиков использовали разведчики Р-1 и Р-5. Для этого под крылом н фюзеляжем подвешивались бомбы общим весом от 300 (Р-1) до 500 кг (Р-5). Всего в 1931 г. на вооружении состояло более 2000 бомбардировщиков, в том числе в Англии — 824, во Франции — 824, в США — 468. в Италии — 242, в СССР — около 100, в Японии — 60. в Польше — 26 [11, с. 49; 9, с. 432]. Большей частью это были одномоторные машины.  Рис. 1.34. Турельная установка на самолете ТБ-3  Рис. 1.35. Легкий бомбардировщик Бреге-19 Таблица 1.4. Характеристики многомоторных бомбардировщиков.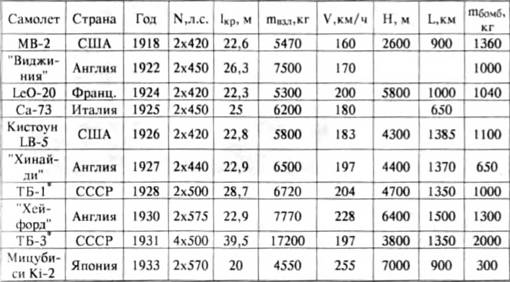 * Приведены данные вариантов с двигателями М-17 Разновидностью легкого бомбардировщика можно считать самолет-торпедоносец. Как известно, самолеты этого типа впервые появились в годы первой мировой войны [14, с. 293]. В этой области лидировала Англия, она же и осталась лидером в послевоенные годы. Ведущим производителем торпедоносцев после войны стала фирма Блекберн. Самолеты Блекберн «Дарт» и Блекберн «Рипон» (последний отличался возможностью складывания крыло назад при стоянке) были обычными бипланами с максимальной скоростью полета 170–200 км/ч (рис. 1.36). Их характерная особенность — шасси без поперечной оси между колесами, позволявшее подвешивать торпеду снизу между стойками шасси. В США примером самолета-торпедоносца являлся Мартин ТЗМ/Т4М (1925 г.). До начала 30-х годов на вооружение военно-морской авиации США было поставлено 276 таких самолетов, причем на модификации Т4М, появившейся в 1927 г., двигатель водяного охлаждения фирмы Паккард был заменен на новый звездообразный двигатель Пратт-Уитни «Хорнет» мощностью 550 л.с. Взлетный вес этого самолета равнялся 3660 кг, максимальная скорость — 183 км/ч, дальность полета — 585 км. экипаж — 3 человека. По конструкции он представлял собой классический биплан и практически ничем не отличался от своих английских собратьев. Дальнейшая дифференциация военных самолетов вела к увеличению разновидности стоящих на вооружении машин. Ото вызывало определенные сложности в подготовке летчиков, в обслуживании материальной части ВВС. Поэтому, наряду с проектированием специализированных боевых машин, были попытки создания «универсального» военного самолета. Одним из сторонников данной идеи был Л. Фоккер. Основываясь на конструкции военного биплана Фоккер-CV (1924 г.), он, путем установки на самолете до 10 типов моторов водяного и воздушного охлаждения мощностью от 230 до 650 л.с. и использования сменных крыльев площадью 28,8 и 39,3 м², создал целую гамму самолетов военного назначения: тренировочный для подготовки военных летчиков, истребитель, разведчик, легкий бомбардировщик [4, с. 17]. Концепция «универсального» самолета, к которой неоднократно обращались на протяжении всей истории авиации, имела ограниченное применение в практике. Неизбежной платой за «многофункциональность» являлось ухудшение летных качеств самолета по сравнению с характеристиками машины, специально спроектированной для решения определенной задачи. Сравнение основных параметров «типичных» самолетов последних лет первой мировой войны и конца 20-х годов показывает, что развитие летных характеристик происходило весьма медленно. За рассматриваемой период скорость полета возросла в среднем на 50 км/ч, высота — на 1000–1500 м, дальность почти не изменилась. Еще медленнее происходил прогресс в области аэродинамического и весового совершенства: аэродинамическое качество повысилось всего на 10 %, весовая отдача практически не изменилась. Рост высотно-скоростных характеристик происходил, главным образом, за счет совершенствования авиадвигателей и, в меньшей степени, за счет увеличения нагрузки на крыло. Из всего сказанного можно было бы сделать вывод, что в двадцатые годы самолет, по существу, не развивался, происходили лишь мелкие усовершенствования образцов авиационной техники периода первой мировой войны. Однако это неверно, т. к. в этот период в авиастроении произошло два важных нововведения: начали создавать специальные пассажирские самолеты и получили развитие цельнометаллические самолеты.  Рис. 1.36. Самолет-торпедоносец Блекберн «Дарт» Зарождение пассажирской авиации Пассажирские перевозки на самолетах начались вскоре после окончания мировой войны. На этот вид применения авиации возлагались большие надежды, т. к. за годы войны качество и надежность самолетов заметно возросли, увеличилась их грузоподъемность. В арсеналах западных стран имелось огромное количество ненужных теперь боевых летательных аппаратов, которые, как полагали, легко можно переделать в гражданские. Регулярные пассажирские авиалинии в Европе начали действовать в начале 1919 г. (Берлин — Веймар; Париж-Брюссель; Париж — Лондон). В СССР развитие воздушных перевозок задержалось из-за гражданской войны. Первая пассажирская авиалиния Москва — Харьков была организована в мае 1921 г. 1 мая 1922 г. начала работу международная авиалиния Москва — Кенигсберг, которую обслуживало российско-германское общество воздушных сообщений «Дерулюфт». В том же году начались регулярные воздушные перевозки по маршруту Москва — Нижний Новгород, но продолжались они не долго из-за изношенности авиапарка нашей страны. К началу 20-х годов в Западной Европе образовалась целая сеть воздушных линий. Обилие самолетов и моторов, наличие большого числа демобилизованных летчиков и механиков побуждали правительства и частные компании к использованию открывшихся возможностей для организации воздушных линий. Однако оказалось, что все не так легко и просто, как думалось. На первых авиалиниях использовались переделанные в пассажирские самолеты-бомбардировщики времен первой мировой войны: Виккерс «Вими» и DH-10 — в Англии, Бреге-14 — во Франции, «Илья Муромец» — в России, Цеппелин-Штакен — в Германии, Капрони Са-73 — в Италии. Но, как показал опыт, далеко не всякие самолеты были удобны хля воздушных перевозок. Бомбардировщики, переделанные в пассажирские самолеты, имели слишком узкий фюзеляж и могли брать на борт только очень небольшое число пассажиров. Кроме этого, такие самолеты не обладали большим ресурсом, а их мощные двигатели расходовали слишком много топлива. В результате стоимость билетов была очень высока. Например, для полета из Лондона в Париж пассажир должен был уплатить 21 фунт стерлингов (а не 5, как представлялось за год до открытия авиалинии) [15,с.31]. Для тех лет этобыли большие деньги. К дороговизне воздушных путешествий примешивался страх перед полетом, поэтому желающих воспользоваться услугами воздушного транспорта было немного. Выяснилось также, что организация воздушных сообщений требует подготовительной работы. Нужно было создавать аэропорты, промежуточные посадочные площадки, службу связи, маяки и т. д. Итак, первоначальные оптимистические предположения о быстром развитии воздушного сообщения не оправдались. Гражданская авиация могла развиваться только при условии государственных субсидий. Финансовая помощь позволила бы создать новые, более надежные, экономичные и комфортабельные машины, наладить службу управления воздушным движением. Первой начала выделять субсидии на развитие коммерческой авиации Франция. В результате, в первой половине 20-х годов французская пассажирская авиация занимала по объему перевозок лидирующее положение в мире. В 1921 г. финансовую помощь на воздушный транспорт начало ассигновать английское правительство. Большие ежегодные дотации выдавались в Германии. Как уже говорилось, по условиям Версальского договора эта страна не могла иметь военной авиации и, субсидируя развитие гражданских самолетов, германское правительство поддерживаю таким образом существование всего немецкого авиастроения. СССР уплачивал ежегодно 100 тыс. рублей на поддержку работы общества «Дерулюфт» [7]. В США развитие коммерческой авиации началось с перевозок почты по воздуху. Первая регулярная авиапочтовая линия открылась в августе 1918 г. (Вашингтон — Филадельфия). Письма и посылки представляли собой более «плотный» груз, чем пассажиры, поэтому использовались небольшие одномоторные самолеты типа бипланов Кертисс JN-4 «Дженни» или DH-4. Хотя транспортировка почты по воздуху была экономически выгоднее, чем перевозки людей, авиапочта также не могла существовать без государственных субсидий. Правительство оказывало помощь и в развитии наземных служб обеспечения полетов. Вследствие этого к моменту организации в США первых регулярных пассажирских воздушных перевозок (1927 г.) там уже имелась хорошо налаженная сеть авиалиний. Для того, чтобы сделать авиаперевозки доходным и привлекательным для пассажиров делом, требовалось создание специальных пассажирских самолетов — более вместительных, надежных, комфортабельных, экономичных. Можно выделить два основных подхода к созданию таких самолетов. Один, характерный для авиации Англии и Франции, заключался в использовании опыта проектирования бомбардировщиков военного времени. Это были одно- и двухмоторные бипланы, способные брать 10–20 пассажиров. К другой конструкторской школе относятся первые немецкие, голландские и советские пассажирские самолеты: одномоторные монопланы с широким применением металла в конструкции, рассчитанные на 4–6 пассажиров. Этот класс самолетов основывался на опыте строительства металлических военных самолетов в Германии в конце первой мировой войны. Первым самолетом-бипланом, построенным специально для пассажирских перс- возок, был французский Фарман F-60 «Голиаф» (рис. 1.38). Он поступил на эксплуатацию в 1919 г. По сравнению с бомбардировщиками этот самолет имел более объемный фюзеляж, позволявший удобно разместить внутри 12 пассажиров: 4 в носовой кабине и 8 — в хвостовой. Между пассажирскими отсеками, вблизи передней кромки крыльев, находилась открытая кабина пилота и механика. Характерный вид самолету придавали широкие обтекатели стоек шасси — так называемые «штаны». Было построено около 60 Фарман F-60. Они использовались на авиалиниях Париж — Лондон, Париж — Брюссель; 6 машин изготовили по лицензии в Чехословакии [5,с. 378]. 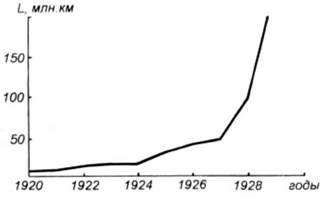 Рис. 1.37. Годовой налет на авиалиниях  Рис. 1.З8. Самолет Фарман F-60 «Голиаф» В Англии самым известным двухмоторным пассажирским самолетом начала 20-х годов был Хендли Пейдж W8B с двигателями Роллс-Ройс «Игл». Он также брал на борт 12 пассажиров, но, в отличие от французского «Голиафа», пассажиры располагались в одной общей кабине, по 6 в ряд, на таком расстоянии друг от друга, чтобы сидящий человек мог свободно вытянуть ноги. Около каждого креста имелось большое окно, в жаркую погоду пассажир мог открыть его. Спереди и сзади пассажирского салона находились багажные отсеки. Экипаж (летчик и механик) располагался в открытой кабине в носу фюзеляжа. Первый полет самолета состоялся в декабре 1922 г., ас 1924 г. авиакомпания «Империал Эрвейз» закупила W8B для обслуживания линии Лондон — Париж. Там они находились на эксплуатации до 1932 г. Несколько самолетов этой марки построили в Бельгии [16, с. 68b-69b]. По сравнению с переделанными на скорую руку из бомбардировщиков гражданскими самолетами, описанные выше пассажирские машины с более просторной кабиной отличались большим комфортом для пассажиров, а их двигатели, работавшие с пониженным числом оборотов, чем на военных самолетах, имели меньший часовой расход горючего и обладали лучшим ресурсом. Это. наряду с большей пассажировместимостью, позволило вдвое снизить эксплуатационные расходы на пассажиро-километр (рис. 1.39). Принципиально иной подход к созданию самолетов наблюдался в деятельности немецкого авиаконструктора Г. Юнкерса. По условиям Версальского договора Германия могла производить самолеты с грузоподъемностью не более 600 кг (включая вес членов экипажа). Поэтому приходилось строить небольшие одномоторные машины, обычно на 4-х пассажиров. 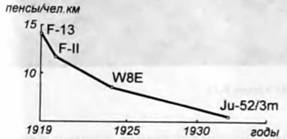 Рис. 1.39. Изменение себестоимости воздушных перевозок Являясь в годы войны конструктором первых цельнометаллическиих самолетов. Юнкерс опирался на этот опыт и при создании своих пассажирских машин. Применение металла позволяло применить схему свободнонесущий моноплан. Крыло имело толстый профиль и гофрированную дюралюминиевую обшивку. Металлические самолеты Юнкерса отличались удобством в эксплуатации и большим сроком службы. Поэтому уже первый пассажирский самолет F-13 принес Юнкерсу мировую известность. Разработкой этой машины занимался конструктор фирмы Отто Ройтер. F-13 совершил первый полет 25 июня 1919 г. Это был низкоплан с закрытой кабиной на двух членов экипажа и четырех пассажиров (рис. 1.40). В зимнее время воздух в кабине подогревался. Крыло большой толщины позволяло разместить внутри топливные баки, поэтому весь объем фюзеляжа мог быть использован для коммерческой нагрузки. В связи с тем, что в зависимости от количества пассажиров центровка самолета менялась, сзади имелся специальный уравновешивающий бак с жидкостью. С мотором ВМ W-3 мощностью 185 л.с. самолет мог летать на дальность 540 км со скоростью около 150 км/ч [17; 18.C.31–34].  Рис. 1.40. Юнкерс F-13 Внешне F-13 очень отличался от других самолетов того времени, и вначале летчики относились к нему с недоверием из-за отсутствия привычного для глаза бипланного крыла со стойками и расчалками. Однако вскоре проявились его отличные эксплуатационные свойства: не было необходимости заниматься регулировкой растяжек и следить за натяжением обшивки, самолет был меньше подвержен воздействию погоды. Низкорасположенное металлическое крыло защищало кабину самолета при аварии, помогало самолету держаться на плаву в случае вынужденной посадки на воду. Не удивительно, что Юнкерс F-13 стал одним из самых популярных гражданских самолетов 20-х годов. Он применялся на авиалиниях более, чем 33 стран. После Германии больше всего этих самолетов было в СССР: на маршрутах «Добролета», «Укрвоздухпути» и «Дерулюфта» эксплуатировалось 49 F-13. 26 «Юнкерсов» закупили США, 17 — Колумбия, 12- Италия. Всего же в 1919–1929 гг. на заводах Юнкерса было построено 314 F-13 [17, с. 66]. С годами в конструкцию самолета вносились изменения. В 1920 г. Юнкерс заменил деревянный пропеллер на более прочный, металлический. Во второй половине 20-х годов на самолет установили двигатель Юнкерс L-5, развивавший 310 л.с. С ним грузоподъемность самолета возросла с 600 до 900 кг, максимальная скорость достигла 180 км/ч. Развитием первого пассажирского «Юнкерса» стал грузо-пассажирский Юнкерс W-33 (рис. 1.41). Имея ту же схему, самолет отличался большими размерами и мог брать на борт более тонны топлива и груза. В пассажирском варианте в кабине устанавливали 6 кресел для пассажиров. Двигатель — Юнкерс L-5. W-33 прославился первым беспосадочным перелетом через Северную Атлантику из Европы в Америку. Специально подготовленный хтя этого самолет получил название «Бремен». Экипаж из трех человек под руководством Германа Катя стартовал 12 апреля 1928 г. из Дублина (Ирландия) и после 36 часов пребывания в воздухе «Бремен» приземлился на о. Гринли, недалеко от о. Ньюфаундленд Дальность полета составила 3600 км 119 |.  Рис. 1.41. Самолет W 33 (ПС-4) в СССР W-33 и его модификацию W-34 (с двигателем «Гном-Рон», 375 л.с.) строили серийно, в количестве 44 самолетов. Кроме того, в нашей стране было изготовлено около 15 W-33 (под названием ПС-4). Помимо Германии, W-33 и W-34 применялись в СССР, Персии, Афганистане, Австралии и многих других странах [17, с. 124; 20. с. 301]. А.Фоккер, один из самых известных немецких авиаконструкторов периода первой мировой войны, после поражения Германии перенес свою самолетостроительную деятельность в Голландию. Вскоре он организовал там выпуск одномоторных пассажирских самолетов. Первый из них, F.I1, был построен ведущим конструктором фирмы Фоккер Рейнхольдом Платцем в 1919 г. При создании самолета использовалась та же схема, что и на знаменитом истребителе времен первой мировой войны Фоккер О. VIII. F.II (рис. 1.42) представлял собой моноплан, но, в отличие от Юнкерс F-13, крыло имело деревянную конструкцию, а сварной из стальных труб фюзеляж прямоугольных очертаний был покрыт полотняной обшивкой. Крыло крепилось к верхней части фюзеляжа. Такая схема, получившая вскоре широкое распространение, имела то преимущество, что крыло не закрывало пассажирам обзор вниз и позволяло любоваться красотами природы из окна кабины. Самолет был снабжен двигателем BMW-3 и рассчитан на перевозку пяти пассажиров. Летчик размещался в открытой кабине перед крылом, рядом с двигателем, и по совместительству выполнял функции механика. Первый построенный самолет разбился при испытаниях. Однако полеты второго экземпляра были вполне успешны, после чего начался серийный выпуск. За F.II последовал F.III — аналогичный по конструкции, но с более мощным двигателем: Роллс-Ройс «Игл», 360 л.с. или Армстронг Сиддли «Пума», 240 л.с. Большое внимание конструкторы уделили интерьеру пассажирской кабины, выполненной в «викторианском стиле». Самолет обладал хорошими летными качествами, низкой посадочной скоростью. Авиационный ежегодник «Джейн» так характеризовал эту машину: «Простота и легкость пилотирования, присущие маленькому истребителю, удивительны для такого большого самолета как F.III. Крейсерская скорость около 160 км/ч. Еще одним преимуществом является то, что даже малоопытный пилот может совершить на нем при необходимости посадку на сравнительно небольшой площадке. Характеристики машины замечательны, учитывая весьма небольшую мощность двигателя» [16, с. 192b]. С появлением более мощных двигателей в середине 20-х годов фирмой Фоккер создаются новые модели, с большей коммерческой нагрузкой — F.VII, F.VIIa (рис. 1.43). С двигателем воздушного охлаждения «Юпитер-4» мощностью 450 л.с. эти самолеты могли перевозить 8 пассажиров.  Рис. 1.42 Фоккер F.II  Рис. 1.43. Фоккер F-VIU Цельнометаллический «Юнкерс» был, конечно, прочнее и долговечнее пассажирских самолетов фирмы Фоккер. «Фоккеры» же подкупали сравнительной дешевизной, простотой ремонта. Конструкция фюзеляжа была выполнена из труб одного лиаметра, соединенных сваркой. При необходимости поврежденный участок трубы выпиливали и на его место приваривали новый. Эту простую операцию можно было выполнять в полевых условиях. Все это предопределило широкое распространение самолетов «Фоккер» в пассажирской авиации. В 1920 г. F.I1 и F.II1 купила голландская авиакомпания KLM для полетов между Амстердамом и Лондоном. Позднее «Фоккеры» приобрети «Люфтганза», «Дерулюфт» и другие авиакомпании. 20 самолетов Фоккер F.III с мотором Роллс- Ройс «Игл» мощностью 360 л.с. обслуживали авиалинию Москва — Берлин, летали на маршруте Москва — Минеральные воды [20, с. 298]. На построенном в США под обозначением Т-2 варианте пассажирского «Фоккера» с двигателем «Либерти», 450 л.с., в 1923 г. был совершен первый в этой стране беспосадочный перелет через весь континент, от одного океана к другому. Тяжело нагруженный самолет, имеющий на борту 2745 л горючего, стартовал на аэродроме Рузвельт-Филд в Нью-Йорке 2 мая и сутки спустя приземлился на аэродроме города Сан-Диего. Летчики Д. Макрели и О. Келли преодолели дистанцию н 4088 км за 26 час. 50 мин. [21,с. 45–46]. Третьим представителем семейства первых пассажирских самолетов-монопланов была «Комета» К. Дорнье. Этот самолет, появившийся в 1922 г., являлся как бы гибридом описанных монопланов Юнкерса и Фоккера. Как и Фоккер, Дорнье сделал самолет по схеме верхнеплан, но выполнен он был целиком из металла. Основное отличие в конструкции заключалось в применении подкосов от фюзеляжа к крылу. Это техническое решение позволяло в 3–5 раз снизить изгибающий момент по сравнению со свободнонесущим крылом и уменьшить вес конструкции. Правда, подкосы увеличивали аэродинамическое сопротивление самолета, но при скоростях 150–180 км/ч это не принималось во внимание. Поэтому данная схема стала вскоре очень популярной для пассажирских самолетов. В учебнике по конструкции самолетов (1933 г.) отмечалось: «Монопланы с подкосами являются чрезвычайно удобными как в конструктивном, так и в эксплуатационном отношениях, гак как допускают, с одной стороны, применение крыльев сравнительно небольшой толщины, а, с другой, при наличии регулирующих подкосов допускают удобную регулировку крыльев. Этот тип получил очень большое распространение и является в настоящее время своего рода стандартом» [22, с. 54]. Другой характерной деталью первых пассажирских самолетов Дорнье являлось шасси: горизонтальная ось колес проходила через днище фюзеляжа, и при посадке казалось, что самолет садится «на брюхо». Как и описанные выше первые самолеты Юнкерса и Фоккера, «Комета-1» и «Комета-2» были рассчитаны на перевозку 4 пассажиров в закрытой кабине. Летчик и механик сидели в открытой кабине у передней кромки крыла. Двигатель BMW-3a позволял развивать скорость до 165 км/ч. В 1924 г. фирма выпустила самолет «Комета-3», больший по размерам, с более мощным двигателем, способный перевозить 6 пассажиров. Для лучшего обзора из пилотской кабины назад крыло приподняли над фюзеляжем на невысоких стойках. Претерпела изменения и конструкция шасси — оно стало обычного типа, с увеличенным зазором между землей и фюзеляжем. Следующим в ряду пассажирских самолетов К. Дорнье был «Меркюр» (1925 г.). С двигателем BMW-6 мощностью 500 л.с. этот самолет (рис. 1.44) уже мог брать 8-10 пассажиров, имел крейсерскую скорость 175 км/ч. Пассажирские «Дорнье» применялись в Германии на линиях компаний «Аэро Ллойд» и «Люфтганза». Эксплуатировались они и в нашей стране. Несколько «Комет» первых выпусков летало на маршрутах «Укрвоздухпути», «Комета-3» и «Меркюр» использовались на линии «Москва — Кенигсберг — Берлин». «Комета-3» строилась по лицензии в Японии. В 1923 г. «Укрвоздухпуть» также намечал в наладить выпуск «Комет» на бывшем авиационном заводе фирмы «Анатра» в Севастополе, причем в качестве главного конструктора планировалось пригласить самого К. Дорнье. Однако эта идея не получила поддержки Москвы: СССР нуждался, прежде всего, в военных самолетах [23]. Во второй половине 20-х годов конструктор К. А. Калинин, работавший на Украине, построил по схеме «Кометы» несколько одномоторных пассажирских самолетов. Наиболее удачным из них был К-5 (1929 г., рис. 1.45). Изготовленный из недефицитных материалов-дерева, фанеры, дюралевых труб и полотна, самолет был дешевым в производстве и легко ремонтировался. Благодаря сравнительно большой пассажировместимости (8 пассажиров) он оказался экономичнее многих других самолетов того времени и вытеснил немецкие машины с авиалиний на Украине. С двигателем воздушного охлаждения М-15 мощностью 450 л.с. самолет имел крейсерскую скорость 155–160 км/ч, а большой практический потолок (4270 м) позволял самолетам перелетать Главный Кавказский хребет на маршруте Тбилиси — Москва. Всего было построено 258 К-5 [9, с. 364, 434–435].  Рис. 1, 44. Дорнье «Меркюр»  Рис. 1.45. Калинин К-5 Необычной особенностью пассажирских самолетов Калинина была эллиптическая форма крыла. Это было сделано для того, чтобы уменьшить индуктивное сопротивление несущей поверхности. Из исследований Л. Прандтля и его сотрудников по теории индуктивного сопротивления в начале 20-х годов стало известно, что Сх инд.= кСу2 /Я, где коэффициент к зависит от формы крыла. При эллиптической форме благодаря наивыгоднейшему распределению давления вдаль размаха он был наименьшим, следовательно, достигалось меньшее индуктивное сопротивление. В дальнейшем эллиптическое крыло применялось довольно редко, т. к. снижение Сх инд было незначительным (менее 5 %) и не оправдывало технологические трудности изготовлении крыла криволинейных очертаний. Более перспективной особенностью пассажирских самолетов Калинина являлась закрытая кабина летчиков с остеклением впереди и по бокам (впервые — на самолете К-1, 1925 г.). Вход в нее осуществлялся через дверь в передней перегородке пассажирского салона. Закрытая и отапливаемая кабина сделала работу экипажа приятнее, особенно в осенне-зимний сезон. На ранней стадии развития авиации нередко случались поломки в полете. Например, в одной из лучших авиакомпаний мира — «Люфтганза» — происходило окаю 100 вынужденных посадок в год [24, с. 423]. Особенно опасен был отказ двигателя. В конце 1922 г. во время показательных полетов F-13 в Южной Америке из-за этого погиб сын Гуго Юнкерса — Вернер Юнкерс. Применение двухмоторных самолетов не решало проблемы — запас мощности был невелик, и при отказе одного двигателя самолет не мог продолжать полет. Все, на что был способен второй мотор — это замедлить скорость снижения.  Рис. 1.46. Армстронг Уитворт «Аргоси» Указанные трудности предопределили появление трехмоторных пассажирских самолетов. Третий двигатель ставился впереди фюзеляжа. Это, конечно, портило аэродинамику и увеличивало шум в кабине, но зато самолет мог лететь при остановке одного из моторов, т. е. был более безопасен. Одновременно увеличивалась обшая мощность, а, следовательно, и грузоподъемность самолета. Первым трехмоторным пассажирским самолетом был английский биплан Хендли Пейдж W8E. Он создан как модификация уже упоминавшегося пассажирского самолета W8B, заключавшаяся в установке на фюзеляже третьего двигателя. W8E совершил первый полет в мае 1924 г., а с 3 ноября того же года начал применяться на авиалиниях. Всего было построено 11 таких самолетов [15, с. 32]. Примеру Хенхти Пейдж последовали известные английские фирмы Армстронг Уитворт и Де Хевилленд. AW «Аргоси» (1926 г.) был самым большим трехдвигательным пассажирским самолетом своего времени (рис. 1. 46). Он мог брать на борт до 20 пассажиров и перевозить их со скоростью 145 км/ч на расстояние 650 км. Его конкурентом стал 14-местный DH-66 «Геркулес». Большая мощность двигателей и меньшая коммерческая нагрузка позволяли эксплуатировать его в жарких регионах Земли, где условия для полетов труднее. Так, с 1927 г. DH-66 применялся авиакомпанией Империал Эрвейз на маршруте Каир — Басра, позднее летал в Южной Африке |5, с. 309]. В США в 1928 г. фирма Боинг выпустила трехмоторный «Боинг-80». Три Пратт- Уитни «Уосп» позволяли перевозить 12 пассажиров. Вариант «Боинг-80А» с более мощными двигателями «Хорнет» мог брать до 18 пассажиров. Это был первый пассажирский самолет, имеющий в салоне по три кресла в ряд. Построено 14 самолетов этого типа. В середине 20-х годов на авиалиниях появились также трехмоторные самолеты схемы моноплан. Пионером в создании таких машин была фирма Юнкерс. На рис. 1.47 показан первый трехмоторный металлический самолет-моноплан Юнкерс G-23 (1924 г.). По конструкции он, в основном, повторял известный Юнкерс F-13, но, имея не один, а три мотора, отличался большими размерами и вдвое большей пассажировместимостью: в закрытой кабине располагалось 8 человек сбагажом. Солидный запас топлива обеспечивал дальность более тысячи километров при крейсерской скорости 140 км/ч. Чтобы избежать нарушения запрета на создание многомоторных самолетов в Германии, Юнкерс организовал их строительство за рубежом, в Швеции.  Рис. 1.47. Юнкерс G-23 Юнкерс G-23 послужил началом целого семейства пассажирских монопланов с тремя двигателями: G-24, G-31, G-52/Зт. Главным конструктором всех этих самолетов был Эрнст Циндель (создатель первого пассажирского «Юнкерса» О. Ронтер скончался в 1922 г.) Оставаясь близкими по конструкции, они отличались большими скоростью и пассажировместимостью и, как следствие, лучшими экономическими характеристиками. Так, G-24 брал 10 пассажиров и имел крейсерскую скорость 150 км/ч, G-31 при той же скорости мог перевозить уже 16 человек, а G-52/Зт при сохранении числа пассажирских мест развивал скорость 200 км/ч. Себестоимость пассажиро-километра у этого самолета была вдвое меньше посравнению с С-23 1151. Развитие происходило, главным образом, за счет совершенствования авиадвигателей: суммарная мощность силовой установки G-23 равнялась 495 л.с., G-24 — 890 л.с., G-31 — 1350 л.с., G-53/3m — 1980 л.с. Для рекламы новых трехмоторных самолетов был организован ряд демонстрационных полетов. В 1926 г. немецкие летчики на двух G-24 выполнили перелет Берлин — Пекин, через всю территорию СССР. Инициатором этого путешествия была «Люфтганза», занимавшаяся разведкой маршрутов из Европы на Дальний Восток. Год спустя Юнкерс G-24 установил 11 мировых рекордов скорости и продолжительности полета с грузом 1000 и 2000 кг. Всего было построено более 70 G-23 и G-24. В конце двадцатых годов они составляли почти половину летного парка «Люфтганзы» [17, с. 86, 102–104, 122–123]. Однако наиболее известным трехмоторным «Юнкерсом» был G-52/Зт (рис. 1.48). Сконструированный в 1931 г. на основе одномоторного G-52, этот самолет стал одним из основных европейских пассажирских самолетов 30-х годов. В 1937 г. G-52/Зт эксплуатировался 27 авиакомпаниями мира, причем в «Люфтганзе» он составлял 85 % самолетного парка. На нем стояли различные типы звездообразных двигателей — немецкие BMW-132, американские Пратт-Уитни «Хорнет», «Уосп» и др. Самолет отличался исключительной надежностью — регулярность полетов составляла 97 %. По данным справочника «Джейн», до 1940 г. было построено 575 G-52/Зт. В годы второй мировой войны он выпускался в больших количествах как военно-транспортный самолет, причем один из самолетов находился в эксплуатации в ВВС Швеции до 1979 г.! [5, с. 539; 17, с. 172]. Примеру Юнкерса последовали многие авиаконструкторы: Фоккер — в Голландии, Форд — в США, Туполев — в СССР, Фарман — во Франции. Трехмоторные Фоккеры F-VII/Зm с 1926 г. применялись на авиалиниях всего мира, было выпущено свыше 200 самолетов. Имея более простую и технологичную конструкцию из соединенных сваркой металлических труб, фанеры и полотна и звездообразные двигатели «Уирлвинд», спроектированные фирмой Райт в США. где к середине 20-х годов добились больших успехов в создании авиамоторов с воздушным охлаждением, эти самолеты были дешевле самолетов Юнкерса, что предопределило их успех. История создания F-VII/Зm такова. В 1925 г. автомобильный магнат Генри Форд организовал перелет самолетов между крупными городами Америки, с целью отобрать лучший в качестве образца для американского пассажирского самолета. К этим состязаниям А. Фоккер в срочном порядке модифицировал свои одномоторный F-VII в трехмоторный. Первый полет нового самолета состоялся 4 сентября 1925 г., а в конце месяца он уже был в США. Во время состязаний за штурвалом находился сам Фоккер или его заводской пилот. Среди участников перелета F- VII/3m был единственной трехмоторной машиной, и по скорости, скороподъемности и грузоподъемности ему не было равных [25. с. 61–63].  Рис. 1 48, Юнкерс G-52/3m Рекламу новому «Фоккеру» сделали также дальние перелеты в неосвоенных областях Земли. В 1926 г. американский летчик Ричард Верд выбрал F-VII/3m для полета к Северному полюсу. Это была та самая машина, которая блестяще показала себя на состязаниях 1925 г. Воздушную экспедицию финансировал Г. Форд, поэтому самолет назвали в честь дочери мецената «Жозефина Форд». 9 мая Берд и его компаньон Ф. Беннетт впервые пролетели на самолете над самой северной точкой Земного шара[4]. Голландский летчик Коппен долетел из Амстердама до Батавии (Индонезия, в то время — голландская колония) за 14 дней, установив новый рекорд скорости, а в 1928 г. австралийский экипаж под руководством Ч. Кингсфорд-Смита на F-VII/Зm «Южный крест» (рис. 1.49) совершил первый в истории перелет через Тихий океан из Сан-Франциско в Австралию, с промежуточными посадками на Гавайских островах и острове Фиджи. Расстояние в 11260 км было преодолено за 83 часа 38 мин летного времени [26, с. 411].  Рис. 1.49. Фоккер F-VII/Зm «Южный Крест» Успех самолета F- VII/3m во время воздушных состязания в США в 1925 г. открыл Фоккеру дорогу в американскую авиапромышленность. С конце 1925 г. в США начала действовать фирма «Фоккер Эркрафт Корпорейшн» (затем переименованная в «Америкен Фоккер Корпорейшн»), занимающаяся, в основном, выпуском трехмоторных пассажирских самолетов — 8-местного F-VI1 и 12-местного F-10. Всего было построено более ста таких самолетов. В конце 20-х годов «Фоккеры» составляли свыше 40 % самолетного парка американских авиакомпаний [25, с. 73–75]. В 1926 г. выпуск трехмоторных пассажирских самолетов начал сам Генри Форд. Самолет Форд «Тримотор» (рис. 1.50), созданный конструктором Уильямом Стаутом, строился в большом для тех времен количестве — более 200 экземпляров, и его появление способствовало началу регулярных авиаперевозок в США. Внешне он напоминал Фоккер F-VII/Зm. но имел цельнометаллическую конструкцию, более мошные двигатели, большую скорость и мог брать на борт до 13 пассажиров. Такие новшества, как тормозные колеса и управляемый хвостовой костыль облегчали движение по аэродрому. Первый советский многомоторный пассажирский самолет АНТ-9 (рис. 1.51) создали в ОКБ А. Н. Туполева в 1929 г. Сделан он был, как и другие самолеты Туполева, целиком из дюралюминия, причем при постройке использовались консоли крыла от военного АНТ-7 (Р-6). По схеме самолет представлял собой верхнеплан «фоккеровского» типа, рассчитанный на перевозку 9 пассажиров при двух членах экипажа. Просторный пассажирский салон был оборудован туалетом, гардеробом и багажным отделением. На опытном самолете стояли три французских звездообразных мотора Гном-Рон «Титан» по 230 л.с. каждый. Максимальная скорость полета составляла 209 км/ч, дальность с потной коммерческой нагрузкой — 1000 км. Первый полет АНТ-9 состоялся в мае 1929 г., а уже летом 1929 г. М. М. Громов выполнил на этом самолете с 8 пассажирами перелет по маршруту Москва — Берлин — Париж — Рим — Марсель — Лондон — Париж — Берлин — Варшава — Москва протяженностью 9037 км за 53 летных часа со средней скоростью 177 км/ч. В начале 30-х годов АНТ-9 с американскими двигателями Райт «Уирлвинд» поступили в эксплуатацию на линии Москва — Кенигсберг- Берлин. Широкому использованию АНТ-9 в авиации помешало отсутствие в то время в СССР собственных мощных двигателей воздушного охлаждения. Из-за этого большая часть самолетов выпускалась в двухдвигательном варианте, с освоенными нашей промышленностью моторами М-17 (BMW-VI). Всего было построено 66 АНТ-9. из них 60 — двухмоторных [9. с. 368, 434–435].  Рис. 1.50. Форд «Тримотор» Следующим шагом в развитии пассажирских самолетов явилось создание четырехмоторных машин. Первым это сделал А. Фоккер. В 1929 г. его фирма в США выпустила F-32 — 32-местный моноплан с верхнерасположенным крылом и четырьмя двигателям Пратт-Уитни «Хорнет», установленными тандемно в двух мотогондолах под крылом. Пассажирский салон был разбит на четыре отсека, по восемь человек в каждом. Экипаж — 2 человека. Первый экземпляр самолета, проданный одной из американских авиакомпаний, разбился в ноябре 1929 г. При взлете у него один за другим отказали оба двигателя на одном крыле.  Рис. 1.51. АНТ-9 Машину развернуло, она скользнула на крыло и упала. К счастью, пассажиры успели выбраться из самолета ло того, как взорвались топливные баки [25, с. 76]. Несмотря на этот случай, на самолет все же нашлись заказчики — в то время Фоккер пользовался большим авторитетом в США. Правда, их было немного, и выпуск F-32 ограничился 10 самолетами. Они летали в авиакомпании «Вестерн Эр Экспресс» по маршруту Лос-Анжелос — Сан-Франциско, а также использовались для перевозки почты и пассажиров через всю страну — от Тихоокеанского побережья до Нью-Йорка. В Европе четырехмоторные пассажирские самолеты впервые появились в Англии. Британская империя, имея обширные колониальные земли в Азии и Африке, нуждалась в самолетах, которые могли бы перевозить людей, почту и грузы на дальние дистанции. Четыре мотора позволяли увеличить размеры самолета и взять на борт больше топлива без уменьшения числа пассажирских мест. На рис. 1.52 показан английский четырехмоторный пассажирский самолет Хенхти Пейдж НР.42 «Ганнибал». Он совершил первый полет в 1930 г. В соответствии с английскими традициями в самолетостроении это был биплан, с каркасом из металлических труб и полотняной обшивкой. Особенностью самолета являлась конструктивная схема коробки крыльев с жесткими раскосами вместо обычных вертикальных стоек и диагональных расчалок. Как на Фоккер F-32, двигатели располагались по два в тандем на каждом крыле, с тянущим и толкающим пропеллерами. Это сделали для того, чтобы уменьшить неустойчивость аппарата при отказе одного из моторов и снизить общее лобовое сопротивление в полете.  Рис. 1.52. Хендди Пейдж «Ганнибал» Стремясь привлечь пассажиров, конструкторы уделили много внимания повышению комфорта. HР.42 имел две просторные пассажирские кабины: впервые были приняты меры по снижению шума — пассажирские отсеки имели двойную обшивку со звукопоглощающей прокладкой между стенками. На дальних линиях самолет брал на борт 24 пассажира, на коротких маршрутах (в Европе) — 38 [5, с. 459]. Разновидностью HP.42 был четырехмоторный самолет «Сцилла», отличающийся расположением двигателей (рис. 1.53). Итак, за 10–15 послевоенных лет пассажирское самолетостроение прошло несколько стадий: — первые мирные годы — попытки применения военных самолетов периода первой мировой войны для пассажирских перевозок; — первая половина 20-х годов — создание первых специализированных пассажирских самолетов с 1–2 моторами; — вторая половина 20-х годов — распространение трехмоторных пассажирских самолетов с одним двигателем в носу фюзеляжа и двумя — на крыльях; — конец 20-х — начало 30-х годов — появление четырехмоторных самолетов с увеличенными пассажировместимостью и дальностью полета. Пассажирская авиация была первой областью, в которой началось широкое применение самолетов-монопланов. Однако они не смогли полностью вытеснить бипланы. В период, когда крейсерская скорость полетов была всего 150–200 км/ч. аэродинамические преимущества свободнонесущего монопланного крыла еще не могли заметно проявить себя. Как показывает расчет, 10-местный двухмоторный пассажирский самолет-моноплан весил бы на 190 кг больше, чем такой же по характеристикам самолет с бипланным крылом [4, с. 44–45]. К тому же бипланы были хорошо освоены в производстве, считались более надежными, и, что тоже немаловажно, были привычны для глаза потенциального пассажира. Совершенствование летных качеств пассажирских самолетов, повышение уровня комфорта, демонстрационные перелеты — все это способствовало росту доверия к новому виду транспорта. За послевоенное десятилетие объем пассажироперевозок возрос в десятки раз. Если в 1919 г. услугами авиации воспользовалось только около 5000 человек, то в 1929 г. на самолетах было перевезено 434 тыс. пассажиров [27, с. 1001. До середины 20-х годов в гражданской авиации лидировала Франция, затем ее опередила Германия. С 1927 г. на первое место по воздушным перевозкам вышли США. Самыми распространенными типами пассажирских самолетов были одно- и трехмоторные «Юнкерсы» и «Фоккеры», и одномоторные самолеты французской фирмы «Латекоэр».  Рис. 1.53. Хендли Пейдж «Сцилла» на аэродроме в Ле Бурже Таблица 1.5. Характеристики пассажирских самолетов 1919–1931 гг.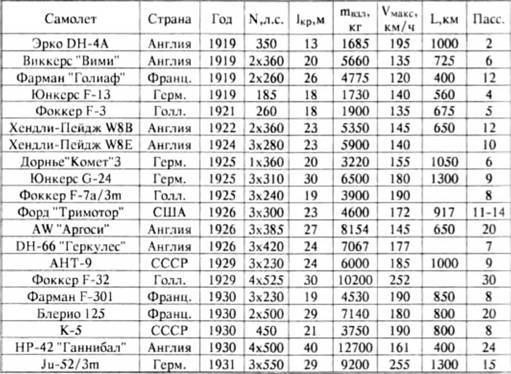 Крупнейшими авиакомпаниями мира в начале 30-х годов являлись «Империал Эрвейз» в Англии, «Люфтганза» в Германии, «Латекозр» во Франции, «Пан Америкен» в США. Первыми советскими организациями, занимавшимися воздушными перевозками, были «Добролет», «Укрвоздухпуть», «Закавна» и смешанное советско- германское общество «Дерулюфт». По мере повышения мощности и надежности авиадвигателей, увеличения пасса- жировместимости самолетов, роста интенсивности воздушных перевозок себестоимость воздушного транспорта снижалась. За период 20-х годов стоимость одного пассажиро-киломстра уменьшилась на 75–80 %. Металлическое самолетостроение Со второй половины XIX века в транспортном машиностроении начался процесс вытеснения дерева металлом. Сначала появились металлические суда, затем металл стали использовать в конструкции корпусов автомобилей, вагонов и других наземных транспортных средств. Преимущества металла заключались в однородности его физико-механических свойств, удобстве применения машинных методов производства, более продолжительном сроке службы. В отличие от древесины металл не подвержен гниению, его вес не изменяется с увеличением влажности воздуха. Он не горюч, не расщепляется при ударах; металлические детали могут иметь практически любую форму и размер. Несмотря на все указанные достоинства металла как конструкционного материала, самолеты в начале нашего века делали из дерева и полотна. Правда, в 1910–1912 гг. было несколько попыток построить цельнометаллический летательный аппарат (самолет Рейснера в Германии; моноплан «Тюбавион» французских конструкторов Понша и Примара), но ни один из этих самолетов не поднялся в воздух [14. с. 232]. Сталь, составлявшая основу конструкции этих аппаратов, оказалась слишком тяжелым материалом, и маломощные двигатели тех лет не могли преодолеть силу земного притяжения. Первые успешные цельнометаллические самолеты появились в Германии в годы первой мировой войны. Это были истребители и штурмовики конструкции Г. Юнкерса с монопланным крылом. К появлению таких машин имелся ряд предпосылок. Во-первых, незадолго до начала войны немецкий ученый А. Вильм создал сплав дюралюмин на основе алюминия, меди, магния и марганца, который превосходил по прочности чистый алюминий в 4–5 раз и был в 3 раза легче, чем сталь. В начале 1910-х годов металлургический завод в Дюрене, Германия, приступил к промышленному выпуску нового сплава (отсюда и происходит его название). Во-вторых, в Германии уже до войны имелся опыт применения металла на летательных аппаратах — дирижаблях Ф. Цеппелина жесткой конструкции. Наконец, в-третьих, недостаток качественной древесины для массового выпуска самолетов во время войны 1914–1918 гг. заставил конструкторов искать замену дереву. Самолеты Юнкерса поступили в производство в конце войны и не оказали заметного влияния на ход военных действий. Тем не менее их появление знаменовало собой начало скачка в развитии схемы самолетов. Применение металла позволило отказаться от традиционных стоек и расчалок и установить на самолете свободнонесушее крыло. Из-за гофрированности обшивки (это было сделано во избежание потери устойчивости тонкой металлической поверхности при изгибе крыла) и общих грубых форм самолетов они не обладали заметными аэродинамическими преимуществами перед обычными деревянными бипланами, но, в принципе, разработанная Юнкерсом конструкция была очень перспективной. Появление пассажирской авиации послужило новым стимулом к развитию металлического самолетостроения. «Жизнь» самолетов в годы войны была короткой из-за больших потерь в воздушных боях. Однако самолеты гражданской авиации должны были эксплуатироваться многие годы. Долговечность деревянной конструкции ограничивалась склонностью этою материала к набуханию под действием влаги и к гниению. Еще быстрее выходило из строя полотно, которым обтягивали крыло и фюзеляж: в результате перепадов влажности и температуры оно деформировалось, провисало, теряло прочность, и через 2–3 года самолет требовалось обтягивать заново. Различные лаки и краски лишь отчасти помогали замедлить разрушающее воздействие атмосферы. Металлический самолет был свободен от указанных недостатков. Правда, имелась другая проблема — коррозия металла, в частности дюралюминия. Однако в результате интенсивных исследований металлургов эту задачу удалось разрешить: в середине 20-х годов в США был разработан надежный способ защиты дюралевых деталей от коррозии путем покрытия их тонким слоем чистого алюминия — так называемое плакирование. Новый устойчивый к коррозии сплав получил название «альклэд» [22, с. 102; 28, с. 273]. Таким образом, долговечность цельнометаллических самолетов оказалась намного больше, чем самолетов деревянной конструкции. Отсутствие необходимости в частых профилактических осмотрах и ремонтах конструкции удешевляло стоимость эксплуатации, что позволяло компенсировать большую в полтора-два раза стоимость изготовления самолета из металла. Первыми послевоенными металлическими самолетами были пассажирские машины фирмы «Юнкерс». Как уже отмечалось в предыдущим разделе, в 1919 г. появился одномоторный F-13, который и по аэродинамической схеме (свободнонесущий моноплан), и по конструкции коренным образом отличался от других самолетов. На рис. 1.54 показано устройство планера самолета Юнкерса. Крыло было образовано пространственной фермой из 10 дюралевых труб, соединенных раскосами. Лонжероны, как таковые, отсутствовали. Поверхность была покрыта обшивкой из тонкого гофрированного дюраля. Консоли крыльев соединялись с центропланом с помощью обычных гаек. Фюзеляж также имел ферменную конструкцию из дюралевых элементов, покрытых гофрированной обшивкой. Сборка деталей крыла, оперения и фюзеляжа производилась с помощью заклепок на специальных сгапелях. В целом, конструкция F-13 была, в смысле прочности, целесообразной, но в технологическом отношении довольно сложной. Развитием F-13 стали одномоторный W-33, трехмоторные G-24, G-31 и, наконец, знаменитый Ju-52/Зт — наиболее распространенный пассажирский самолет в Европе в 30-е годы. По конструкции они были схожи с первенцем пассажирского металлического самолетостроения F-13 и отличались, в основном, размерами и числом двигателей. Создание на основе одного прототипа целых «семейств» летательных аппаратов было очень типично для металлического самолетостроения, т. к. изменение размеров при сохранении основных технологических процессов достигалось в производстве сравнительно легко. 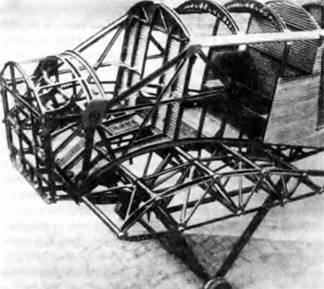 Рис. 1.54. Конструкции планера самолета F-13 Идеи Юнкерса были подхвачены п СССР. Основоположником металлического самолетостроении в нашей стране стал Л. Н. Туполев. Надо сказать, что мысль о перспективности создании самолетов из металла была принята вначале далеко не всеми. Многие считали, что страна, обладающая огромными запасами высококачественной древесины, должна идти по пути деревянного самолетостроения, тем более, что в начале 20-х годов дюралюминий в СССР не производился [29. с. 52 |. Тем не менее Туполеву и его единомышленникам удалось убедить других в том. что будущее — за металлическими самолетами. В августе 1922 г. в СССР была выпущена первая партия отечественного дюралюминии, получившего название «кольчугалюминий», а меньше чем через два года — 26 мая 1924 г. — поднялся в воздух первый советский цельнометаллический самолет АНТ-2 — небольшой одномоторный моноплан со свободнонесущим крылом. Надо отмстить, что развитию металлического самолетостроения в нашей стране помогло существование концессии Юнкерсом по производству металлических самолетов на заводе в Филях. Немецкие инженеры работали там в 1923–1925 гг., велась сборка двух типов военных самолетов-разведчиков: Ju-20 и Ju-21. Помогавшие им советские специалисты переняли опыт производства металлических самолетов[5]. После расторжения договора с Юнкерсом на филевском авиационном заводе (ныне это завод им. М. В. Хруничева) выпускались первые советские серийные цельнометаллические самолеты И-4, Р-3, ТБ-1, ТБ-3. АНТ-9 [31]. В 1925 г. в конструкторском бюро А. Н. Туполева создали бомбардировщик ТБ-1 (АНТ-4), появление которого оказало влияние на развитие всего самолетостроения. Как и самолеты Юнкерса, это был цельнодюралевый моноплан со свободнонесущим низкорасположенным крылом, ферменной силовой конструкцией и гофрированной обшивкой. Однако и по внешней компоновке, и по внутренней конструкции он существенно отличался от «Юнкерсов». Самолет представлял собой двухмоторный моноплан с двигателями на передней кромке крыла. Крыло имело 5 лонжеронов в виде ферм из соединенных между собой труб, стрингеры, 18 нервюр в центроплане и по 10 в каждой консоли. Если на самолетах Юнкерса конструкция крыла имела вид пространственной фермы с диагональными раскосами, в углах которых проходили трубчатые пояса, то крыло самолетов Туполева характеризовалось более технологичной конструктивно-силовой схемой с плоскими ферменными лонжеронами. Еще одно отличие заключалось в применении Туполевым разработанной им в Центральном аэрогидродинамическом институте обшивки с более крутым гофром (так называемая «волна ЦАГИ»). У потребление такой обшивки вело к некоторому увеличению лобового сопротивления, зато позволяло повысить прочность на 5–7 %, а жесткость — почти на четверть по сравнению с «волной Юнкерса» [32, с. 132]. В момент появления ТБ-1 был самым большим цельнометаллическим самолетом в мире: он имел длину 18 м, размах крыла — 28,7 м, площадь крыла — 120 м. Для уменьшения нагрузки на ручку управления летчик мог изменять в полете угол установки горизонтального стабилизатора. Топливные баки, обеспечивающие самолету дальность 1350 км, находились в центроплане крыла. Внутри фюзеляжа располагались бомбовый отсек, места для летчиков, бомбардира (он же — радист) и стрелков (на самолете имелось три подвижные турели для спаренных пулеметов Льюис). Общая численность экипажа — 5 человек. ТБ-1 строился в серии в 1929–1932 гг. и находился на вооружении до 1936 г. Он применялся также в гражданской авиации, участвовал в арктических экспедициях. В 1929 г. на серийном ТБ-1 «Страна Советов» со снятым вооружением был выполнен перелет Москва — Петропавловск-на-Камчатке — Сиэтл — Сан-Франциско — Нью-Йорк, общей протяженностью 21242 км, из них 8000 км — над океаном (рис. 1.55). Возглавлял экипаж самолета летчик С.А.Шестаков [21, с. 118–124; 33]. ТБ-1 произвел большое впечатление на американцев, оценивших превосходство новой схемы над деревянными бомбардировщиками-бипланами. «Авиационные специалисты Америки были восхишены прекрасными формами и законченностью конструкции самолета», — писалось в газете «Нью-Йорк Таймс» от 2 ноября 1929 г. [33, с.77]. Созданный в 1932 г. фирмой Боинг двухмоторный бомбардировщик В-9 с толстым монопланным крылом имел заметное сходство с тяжелым самолетом А. Н. Туполева. Развитием самолета ТБ-1 стал четырехмоторный ТБ-3 (АНТ-6). Самолет совершил первый полет 22 декабря 1930 г. Это был первый в мире четырехмоторный бомбардировшик- моноплан, прототип «летающих крепостей» периода второй мировой войны. По конструкции он был, в основном, аналогичен ТБ-1, но имел значительно большие размеры и вдвое большую площадь крыла. Максимальный вес самолета достигал 22000 кг, он мог брать до 5000 кг бомб. Оборонительное вооружение состояло из носовой, средней и хвостовой пулеметных турелей и двух выдвигаемых в полете подкрыльевых пулеметных башен. Из кабины в фюзеляже через боковые двери можно было попасть внутрь крыла к двигателям и дальше — к подкрыльевым пулеметным башням. ТБ-3 строился большой серией и в 30-е годы составлял основу советской тяжелой бомбардировочной авиации. Всего советские заводы выпустили 819 самолетов [9, с. 432–433]. ТБ-1 и ТБ-3 — первые серийные многомоторные самолеты-монопланы с двигателями, расположенными вдоль размаха крыла. Эта компоновка была лучше, чем принятая Юнкерсом схема с двумя двигателями на крыльях и одним — в передней части фюзеляжа, т. к. носовой мотор ухудшал обтекаемость фюзеляжа, заслонял обзор вперед, препятствовал установке стрелкового вооружения в передней кабине на военных самолетах. Не удивительно, что примененная А. И. Туполевым схема позднее стала общепринятой при конструировании многомоторных самолетов таких, например, как знаменитые американские «летающие крепости» Боинг В-17 и Боинг В-29.[6]  Рис. 1.55. Самолет ТБ-1 «Страна Советов» в Нью-Йорке Цельнометаллические самолеты-монопланы строили в 20-е годы и в других странах, в частности, во Франции, обладавшей большими запасами ископаемых, необходимых для производства дюраля. Так, французские фирмы Вибои Кодрон выпустили целое семейство металлических истребителей с толстым свободнонесущим крылом и гофрированной обшивкой. Упоминавшиеся выше американские пассажирские самолеты Стаут «Пульман» и Форд «Тримотор» также имели цельнодюралевую конструкцию с гофрированной обшивкой.[7] Однако, в целом, в этих странах в пекл с военное десятилетие преобладали обычные деревянные самолеты. Из-за распрост раненной там системы субсидий мало что понимающие в авиации государственные советники нередко диктовали свои решения, а авиафирмы были больше заинтересованы в поисках путей получения субсидий, чем в улучшении конструкции самолета. В 1922 г. только 2 из 45 появившихся в этом году в мире новых самолетов имели металлическую конструкцию (4,4 %›, в 1924 г. — 14 из 111 (12,6 %), в 1926 г. — 28 из 122 (39,9 %), в 1928 г., — 17 из 52 (32,7 %) [4, с. 210]. Решительный переход к цельнометаллическим конструкциям произошел только в 30-е годы. Существенной предпосылкой к этому явились результаты расследования катастрофы пассажирского трехмоторного самолета фирмы Фоккер, которая произошла в США 31 марта 1931 г. (Ажиотаж вокруг этого события во многом связан с тем, что среди погибших был любимец американской публики — знаменитый футболист Кнут Рокке). Как выяснилось, деревянный каркас крыла подгнил и сломался в полете [23, с. 22]. После этого доверие к деревянным самолетам было в значительной мере утрачено. В 1931 г. доля металлических самолетов в общем числе вновь созданных самолетов составляла уже 62 % [4, с. 210]. Основным недостатком металлических самолетов был большой вес конструкции. Один квадратный метр площади дюралюминиевого крыла пассажирского четырехмоторного моноплана весил 16 кг, а квадратный метр крыла такого же самолета из дерева и фанеры весил на 3 кг меньше. Металлический 32-местный фюзеляж имел вес 1560 кг, тогда как такой же фюзеляж из стальных труб с полотняной обтяжкой весил 1239 кг [4. с. 20–21]. В период, когда мощность авиадвигателей составляла 400–600 л.с., разница в весе в несколько сотен килограммов заметно сказывалась на грузоподъемности и летных характеристиках. Стремясь минимизировать весовые издержки, конструкторы металлических самолетов старались применять наиболее рациональную конструктивно-силовую схему, даже в ущерб обтекаемости машины. Для того, чтобы увеличить строительную высоту лонжеронов, крыло делалось с большой относительной толщиной — 18–20 %. Гофрированная обшивка могла воспринимать нагрузку на кручение даже при очень небольшой толщине дюралевого листа (0,3 мм). Это позволяло более редко располагать нервюры в крыле и стрингеры в фюзеляже. И все же такого весового совершенства, как у самолетов из традиционных материалов, достичь не удавалось — относительный вес металлической конструкции оставался на 5-10 % выше. Причина в том, что удельная прочность основного конструкционного материала деревянных самолетов — сосны — при работе на изгиб в 2 раза больше, чем у дюралюминия и в 3–5 раз больше, чем у стали [35, с. 80]. Гофр обшивки располагали «по потоку», чтобы не увеличивать лобовое сопротивление. Однако полностью избежать аэродинамических потерь не удавалось — сопротивление трения гофрированной металлической поверхности было заметно больше, чем у крыла аналогичной площади с гладкой полотняной или фанерной поверхностью. В 1920 г. бывший сотрудник Ф. Цеппелина Адольф Рорбах применил при создании четырехмоторного пассажирского самолета Цеппелин-Штаакен Е.4/20 гладкую металлическую обшивку, которая благодаря большой толщине листа могла воспринимать нагрузки не только от кручения, но и от изгиба крыла. Она получила название «работающая обшивка». Данная идея была заимствована из опыта судостроения, с заменой стали на более легкий дюраль. В начале 20-х годов Е.4/20 (рис. 1.56) был самым большим самолетом-монопланом. Крыло, снабженное небольшими подкосами, имело размах 42,2 м; взлетный вес машины составлял 8600 кг. На передней кромке крыла располагались 4 двигателя «Майбах» мощностью 245 л.с. каждый. Пассажирский отсек вмещал 18 человек. Теоретически работающая обшивка должна была обеспечить снижение веса, т. к. она, наравне с внутренней силовой конструкцией, участвовала в восприятии действующих на самолет нагрузок, что позволяло уменьшить сечения силовых элементов последней. Кроме того, замена гофрированной поверхности гладкой снижала аэродинамическое сопротивление самолета. Однако в 20-е годы эта идея не привилась. Из-за отсутствия правильных методов прочностного расчета авиационной оболочечной конструкции типа крыла или фюзеляжа с работающей обшивкой толщину обшивки определили из условия предотвращения местной потери устойчивости. В результате самолет Рорбаха оказался перетяжеленным и не обладал нужной дальностью и грузоподъемностью. Правда, по скоростным качествам (крейсерская скорость — около 200 км/ч) он превосходил другие пассажирские самолеты начала 20-х годов, но скорость полета невоенной машины тогда мало кого интересовала.  Рис. 1.56. Самолет Цепеллин-Штаакен Е.4/20 Судьба прогрессивною по конструкции самолета Рорбаха печальна: по характеристикам он выходил за рамки ограничений, установленных для немецкой авиации Версальским договором и поэтому, по указанию властей, в 1922 г. был уничтожен [24, с. 381]. Позднее Рорбах применял крыло с работающей обшивкой в конструкции своих «летающих лодок». Не только А. Рорбах пытался найти лучшую замену разработанной Юнкерсом конструкции. В 1920 г. О. Шорт демонстрировал на авиационной выставке в Лондоне одномоторный цельнометаллический биплан с работающей дюралевой обшивкой. Во Франции созданием монококовых (веретенообразных, с работающей поверхностью) фюзеляжей из металла занимался инженер Вибо |36, с. 60; 37, с. 58 |. Но в условиях застоя в развитии авиации, обусловленного огромными запасами продукции периода мировой войны, эти работы не привлекли внимания. Самолеты с фюзеляжем-монококом строились, однако материалом для обшивки, так же как в годы первой мировой войны, служила фанера. Потребовалось около десятилетия, прежде чем авиационные металлические конструкции с гладкой работающей обшивкой доказали свои преимущества и получили распространение. Своеобразным был подход к применению металла в самолетостроении Англии. Принимая во внимание скудные запасы древесины в своей стране, в 1924 г. правительство издало указ не принимать на вооружение деревянные самолеты [38, с. 23]. Не имея собственного алюминия, англичане ориентировались не на дюралюминиевые самолеты, а на конструкции из стали. Идея моноплана с толстым свободнонесушим крылом была отвергнута и в Англии продал жал и делать расчалочные бипланы, только вместо дерева в силовых элементах крыла и фюзеляжа применяли легированную сталь. Так появились классические для послевоенного периода английские самолеты со стальным каркасом и тканевой обшивкой. Указанная паллиативная мера не привела к улучшению характеристик самолетов. Более того, некоторые английские металлические бипланы середины 20-х годов из-за большего веса конструкции имели практически тс же летные характеристики, как и деревянные английские самолеты образца 1918 г. С конструктивной точки зрения металл в авиастроении оказался выгоден только тогда, когда с его помощью можно было отказаться от старых аэродинамических схем и перейти к новым, более совершенным, как это сделали Юнкерс и Туполев. На рис. 1.57 показано соотношение числа типов самолетов в 1919–1931 гг. в зависимости от их назначения и материала конструкции. Наиболее часто металл применялся при создании тяжелых самолетов. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, чем самолет больше, тем он дороже и, следовательно, тем важнее обеспечить долговечность его конструкции. Во-вторых, с увеличением размеров самолетов все труднее было найти подходящие деревянные заготовки для конструкции, тогда как для металлических самолетов этой проблемы не существовало. И, наконец, по мере увеличения размеров металлических самолетов-монопланов высота характерного для них крыла толстого профиля становилась достаточной для размещения внутри крупных агрегатов, топливных баков, грузов и даже людей. В таблице 1.6 приведены некоторые характеристики самых больших металлических самолетов-монопланов конца 20-х и первой половины 30-х годов. Первенцем семейства гигантов был четырехмоторный Юнкерс G-38 (рис. 1.58). Высота центроплана крыла этого самолета была от 2 м у корня до 1,5 м в месте стыка с отъемной частью крыла. Столь большие размеры позволяли расположить внутри крыла двигатели и две пассажирских кабины на 3-х человек каждая. Передняя кромка крыла была застеклена, и пассажиры могли наслаждаться прекрасным видом во время полета. Всего самолет брал на борт 34 пассажира и 7 членов экипажа, на самолете имелась кухня, курительная комната, туалет, умывальная, помещение для грузов. 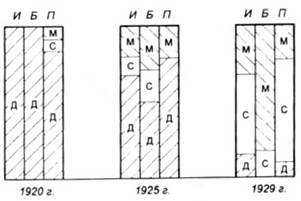 Рис. 1.57. Относительное число металлических самолетов. (И — истребитель, Б — бомбардировщик, 11 — пассажирский; с-смешанная конструкция, д — дерево, м — металл) Таблица 1.6. Характеристики цельнометаллических самолетов-гигантов, 1929–1934 гг.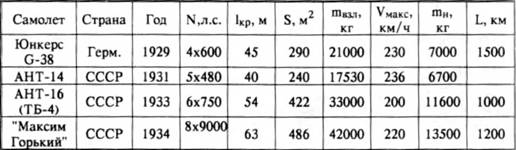 В конструкции G-38 было немало новшеств. Крыло имело необычно большое сужение. Это было сделано для того, чтобы увеличить его ширину (а, следовательно, и высоту) вблизи фюзеляжа и получить пространство, необходимое для размещения в центроплане пассажиров. Из-за сравнительно короткого фюзеляжа плечо действия хвостовых рулей было невелико и пришлось установить бипланное оперение коробчатого типа с тремя вертикальными стабилизаторами. Впервые в самолетостроении Юнкерс применил шасси с колесами, расположенными одно за другим на качающейся в вертикальной плоскости тележке. Такая конструкция, обеспечивающая касание земли при посадке всеми колесами сразу, нашла в наши дни большое распространение.  Рис. 1.58. Юнкерс G-38 В случае остановки какого-либо двигателя, его можно было отремонтировать в полете. Благодаря большой высоте крыла механик мог подойти к любому мотору, с помощью специального приспособления отсоединить пропеллер от двигателя и по направляющим отодвинуть мотор вглубь крыла для осмотра и ремонта [18, с. 53]. 6 ноября 1929 г. шеф-пилот фирмы Юнкерс Циммерманн впервые поднял самолет в воздух. В 1930 г. состоялся ряд демонстрационных полетов, в том числе круговой перелет по городам 12 европейских стран, ас 1931 г. G-38 передали в «Люфтганзу» для работы на линии Амстердам — Лондон. Несмотря на всеобщий интерес во время публичных показов, коммерческого успеха G-38 не имел. Его пассажировместимость и скорость были слишком малы, чтобы оправдать огромную стоимость машины — полтора миллиона марок. Кроме того, в 30-е годы существовало ограниченное число аэродромов, способных принимать гигантский самолет. Всего построили два G-38. Первый потерпел аварию в 1936 г. из-за неисправности в системе управления. Второй G-38, построенный в 1932 г., летал сначала на авиалиниях «Люфтганзы», а с 1939 г. использовался в качестве военно-транспортного самолета. Он был уничтожен на аэродроме во время бомбардировки г мае 1941 г. [17,с. 125–129]. Советский 5-моторный пассажирский АНТ-14 (рис. 1.59). построенный летом 1931 г., лишь немногим уступал по размерам и грузоподъемности G-38. Эта машина с двигателями Гном-Рон «Юпитер-VI» мощностью по 480 л.с. проектировалась А. Н. Туполевым как развитие трехмоторного АНТ-9 и была, в целом, аналогична ему по схеме. В пассажирской кабине имелись места для 36 человек — по четыре в ряду. Экипаж состоял из двух пилотов, штурмана и двух бортмехаников, причем бортмеханики сидели в специальном отсеке в центроплане крыла, откуда могли визуально следить за работой двигателей. Единственный построенный АНТ-9 про явил себя как весьма надежная машина: до начала войны с Германией на нем было совершено около 1000 полетов, причем без единой аварии [20, с. 437] В 1933 г. в СССР появился самолет, превосходивший по размерам и весу G-38 — шестимоторный АНТ-16 (ТБ-4). Он был создан как логическое продолжение линии тяжелых цельнометаллических самолетов А. Н. Туполева — двухмоторного ТБ-1 и четырехмоторного ТБ-3. ТБ-4 имел шесть двигателей: четыре в крыле, как на ТБ-3. и два — в мотогондоле над фюзеляжем. По величине крыла и взлетному весу он почти вдвое превосходил ТБ-3. П. М. Стефановский, которому довелось испытывать этот самолет, вспоминал: «Он просто потрясал! Человек среднего роста свободно расхаживал не только в фюзеляже, но не пригибался и в центральной части крыла.  Рис. 1.59. Самолет АНТ-1 4 „Правда“ Оборудование чудовищной машины напоминало настоящий промышленный комбинат. Имелась даже самая настоящая малогабаритная электростанция для автономного энергопитания всех самолетных агрегатов. Компрессоры, нагнетающие сжатый воздух для запуска моторов, располагались на борту корабля. Комплект объемистых цистерн-баков вмешал десятки тонн горючего и смазочных материалов. Различное оборудование, вооружение, системы и аппараты управления заполнили всю внутренность самолета диковинных размеров» [38, с. 42]. Еще большими размерами отличался восьмимоторный «Максим Горький» (АНТ-20). Это был самый большой самолет с колесным шасси из всех, созданных до конца второй мировой войны. Он был построен на общественные пожертвования (собрано 6 млн. рублей) в ОКБ А. Н. Туполева как пассажирский и агитационный самолет. Его создание должно было служить доказательством технической мощи советского государства. Ниже приводятся выдержки из статьи А. Н. Туполева «Рождение гиганта» в газете «Правда» (21. 06. 1934 г.) с описанием этого самолета: «Максим Горький» представляет собой цельнометаллический моноплан со свободнонесущим крылом, является самым большим в мире сухопутным самолетом и построен целиком из советских материалов с мощными советскими моторами. «…На „Максиме Горьком“ мы впервые для тяжелых самолетов применили крыло с большим удлинением, улучшающим его аэродинамические качества. Крыло „Максима Горького“ имеет такие размеры по высоте и длине дужки [профиля — Д.С.], которые позволили поместить внутри крыла служебные помещения и каюты. Размах крыла „Максима Горькою“ — 63 метра. Длина фюзеляжа — 32,5 метра. Высота самолета в положении стоянки равна 10,6 метра. …В пассажирском варианте самолет рассчитан на 76 человек пассажиров и экипажа. Все оборудование „Максима Горького“ подчинено его основному назначению агитационного самолета. Внутренняя связь на „Максиме Горьком“ осуществляется автоматической телефонной станцией на 16 номеров. Кроме внутренней телефонной связи „Максим Горький“ оборудуется пневматической почтой, связывающей командира самолета с радистом и редакцией. В крыле „Максима Горького“ предусмотрено помещение специальной фотолаборатории для изготовления заснятых в полете фотоснимков.  Рис. 1.60. В салоне самолета „Максим Горький“ Центральной частью кинооборудования самолета является кинопроектор „Вомит“. При помощи его можно демонстрировать на походном экране, установленном во время стоянки близ самолета, звуковые кинокартины. На „Максиме Горьком“ имеется особое помещение для типографии. „Максим Горький“ имеет свою центральную электрическую станцию. Эта ЦЭС…вырабатывает постоянный и переменный ток. Впервые в истории авиации применяется на самолете переменный ток в 120 вольт. До сих пор все самолеты в мире питались постоянным током максимальным напряжением в 24 вольта. …Бытовое оборудование на „Максиме Горьком“ обеспечивает полный комфорт пассажирам и экипажу. Удобные кресла, ковры, занавески, столики, настольные электролампы и многое другое — все говорит о предоставлении для пассажиров всяческих удобств. К бытовому оборудованию „Максима Горького“ относятся также спальные каюты, электрифицированный буфет с горячими и холодными закусками склад для провизии, багажное помещение, умывальники, уборные, аптечка. Большое внимание уделяли мы оборудованию, необходимому для управления самолетом-гигантом. Пилотный отсек оборудован всеми необходимыми приборами как для нормального самолетовождения, так и для слепого полета. На „Максиме Горьком“ устанавливается управляющий механизм автопилота — прибора для автоматического движения самолета. Электрическое управление стабилизатором дублировано ручным посредством тросов. На рулях высоты и направления установлены специальные компенсирующие серворули, сильно облегчающие работу летчика. К моторам вовремя полета механикам обеспечен свободный доступ» [32,с. 190–193]. К этому можно добавить, что общая площадь «жилых помещений» самолета составляла более 100 м². Кроме агитационного и пассажирского предусматривался также военный вариант «Максима Горького». В качестве бомбардировщика самолет должен был нести 10 тонн бомб, иметь мощное оборонительное вооружение ‹2 пушки и 6 пулеметов) [9, с. 317]. «Максим Горький» просуществовал менее года. Первый полет самолета состоялся 17 июня 1934 г. (летчики М. М. Громов и Н. С. Журов), а 18 мая 1935 г. во время полета над Центральным аэродромом в Москве произошла нелепая катастрофа Летчик-испытатель ЦАГИ Н. П. Благин, эскортирующий «Максим Горький» на истребителе И-5, самовольно начал выполнять вблизи многомоторной машины фигуры высшего пилотажа и при попытке сделать вокруг нее мертвую петлю не рассчитал скорость и врезался в крыло. По свидетельству очевидцев, истребитель Благина врезался в средний мотор правого крыла, тот отвалился, а И-5 застрял в образовавшемся проеме крыла. Вслед за этим хвостовая часть истребителя оторвалась и нанесла еще один удар по «Максиму Горькому», повредив его органы управления. Воздушный гигант перевернулся и, падая, стал разваливаться в воздухе [21, с. 156]. Погибли все находившиеся на борту — 33 пассажира и 12 членов экипажа. Погиб и виновник катастрофы — Благин. После гибели «Максима Горького» правительство приняло решение о постройке самолета-дублера и еше 15 таких машин. Однако на практике ограничились постройкой только одного самолета — ПС-124 (АНТ-20бис) с шестью моторами увеличенной мощности (рис. 1.61). Он эксплуатировался в 1940–1941 гг. на линии Москва — Минеральные Воды, перевозя за один рейс 64 пассажира. Во время войны использовался для перевозки грузов и разбился при посадке в конце 1942 г.  Рис 1.61. Самолет АНТ 20 бис Еще один советский «воздушный гигант» — семимоторный К-7 — был построен в 1933 г. на Украине под руководством К. А. Калинина. Испытания 38-тонной машины также закончились катастрофой. Подробнее об этом самолете необычной аэродинамической схемы будет рассказано ниже. Среди основных технических проблем, возникавших при создании самолетов необычно больших размеров, следует выделить две: конструирование шасси, способного выдерживать нагрузки при взлете и посадке сверхтяжелого самолета и способы снижения нагрузок на штурвал летчика. Выше мною уже отмечены особенности, примененные Юнкерсом в конструкции шасси G-38. На ТБ-4 впервые в СССР пластинчатая резиновая амортизация шасси была заменена воздушно-масляными амортизаторами, способными более эффективно поглощать нагрузки. Необычный способ выбрал К. А. Калинин. Его К-7 вообще не имел амортизации: вместо амортизаторов применялись специальные колеса низкого давления и очень больших размеров, способные воспринимать значительную энергию при ударе (рис. 1.62). Такие колеса разработала в США в 20-е годы фирма Гудъер. В связи с тем, что площадь поверхностей управления самолетов-гигантов была очень велика, обычных способов для снижения усилий на штурвале (переставной в полете стабилизатор или аэродинамическая компенсация рулей) было уже недостаточно. Поэтому на некоторых из них применялись так называемые серворули — небольшие поверхности, вынесенные на балочках за контуры рулей и элеронов. При повороте серворуль изменял шарнирный момент основного руля и, тем самым, вызывал его отклонение. Управление серворулем осуществлялось обычно посредством электропривода. Забегая вперед, отмечу, что этот метод не получил распространения из-за запаздывания действия и опасности возникновения вибраций рулевых поверхностей и был вытеснен бустерной системой управления. Самолеты-гиганты, построенные в единичных образцах, вскоре ушли со сцены. Несмотря на увеличение чиста двигателей, размеров и веса, их скорость и весовая отдача оставались неизменными. Более того, относительный вес полезной нагрузки у них был даже ниже, чем у обычных самолетов того времени. Причина этого заключалась в консервативности их конструкции: почти не менялись такие важные характеристики, как нагрузка на крыло (m/S), энерговооруженность (N/m). Таким образом, технического совершенствования летательного аппарата, по существу, не происходило. Не удивительно, что интерес конструкторов к тихоходным металлическим гигантам был непродолжительным — вскоре их вытеснило новое поколение скоростных монопланов. Внедрение металла в самолетостроение происходило в условиях острой борьбы со сторонниками развития деревянных самолетов. Надо сказать, что у последних были довольно веские доводы. Из табл. 1.7 следует, что первые металлические монопланы в отношении аэродинамики и веса уступали самолетам деревянной или смешанной конструкции: крыло толстого профиля и гофрированная обшивка являлись источниками большого сопротивления, которое не могло компенсировать применение свободнонесущей схемы, а о весовых издержках металлической конструкции уже говорилось. Не следует также забывать, что все крупнейшие производители самолетов периода первой мировой войны основывались на технологии деревянного самолетостроения и переход к металлическим машинам означал бы для них необходимость перестройки всего производства. В таких условиях только наиболее дальновидные и целеустремленные авиаконструкторы, такие как Юнкерс или Туполев, сумели отстоять свои взгляды и проложить путь к будущему в авиации. Создание цельнометаллических самолетов было необходимым условием качественного скачка в развитии самолетов, происшедшего в первой половине 30-х годов.  Рис. 1.62. Колесо самолета К-7 (на переднем плане-колесо К-5) Таблица 1.7. Сравнение аэродинамического и весового совершенства одномоторных пассажирских самолетов различной конструкции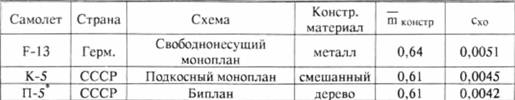 * Пассажирский вариант разведчика Р-5 «Летающие лодки» Гидроавиация играла важную роль в годы первой мировой войны. Гидросамолеты использовали для охраны побережья, морской разведки, борьбы с подводными лодками и военными кораблями. В ходе военных действий получили преимущественное распространение «летающие лодки», обладающие лучшей мореходностью. К концу войны в США и Англии были созданы тяжелые многомоторные «летающие лодки» с большой дальностью полета [14, с. 291–301]. После окончания войны в гидроавиации, как и во всем самолетостроении, началось стремительное свертывание производства. Например, в США в ноябре 1918 г. имелось 1172 «летающих лодок», а в середине 1925 г. — только 117 [39, с. 180]. Новая война казалась невозможной и охранять берега и морские просторы было не от кого. Новой предпосылкой для развития «летающих лодок» стада гражданская авиация. Гидросамолет имел два существенных преимущества перед обычным пассажирским самолетом. Во-первых, он мог садиться на воду и взлетать с воды. Это делаю возможным использовать «летаюшие лодки» в отдаленных районах Земли, где отсутствовал и аэродромы, но имелись водные акватории. Таким образом, гидроавиация могла сыграть важную роль в развитии авиалиний в Азии, Африке, Южной Америке, Океании и в географических исследованиях. Во-вторых, полеты на гидросамолете над морем были безопаснее, чем на обычном самолете. При отсутствии сильного волнения на воде пилот гидросамолета мог в любой момент и без большого риска приводнить машину, тогда как успех вынужденной посадки самолета с колесным шасси сильно зависел от рельефа местности. Кроме того, «летаюшая лодка» после вынужденной посадки могла своим ходом добраться по воде до места назначения; известны случаи, когда приводнившийся самолет проплывал до берега по воде многие десятки километров [26]. Если учесть, что вынужденные посадки из-за неполадок в двигателе в 20-е годы были довольно частым явлением, указанное достоинство гидросамолета становится особенно весомым. Потенциальные возможности «летающих лодок» как воздушного транспорта продемонстрировал целый ряд выдающихся перелетов. В мае 1919 г. на трех американских четырехмоторных «летающих лодках» Кертисс NC-4 стартовал первый в истории авиации трансатлантический перелет с острова Ньюфаундленд (Канада) в Плимут (Англия). Правда, долететь до берегов Англии удалось экипажу только одного самолета под командованием А. Рида. Весь маршрут протяженностью 6315 км был пройден за 12 дней, с промежуточными посадками на Азорских островах, в Португалии, и Испании. Экипажи двух других самолетов, совершивших вынужденную посадку в Атлантическом океане, были подобраны проходящими судами. В 1924 г. несколько американских одномоторных гидросамолетов (на этот раз — поплавковых) фирмы Дуглас осуществили первый в истории авиации кругосветный перелет по маршруту США — Алеутские острова — Япония — Китай — Средний Восток — Европа — Гренландия — США протяженностью 42398 км. Они были изготовлены по специальному правительственному заказу и отличались большим объемом топливных баков и особой конструкцией шасси, позволявшей быстро менять поплавки на колеса и наоборот. Из-за многочисленных летных происшествий воздушное путешествие заняло более полугода (с 6 апреля по 28 сентября), но время перелета самолеты 66 раз совершали посадку и вновь отправлялись в путь. В полет стартовало четыре самолета — «Сиэтл», «Бостон», «Новый Орлеан» и «Чикаго», родных берегов же достигло два — «Чикаго» и «Новый Орлеан». Три года спустя английский экипаж под руководством сэра Алана Кобхэма, стартовав в Англии, облетел на «летающей лодке» Шорт «Сингапур-Г вокруг африканского континента с целью продемонстрировать возможности авиации для связи доминиона со своими колониями [21, с. 74–81; 40, с. 37–44]. Это только немногие примеры из числа дальних авиационных перелетов, которыми прославились 20-е годы. Несомненно, наиболее заманчивым был маршрут Европа — Америка. Создание авиалинии, соединяющей Старый и Новый Свет, обеспечил бы предпринимателям надежную прибыль из-за большого числа потенциальных пассажиров. Вскоре после перелета Атлантики в 1919 г. на NC-4 итальянский авиаконструктор Джованни Капрони, получивший известность в годы первой мировой войны благодаря своим многомоторным бомбардировщикам, приступил к постройке трансатлантического пассажирского самолета — „летающей лодки“ Са-60. Это был поистине амбициозный замысел. Самолет должен был перевозить 100 пассажиров на расстояние более 6000 км. Он имел 8 моторов мощностью по 400 л.с. Для того, чтобы поднять в воздух огромный вес полезной нагрузки и топлива, Капрони установил на самолете одно за другим три трипланных крыла, подкрепленных бесчисленными стойками и расчалками (рис. 1.63). В первой половине 1921 г. начались испытания этого воздушного гиганта. Из-за огромного аэродинамического сопротивления девятикрылой машины она с трудом поднималась с воды. Во втором полете произошла авария — на высоте 18 м самолет потерял устойчивость (что неудивительно, учитывая отсутствие на Са- 60 хвостового оперения). Не выдержав перегрузки, сломалось одно из крыльев, и самолет упал в воду. Так бесславно закончилась первая попытка создания трансокеанского авиалайнера [40, с. 71–73].  Рис. 1.63 Капрони Са-60 С современных позиций очевидно, что задача, которую поставил перед собой Дж. Капрони, была невыполнимой. Самолеты с дальностью и пассажировместимостью, запланированными итальянским конструктором, появились только после второй мировой войны. Авантюра с Са-60 свидетельствует, что в начале 20-х годов научный уровень проектирования самолетов был еще весьма низок. Посте неудачи с полипланом Капрони попытки создания трансатлантической самолетной авиалинии на время были оставлены. Воздушные перевозки из Европы в С ША и обратно стали осуществляться с помощью дирижаблей. Конструкторы гидросамолетов. исходя из возможностей авиатехники того времени, выбрали для себя более реальные задачи — создание 10-20-местных „летающих лодок“, рассчитанных на полет дальностью порядка тысячи километров со скоростью 150–180 км/ч. В основном они должны были использоваться для воздушных перевозок над морем, например, для полетов из США на острова Тихого океана и Карибскою моря. Кроме лога, со второй половины 20-х годов, когда закончилась послевоенная эйфория, вновь стало уделяться внимание развитию военной гидроавиации. Развитие послевоенной гидроавиации характеризуется особенностями, типичными для всей авиации 20-х годов. В конструировании „летающих лодок“ существовало два направления: создание металлических монопланов и создание бипланов деревянной или смешанной конструкции. Первое направление было типично для немецких авиаконструкторов, второе — для конструкторов Англии, США и других стран. Пионером металлического гидросамолетостроения был К. Дорнье. Еще в годы червой мировой войны он построил несколько тяжелых „летающих лодок“ серии Rs», сделанных из металла, только в обшивке крыла частично использовалось полотно. Первые его «лодки» представляли собой бипланы, но с 1917 г. Дорнье начал применять монопланную схему. Конструкторский опыт военных лет получил развитие в 20-е годы. В этот период Дорнье спроектировал и построил 16 моделей «летающих лодок» различного назначения [41].  Рис. 1.64 Дорнье «Валь» Одной из самых известных «лодок» К. Дорнье был двухмоторный самолет «Валь», созданный в 1922 г. (рис. 1.64). Он имел оригинальную конструкцию. Фюзеляж представлял собой лодку из дюралюминия с широким плоским днищем. Вместо привычных боковых поплавков в нижней части фюзеляжа были сделаны выступы «жабры» в форме короткого толстого крыла. Плоскодонность лодки в сочетании с боковыми поплавками-выступами обеспечивали хорошую устойчивость при взлете посадке и движении по воде. Основное крыло размахом 22,5 м имело металлический каркас и полотняную обшивку. Чтобы крыло не касалось волн при взлете и посадке оно было приподнято над лодкой на стойках и подкосах (схема «парасоль»). Сверху на крыле располагалась силовая установка из двух тандемно расположенных двигателей с тянущим и толкающим винтами. Такая компоновка двигателей позволяла максимально удалить пропеллеры от водной поверхности и тем самым защитить их от брызг, образующихся при быстром движении «лодки» по воде. Экипаж самолета состоял из 3 человек, в пассажирском варианте «Валь» мог брать на борт 9 пассажиров Максимальная скорость полета составляла 180 км/ч, дальность — свыше 1000 км. Отличная устойчивость на воде, большой запас прочности, неплохие для своего времени летные данные, сопоставимые с характеристиками обычных транспортных самолетов с колесным шасси, обеспечили успех «лодке». Всего было построено около 300 Дорнье «Валь», что в условиях мелкосерийного производства послевоенных лет представляет собой большую величину. В связи с тем, что Германии запрещалось иметь самолеты большой грузоподъемности, самолет строился на заводах Дорнье в Швейцарии и Италии. Он применялся в СССР, Испании, Нидерландах, Чили, Аргентине, Японии. Югославии как пассажирский, транспортный, военный. На ней установлено 20 мировых рекордов [41, с. 25]. Благодаря плоскому днищу корпуса лодки Дорнье «Валь» мог садиться и взлетать не только с воды, но и со снега или льда. Эта особенность предопределила использование самолетов в полярных экспедициях. В мае 1925 г. группа исследователей пол руководством Р. Амундсена отправилась на Дорнье «Валь» с острова Шпицберген к Северному полюсу, но не долетала до него 250 км из-за поломки одного из моторов В СССР «лодки» Дорнье также применяли для полетов в Арктике [42]. Если возможности аэродромов в какой-то степени ограничивали габариты и вес обычных самолетов, то для гидросамолетов такого ограничения не существовало. Поэтому на основе самолета «Валь» К. Дорнье построил несколько типов «летающих лодок», все увеличивающихся размеров и веса. В 1926 г., когда руководство западных стран сняло ограничения на размер и грузоподъемность строящихся в Германии самолетов, Дорнье сконструировал «Супер Валь» — увеличенный вариант «Валя» с двумя мотогондолами над крылом, по два двигателя Бристоль «Юпитер» в каждой. В двух раздельных кабинах «лодки» могли разместиться 21 человек. «Супер Валь» строился серийно в Германии по заказу «Люфтганзы». Лицензионное производств.: самолета велось также в других странах. Однако самым известным гидросамолетом К. Дорнье стал Дорнье Do X. Построенная в 1929 г., эта 12-моторная «летающая лодка» (рис. 1.65) была самым большим самолетом в мире. Она имела размах крыла 48 м, общую мощность двигателей — 7200 л.с., взлетный вес — 52 тонны. Двигатели была скомпонованы попарно в шести мотогондолах, установленных над крылом на «моторной палубе» Первоначально применяли Бристоль «Юпитер», выпускавшиеся по лицензии немецкой фирмой «Сименс», затем их заменили на американские Кертисс «Конкверор». Ог ромные размеры аппарата обусловили большие нагрузки на органах управления в кабине, ведь бустеры в то время еще не были известны. Чтобы уменьшить усилия на штурвале, на элеронах и рулях высоты установили компенсаторы — небольшие поверхности, кинематически связанные с рулевыми плоскостями и уравновешивающие момент аэродинамических сил, возникающий при отклонении рулей. Нормальная пассажировместимость Do X составляла 66 человек, а в одном из показательных полетов, 31 октября 1929 г., самолет поднял 169 человек! [41, с. 49]. Этот рекорд продержался 20 лет.  Рис. 1.65 Дорнье Do X  Рис. 1.66. Пассажирский салон Dо X Do X создавался как трансатлантический пассажирский самолет. Чтобы пассажиры чувствовали себя удобно во время многочасового полета, конструкторы постарались обеспечить их максимальным комфортом, по уровню сравнимым с условиями на лучших океанских пассажирских судах. На самолете имелись спальные отсеки, гостиная. обставленная дорогой мебелью, курительная комната, ванная, кухня и даже небольшая столовая. Прежде, чем начать полеты через океан с пассажирами, было решено отправить на Do X в испытательный полет в Южную Америку и в США. Это воздушное путешествие длилось почти полтора года и выявило много недостатков, делающих невозможным коммерческое применение самолета на трансатлантических линиях Главным из них было то, что аэродинамическое качество самолета оказалось ниже расчетного, а двигатели расходовали слишком много топлива: каждый час полета опорожнял топливные баки на 1818 литров. По современным оценкам, имея на борту 66 пассажиров и 6 членов экипажа, Do X, при взлетном весе 48 тонн и скорости полета 174 км/ч, обладал дальностью всего около тысячи километров [39, с. 192]. В результате заказов на самолет от коммерческих фирм не последовало. Всего было построено три Do X, два из них продали в Италию, где они использовались военными для экспериментальных целей. Основным техническим недостатком многомоторных «летающих лодок» Дорны была неудачная компоновка двигателей. Установка моторов на стойках над крылом надежно защищала их от попадания брызг при движении по воде, однако создавала большое аэродинамическое сопротивление. Кроме того, тандемное расположение двигателей уменьшало КПД заднего пропеллера, работающего в завихренном потоке воздуха; имелись проблемы и с охлаждением второго мотора. Примененные Дорнье «жабры» также оказались не лучшим техническим решением. Как показали исследования, из-за малого удлинения они были источником большого индуктивного сопротивления [43, с. 66–71]. Несмотря на конструктивные недостатки первых немецких «летающих лодок», работы Дорнье по гидроавиации имели большое значение. В частности, появление самолета Дорнье «Валь» повлияло на переход к металлическим конструкциям с монопланным крылом в гидросамолетостроении. Так, во Франции в начале 30-х годов появились многомоторные металлические «лодки» с подкосным монопланным крылом: четырехмоторная Латекуэр-300 и шести моторная Блерио-5190 «СантосДюмон» (рис. 1.67). Построенные в единичных экземплярах, эти самолеты использовались для перевозки пассажиров и грузов через Южную Атлантику между Французскими владения ми в Африке и Южной Америке (линия Дакар — Натал). В целом можно сказать, что роль К. Дорнье в развитии «летающих лодок» аналогична роли Г. Юнкерса в развитии сухопутных самолетов. Другим немецким конструктором, специализирующимся на постройке металлических «летающих лодок» с монопланным крылом, был Адольф Рорбах. Также как Дорнье, он, чтобы избежать неприятностей со стороны союзнической контрольной комиссии (напомню, что его пассажирский четырехмоторный самолет был уничтожен в 1922 г. по указанию комиссии как выходящий за рамки ограничений Версальского договора), организовал производство в другой стране — нейтральной Дании. В середине 20-х годов Рорбах создал там двухмоторную «летающую лодку» Ro-2. По сравнению с «Валем» самолет Рорбаха имел другую компоновку крыла, с большим поперечным «V», чтобы избежать касания воды при случайном крене. Корпус лодки был значительно уже, а вместо «жабр» использовались подкрыльевые поплавки (в отличие от других «лодок», где поплавки служили только для боковой остойчивости на воде, в конструкциях Рорбаха они, так же, как и корпус, обеспечивали плавучесть аппарата). Двигатели Роллс-Ройс «Игл» мощностью по 360 л.с. располагались над крылом, но не в тандем, а по одному, в ряд.  Рис. 1.67. Блерио «Сантос-Дюмон» Отличия имелись и во внутренней конструкции самолетов. Вместо обычных лонжеронов крыло у Рорбаха поддерживалось коробчатой силовой конструкцией с работающей обшивкой (так называемым «кессоном»). К кессону крепились носок и законцовка, образующие вместе профиль крыла. После успешных испытаний Ro-2 в порту Копенгагена 10 таких самолетов заказала Япония для своих ВМС [16, с. 118b]. После успеха с Ro-2, в 1926 г. Рорбах занялся проектированием трехмоторных коммерческих летающих лодок. Первой была 10-местная Рорбах «Роланд» с моторами BMW- IV, приобретенная «Люфтганзой» в количестве 9 экземпляров. За ней последовала лодка «Ромар», способная перевозить 12–16 пассажиров в двух закрытых кабинах. Три таких самолета купила «Люфтганза» для полетов над Балтикой, один приобрели французские ВМС. На ней стояли новые немецкие двигатели BMW-VI. Во второй половине 20-х годов завод Рорбаха в Копенгагене выпустил также две двухмоторные «летающий лодки» — пассажирскую «Рокко» и грузовую «Ростра». Первая была снабжена двигателями Роллс-Ройс «Кондор-3», вторая — радиальными двигателями «Юпитер-VI» [5. с. 768]. Несмотря на все усилия, Рорбаху не удалось получить крупных заказов на свою весьма дорогостоящую продукцию[8]. В 1931 г., в обстановке мирового экономического кризиса, фирма была закрыта. Примером большой американской «летающей лодки» рассматриваемого периода может служить самолет Консолидейтед «Коммодор» (рис. 1.68). Этот двухмоторный моноплан с приподнятым на стойках над фюзеляжем крылом проектировался как дальний военно-морской разведчик, но применялся также как пассажирский, спорный перевозить от 20 до 32 человек. Всего было построено около 50 самолетов, разных по назначению и типу двигателей [5, с. 259]. В Англии самым известным производителем «летающих лодок» была фирма Шорт, внешне они мало отличались от «лодок» периода первой мировой войны: для них было характерно бипланное крыло с расположенными в промежутке между крыльями двигателями и фюзеляж-лодка с килеватым днищем. Таким образом, в отношении общей компоновки гидросамолетов (впрочем, как и самолетов других типов) английские авиаконструкторы были достаточно консервативны. Однако имелось одно существенное отличие — если «лодки» времен мировой войны были целиком деревянные, то на самолетах фирмы Шорт корпус «летающей лодки» имел металлическую конструкцию.  Рис. 1.68. Консолидейтед «Коммодор» Существенным недостатком древесины как конструкционного материала было то. что она впитывает воду. Несмотря на защитные лакокрасочные покрытия корпус деревянной «летающей лодки» постепенно пропитывался влагой. В результате вес самолета увеличивался, иногда на несколько сотен килограммов. Это и послужило стимулом к использованию металла. Освальд Шорт запатентовал идею металлического корпуса для «летающих лодок в 1921 г. В патенте он писал: „Данное изобретение касается конструкции фюзеляжей или корпусов „летающих лодок“ для металлических самолетов, в которых легкий и прочный металлический сплав, такой же как дюралюмин, может быть с успехом и безопасностью применен для создания основных частей конструкции, а также конструкции, в которой внешняя металлическая оболочка является основным силовым элементом“ (цит. по [36, с. 61–62]). Как следует из сказанного, О. Шорт был не только инициатором использования металла в конструкции „летающих лодок“, но также сторонником применения металлической работающей обшивки. Первую „летающую лодку“ с металлической работающей обшивкой фирма Шорт построила в 1924 г. на основе двухмоторной „лодки“ времен войны Шорт F.5. Однако, опасаясь коррозии дюралюминия под воздействием морской воды, правительство Англии отказалось от покупки гидросамолетов с металлическим корпусом. Только после того, как коррозийная стойкость обшивки была усилена путем нанесением цинкового покрытия, идеи О. Шорта получили применение. Наиболее известные „летающие лодки“ фирмы Шорт в 20-е годы — S.5 „Сингапур“ (1926 г.) и S.8 „Калькутта“ (1928 г.). Первый из этих самолетов был двухмоторным дальним морским разведчиком. Он имел хорошие для своего времени летные характеристики (в частности, этобыла единственная тяжелая „летающая лодка“ 20-х годов, максимальная скорость которой превышала 200 км/ч) и в различных модификациях применялся до конца 30-х годов. S.8 „Калькутта“ (рис. 1.69) представляла собой трехмоторный пятнадцатиместный пассажирский биплан, ставший серьезным конкурентом известному английскому пассажирскому самолету HP.42 на маршруте Англия — Индия. Почти не уступая HP.42 в скорости, Калькутта» привлекала большей безопасностью при полетах над морскими просторами. Всего построили 16 самолетов S.8. Самой крупной «летающей лодкой» — бипланом 20-х годов был морской разведчик и бомбардировщик Блекберн «Айрис». Площадь крыла этого самолета, получившего известность своими дальними перелетами в 1927–1928 гг., составляла 230 м 2, взлетный вес — более 13тонн. В конструктивном отношении он уступал «лодкам» фирмы Шорт. Деревянная конструкция и коробчатое бипланное хвостовое оперение делали его устаревшим. Поэтому ВМС заказало только 4 таких самолета. В 1933 г. «Айрис» уступил пальму первенства многоцелевому военному гидросамолету Шорт R-6/28 (рис. 1.70). Этот 6-моторный самолет с размахом 36.6 м имел максимальный взлетный вес 31700 кг и долгое время был второй по величине «летающей лодкой» в мире (после Do-X). Конструкция его была типично «шортовской»: биплан с металлическом каркасом и двигателями, расположенными в мотогондолах между крыльями. Как и другие «воздушные гиганты» того времени, самолет не стал серийным [44, с. 61с]. Наряду с «летающими лодками» получили распространение самолеты-амфибии. Возможность взлета и посадки и с суши, и с воды делали этот тип самолета особенно привлекательным для использования в тех областях, где не имелось специальных взлетно-посадочных площадок. Образно выражаясь, амфибию можно назвать «воздушным вездеходом».  Рис. 1.69. Шорт «Калькутта»  Рис. 1.70. Шорт R-6/28 Самолеты-амфибии появились еще в начале 1910-х годов [14, с. 228]. Однако большой вес и аэродинамическое сопротивление сложного поплавково-колесного шасси заметно ухудшали и без того невысокие летные характеристики самолетов Поэтому в годы первой мировой войны, когда скорость, скороподъемность и маневренность приобрели особое значение, этот тип летательных аппаратов почти полностью вышел из употребления.  Рис. 1.71. Самолет-амфибия Лоинг ОA-1С После войны стала развиваться коммерческая авиация, и требования к самолетам изменились. Широкий выбор возможных условий эксплуатации амфибий возродил интерес к этим самолетам. Одним из первых успешных послевоенных самолетов-амфибий был двухместный Лоинг OA-1С (рис. 1.71). Он был построен в США в 1924 г. Мощный 12-цилиндровый двигатель фирмы Паккард и необычный способ соединения фюзеляжа с поплавком без зазора между ними, позволяющий уменьшить лобовое сопротивление, обеспечили самолету такие же характеристики, как у знаменитого DH-4 с колесным шасси. С убранными в ниши в центральном поплавке колесами ОА-1С мог развивать скорость до 196 км/ч — больше других гидросамолетов того времени, обладая при этом удовлетворительной весовой отдачей — 31 %[39, с. 486]. Выступающий вперед поплавок хорошо защищал мотор и пропеллер от брызг. Самолет имел долгую жизнь: одна из модификаций производилась в годы второй мировой войны. Лоинг ОА-1 применялся в армии, военно-морских силах, береговой охране и как коммерческий самолет. Дальнейшее развитие самолетов-амфибий в США связано с именем И. И. Сикорского, эмигрировавшего из России в 1918 г. Он первым начал выпускать специализированные пассажирские самолеты этого типа. S-38, появившийся в 1928 г., представлял собой двухмоторный полутораплан с 8-местной пассажирской кабиной. Конструкция носила отпечаток американских «летающих лодок» серии NC, созданных Г. Кертиссом в конце первой мировой войны: двигатели были установлены на стойках между крыльями, хвостовое оперение с помощью двух балок соединялось с крылом (рис. 1.72). Внешне неказистый, получивший прозвище «гадкий утенок» [40, с. 52], этот самолет, тем не менее, принес известность и коммерческий успех и конструктору, и пассажирской авиакомпании «Пан Лмерикен», первой начавшей применять самолеты Сикорского. Надежность, разнообразные условия базирования и большой запас мощности позволяли применять S-38 в самых трудных условиях. Самолет взлетал с неподготовленных площадок и водных акваторий в Центральной и Южной Америке, на Гавайях, в Африке. Благодаря сравнительно легким и мощным звездообразным двигателям воздушного охлаждения Пратт-Уитни «Уосп» (420 л.с.) S-38 имел достаточный запас мощности чтобы продолжить полет при отказе одного двигателя (впервые на двухмоторном пассажирском самолете). Он легко маневрировал на воде, мог автономно выруливать из воды на пологий берег. Управляемость на воде была достигнута весьма оригинально — пилот поочередно выдвигал стойки с колесами, создавая тем самым разворачивающий момент. На самолете установлено несколько рекордов скорости и высоты для данного класса амфибий. Всего было построено более 100 S-38.  Рис. 1.72. Сикорский S-38 над Нью-Йорком По заказу Пан Америкен в 1930 г. И. И. Сикорский на основе самолета S-38 сконструировал 4-моторный S-40 с двигателями Пратт-Уитни «Хорнет» мощностью по 575 л.с. (рис. 1.73). В то время это был самый большой самолет-амфибия в мире. Он мог перевозить 28 пассажиров на расстояние 800 км со скоростью 185 км/ч. Три построенных самолета летали на авиалиниях, соединяющих США с островами Карибского бассейна. О надежности S-40 свидетельствует то, что регулярность полетов составляла 99 %[40, с. 81]. Однако для начала 30-х годов по конструкции он уже устарел, и вскоре его вытеснили более совершенные пассажирские самолеты. Удачные «летающие лодки»-амфибии строила также английская фирма Супермарин. Специалисты этой фирмы начали заниматься гидросамолетами еще в годы первой мировой войны. В 1921 г. по заказу ВМС фирма разработала большой палубный самолет-амфибию «Сигалл» с фюзеляжем в форме лодки. Самолет должен был взлетать с палубы авианосца и предназначался, в основном, для дальней морской разведки. Фюзеляж в поперечном сечении имел характерные для «лодок» фирмы Супермарин округлые очертания и отличался хорошей обтекаемостью. Чтобы не мешать разбегу по воде, колесное шасси могло быть повернуто в горизонтальное положение и прижато к нижнему крылу. Для улучшения маневренности на воде сзади имелся киль, поворачивающийся одновременно с рулем направления. Аэродинамическое качество самолета портили многостоечное бипланное крыло и расположенный между крыльями двигатель Нэпир «Лайон» без обтекателя, поэтому максимальная скорость не превышала 175 км/ч. Экипаж состоял из трех человек — пилота в передней кабине, стрелка и наблюдателя — в задней, за крылом. Имея взлетный вес 2620 кг, «Сигалл» был одно время самым тяжелым палубным самолетом. Шесть построенных самолетов несли службу на авианосном корабле Королевского флота «Игл».  Рис. 1.73. Сикорский S-40 Другим самолетом-амфибией фирмы Супермарин была «летающая лодка» «Си Лайон». По назначению это был истребитель, поэтому самолет одноместный, намного меньших размеров и веса. Его прототипом послужил гоночный Супермарин «Си Лайон», завоевавший первое место в состязаниях гидросамолетов на приз Шнейдера в Неаполе в 1922 г. Для уменьшения лобового сопротивления двигатель закрыли кожухом-обтекателем. При той же мощности силовой установки (450 л.с.) самолет был почти вдвое легче, чем «Сигалл» и мог развивать скорость до 250 км/ч [16, с. 84b-86b]. Французские гидросамолеты первых послевоенных лет могут быть представлены одномоторными «летающими лодками» фирмы FBA. Эта фирма стояла у истоков развития гидросамолетов, первая ее «летающая лодка» создана еще до начала мировой войны. В 1923 г. инженеры FBA построили весьма удачную модель FBA-17 с двигателем «Испано-Сюиза» в 150 л.с. До 1930 г. было произведено 229 этих двухместных гидросамолетов-бипланов, в основном, для ВМС Франции. Таблица 1.8. Характеристики послевоенных «летающих лодок».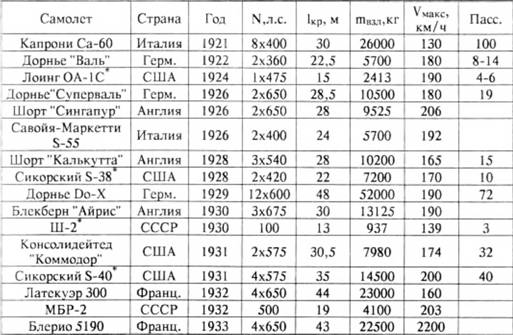 * Амфибия  Рис. 1.74. SM-55 на подлете к Чикаго Развитием этой машины явилась «лодка»-амфибия FBA-19 с более мощным двигателем «Испано-Сюиза» мощностью 350 л.с. (1924 г.). Этот трехместный самолет, колеса которого, также как и на отмеченных выше «амфибиях», могли подтягиваться пилотом с помощью лебедки к крылу, использовался как в качестве военного разведчика, так и для коммерческих целей [16, с. 146b-147b]. По сравнению с немецкими и английскими «летающими лодками- 20-х годов. „FBA“ имели фанерную обшивку корпуса и, в принципе, мало чем отличались от однотипных машин времен первой мировой войны. Говоря о „летающих лодках“ 20-х — начала 30-х годов, нельзя не упомянуть об итальянском самолете Савойя-Маркстти SM-55. Этот двухмоторный морской разведчик и бомбардировщик получил известность благодаря ряду впечатляющих трансконтинентальных перелетов. В 1925 г. на нем был выполнен полет из Италии в Австралию и обратно, а в начале 30-х годов крупные соединения самолетов, возглавляемые министром авиации генералом И. Бальбо, пересекли Атлантический океан. В перелете Рим — Рио-де-Жанейро (1930–1931 гг.) участвовало 14 SM-55, а из Рима в Чикаго летом 1933 г. вылетело 24 самолета! [40, с. 91, 93]. Все самолеты достигли цели (рис. 1.74), что свидетельствовало о их высокой надежности. Однако в конструктивном отношении самолет, выполненный целиком из дерева, трудно отнести к передовым. Двухлодочная схема, очень толстое крыло с открытой кабиной экипажа а носовой части центроплана, расположенная нал крылом силовая установка-тандем, установленное на балках трехкилевое оперение создавали большое аэродинамическое сопротивление. Это, а также отмеченные выше недостатки дерева как материала для гидросамолетов, в 30-е годы сделало его бесперспективным как военную машину. Пять купленных СССР SM-55 применялись как пассажирские для воздушных перевозок вдоль Тихоокеанского побережья страны [45, с. 13]. В Советском Союзе в 20-е годы основные надежды в развитии гидроавиации были связаны с именем Д. П. Григоровича, конструктора известных „летающих лодок“ периода первой мировой войны М-5 и М-9. Однако попытки создать удачный гидросамолет путем совершенствования сильно устаревших „лодок“ военной поры не увенчались успехом. „Опытное и серийное производство морских самолетов лодочного ина у нас, к сожалению, продолжает оставаться в зачаточном состоянии из-за недостатка конструкции, базы для опытного строительства и конструкторских сил. Группа Ришара [9], насколько мне известно, не хочет работать над конструированием лодок и охотнее работает над самолетами с поплавками. Группа Григоровича не дала и не обещает дать в ближайшее время ожидаемых от нее результатов“, — писал конце 20-х годов заместитель начальника ВВС Я. И. Алкснис [46]. Первые удачные гидросамолеты отечественной конструкции появились в СССР только в начале 30-х годов. Это были ближний морской разведчик М БР-2 конструкции Г. М. Бериева и многоцелевой самолет-амфибия Ш-2 В. Б. Шаврова. Обе машины были одномоторными цельнодеревянными „летающими лодками“, но МБР-2 имел свободнонесущее монопланное крыло, а Ш-2 был выполнен по схеме полутораплан. Трехместный МБР-2 с двигателем M-I7 мощностью 500 л.с. (с 1935 г. на самолете ставился двигатель М-34, 750 л.с.) состоял на вооружении ВМС, в 30-е годы было построено 1365 самолетов. Ш-2 с М-11 мощностью 100 л.с. широко использовался для перевозки пассажиров и грузов, для ледовой разведки и т. д. в малоосвоенных районах Сибири. Дальнего Востока и Крайнего Севера. Он мог взлетать и садиться на небольшие сухопутные аэродромы, а при их отсутствии — на реки и зера, брал на борт 3–4 человек. С 1932 по 1934 гг. авиапромышленность выпустила около 270 Ш-2[9, с. 291. 434–435]. Так как производство собственных гидросамолетов в СССР только разворачивалось, „летающие лодки“ приобретали также за рубежом, в основном у Италии. Выше ле упоминалось о поставках в СССР Дорнье „Валь“ и SM-55. В 1931 г. советское равительство закупило несколько итальянских одномоторных „лодок“ Савойя- Маркетти SM-62, а с 1932 г. они выпускались по лицензии в Таганроге под маркой МБР-4 (всего изготовлен 51 самолет) [45, с. 14]. В период, когда скорость полета самолетов составляла около 200 км/ч, „летающие лодки“ имели благодатную почву для развития. Тихоходность летательных аппаратов делала почти незаметной аэродинамические недостатки угловатых форм „лодки“ подкрыльевых поплавков, да и формы самолетов с обычным шасси были весьма далеки от совершенства. Как видно из табл. 1.9, „летающая лодка“ S-8, благодаря более мощным двигателям и большей нагрузке на крыло[10], даже превосходила по скорости пассажирский самолет „Аргоси“ с колесным шасси при практически один» коком числе пассажирских мест. Единственное, в чем «летающие лодки» уступали «нормальному» самолету, это эксплуатационные расходы. Гидросамолеты, подверженные агрессивному воздействию соленой воды, чаше требовали ремонта: дополнительные расходы были связаны с доставкой пассажиров и грузов с берега и на берег с более трудоемкой процедурой заправки горючим; сложнее было обеспечить сохранность самолета при стоянке, особенно в непогоду. Однако эти недостатки компенсировались большей безопасностью полета на «летающей лодке» над водные просторами, возможностью эксплуатации в необорудованных аэродромами района^ Конец 20-х и первую половину 30-х годов называют «золотым веком» «летающих лодок» [40]. Таблица 1.9. Сравнение характеристик английских трехмоторных пассажирских бипланов с колесным и лодочным шасси [15].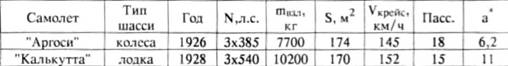 * a — себестоимость перевозок, цент/пасс км За исключением работающей металлической обшивки в конструкции фюзеляжа «летающие лодки» мало что дали для технического прогресса в авиации: наоборот многие идеи конструкторы гидросамолетов брали из опыта строительства обычных самолетов. Основная заслуга «летающих лодок» и амфибий 20-х годов состоит в освоении новых авиационных маршрутов, налаживании воздушной связи с отдаленными частями Земного шара, изучении труднодоступных географических зон, е накоплении опыта полетов над морями и океанами. Все это сослужило важную роль в развитии дальних пассажирских перевозок, способствовало повсеместному распространению достижений цивилизации. Развитие легкомоторных самолетов После окончания многолетней мировой войны начало возрождаться романтическое увлечение авиацией. Неукротимая страсть человека своими руками построить «летательную машину» и подняться на ней в небо вновь, как и в начале века, овладела умами многих энтузиастов. Снова стали подниматься в воздух самолеты-самоделки предельно простой конструкции, с маломощными моторами, часто взятыми с автомобиля или мотоцикла. Стимулом к развитию легких одномоторных самолетов послужили также прерванные войной авиационные состязания. Многие бывшие военные летчики стали искать средства к существованию в роли спортсменов-гонщиков и «воздушных акробатов». Нередко они зарабатывали тем, что, купив подержанный самолет, предлагали свои слуги в качестве «воздушного такси» и просто катали желающих над аэродромом, т. к. немногочисленная на первых порах регулярная пассажирская и почтовая авиация не могла обеспечить работой огромное число демобилизованных после войны пилотов. В 1922 г. в США имелось 129 частных служб «воздушного такси», расположенных на 107 аэродромах 31 штата [47, с. 113]. Новой сферой применения легких самолетов стало использование их в сельскохозяйственных работах, в первую очередь для опыления посевов с целью ничтожен и я насекомых-вредителей. Первые такие опыты состоялись в августе 921 г. в штате Огайо, США, по просьбе местного сельскохозяйственного управления. Они увенчались успехом и были продолжены в следующем году. Для работ использовался двухместный биплан Кертисс JN-4 «Дженни», на котором вместо второго пилота установили бак с ядохимикатами. В 1924 г. в США появилась первая фирма, специализирующаяся на применении авиации для сельскохозяйственных целей — «Хафф-Дейланд Мануфэктуринг Компани» [47, с. 113]. В начале 20-х годов опыты по использованию самолетов в интересах сельского хозяйства начались также в СССР. В июле 1922 г. на Московском аэродроме состоялись первые эксперименты: с самолета, летящего на разных высотах, опрыскивали изложенные на поле листы бумаги, при этом определялся характер потока капель, их число на единицу площади. Для опыления (или. как тогда говорили, «аэропыла») применялся учебный биплан В. Н. Хиони, названный почему-то «Конек-Горбунок». За аэродромными экспериментами последовали опыты в полевых условиях, затем опыление с самолетов стали использовать для борьбы с саранчой в Средней Азии, на Северном Кавказе, в Поволжье. Позднее самолеты стали применять и для засевания полей («аэросев») [48]. Надежные и дешевые легкомоторные самолеты требовались и аэроклубам для обучения полетам многочисленных любителей авиации. Первое время для указанных выше задач использовались уцелевшие после войны самолеты, но невысокий ресурс и неэкономичность военных машин привели к тому, то в начале 20-х годов появились предпосылки для развития новых легкомоторных самолетов. По данным П. М. Крейсона, за первые 10 послевоенных лет в мире было построено 413 различных типов таких машин [4, с. 146–166]. Благодаря небольшой стоимости некоторые из них строились в тысячах экземпляров. Однако большинство та шин были мелкосерийными или единичными; непрофессионализм значительного числа конструкторов-самоучек не позволял создать по-настоящему удачный самолет. В развитии конструкции легкомоторных самолетов в 20-е — начале 30-х годов можно выделить три основных этапа: начало 20-х — создание одноместных самолетов-авиэток с простейшими двигателями мощностью 10–35 л.с.; середина 20-х — появление двухместных бипланов с двигателем в 60-100 л.с., пригодных как для портивных полетов, так и для обучения пилотов; конец 20-х — начало 30-х годов — распространение 2-3-местных самолетов многоцелевого назначения с моноплан- чым крылом и мотором мощностью 100 и более лошадиных сил. Первый из указанных этапов явился продолжением прерванной войной линии развития самолета-авиэтки или «воздушного мотоцикла», основоположниками которой были А. Сантос-Дюмон во Франции и Г. Граде в Германии. Как до воины, так и после нее авиэтки обычно строили по схеме моноплан из наиболее доступных материалов: дерева, проволоки и полотна. Чаше всего применялся мотоциклетный двигатель воздушного охлаждения. Отличие заключалось в том. что в 20-е голы при конструировании таких легкомоторных аппаратов использовался опыт планеростроения, т. к. после мировой войны планеризм, как наиболее доступный вид авиаспорта, получил широкое развитие. Это дало возможность строить самолеты с намного лучшим аэродинамическим качеством, чем до войны. Ушли в прошлое примитивные бесфюзеляжные конструкции с подвешенным под крылом стульчиком для летчика v прикрепленным на балках хвостовым оперением. Выводы теории индуктивного сопротивления заставили конструкторов увеличить удлинение несущей поверхности был улучшен профиль крыла, появился хорошо обтекаемый фюзеляж, свободнонесушее крыло. В результате авиэтки с моторами мощностью всего в несколько десятков лошадиных сил могли не только летать, но и развивали скорость как у боевых самолетов времен первой мировой войны. Аэродинамическое качество некоторых и этих самолетов составляло величину 10 и более: маломощность силовой установки предопределила поиск возможностей аэродинамического совершенствования машины. К сожалению, этот плодотворный путь развития авиации вскоре оборвался. В легкомоторной авиации стали применять специализированные двигатели с большей мощностью и меньшим удельным весом, и вопросы обтекаемости конструкции на время отошли на второй план. Таблица 1.10. Характеристики некоторых типичных легкомоторных самолетов 1920-х — начала 1930-х годов.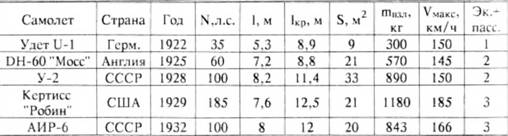 Наибольшее развитие самолеты-авиэтки получили в Германии, стране, где по Версальскому договору спортивная легкомоторная авиация была одной из немногих разрешенных сфер деятельности авиапромышленности. Среди первых удачно летавших немецких легкомоторных самолетов — монопланы Удет U-1, Клемм, L.-15, L.-20 124, с. 442). В СССР неплохо летавшие авиэтки построили военные летчики В. О. Писаренко и В. П. Невдачин. Один из этих самолетов, «Буревестник» С-3. летал с мотоциклетным мотором мощностью всего 7-12 л.с. [20, с. 395]. На рис. 1.75 показана ешеодна хорошо летавшая отечественная авиэтка — «Октябренок». Правда построена она была уже в 30-е годы. Органическим недостатком авиэтки было отсутствие запаса мощности в полете. Это ограничивало маневренность и высоту полета, затрудняло взлет, делало опасным полеты в ветреную погоду. По указанным причинам в середине 20-х годов сверхлегкие авиэтки начали вытесняться самолетами с более мощными двигателями. Одним из самых знаменитых легкомоторных самолетов середины 20-х годов был двухместный биплан английской фирмы Де Хевилленд DH-60 «Мосс» (рис. 1.76). Внешне (да и по скорости) этот самолет. 1925 г. постройки, почти не отличался от довоенных бипланов. Но сочетание простоты и легкости конструкции, надежного и легкого мотора (ABC «Циррус», 60 л.с.) и отличной устойчивости и управляемости дают основания считать его выдающимся образном авиационной техники. Относительный вес конструкции DH-60 составлял всего 0,61. что примерно на 15–20 % меньше, чем в среднем у самолетов. Очень небольшая посадочная скорость (60 км/ч) повышала безопасность посадки. Вместе с тем, самолет имел достаточный запас мощности для маневров и полета в неспокойной атмосфере. Благодаря двухместной кабине и простоте пилотирования DH-60 мог использоваться не только как спортивный или туристский самолет, но и в качестве учебной машины. На нем прошли обучение многие тысячи пилотов в Англии, Австралии, Швеции, Финляндии, Японии, Канаде. До 1928 г. английские заводы выпустили около 500 DH-60: самолет строили также в Австралии, Финляндии и других странах. В 1927 г. на самолетах этой марки был выполнен перелет из Лондона в Кейптаун и обратно, а о превосходных маневренных качествах машины свидетельствует первый приз за акробатические полеты, завоеванный на Международных авиационных состязаниях в Копенгагене. За самолетом 1925 г. последовало целое семейство «мотыльков»[11]. В 1928 г. появился DH-60G «Джипси Мосс» с новым двигателем Де Хевилланд «Джипси» мощностью 100 л.с. и несколько облагороженными внешними формами. Он строился серийно до 1934 г. в Англии, США, Франции и Австралии как спортивный и учебно-тренировочный самолет. Более заметно отличался от прототипа «Пусс Мосс» — подкосный моноплан с закрытой кабиной на 2–3 человек и более мощным двигателем «Джип- си-3» в 120 л.с. Он проектировался как самолет для скоростных дальних перелетов и оправдал это предназначение: летом 1931 г. английская летчица Эми Джонсон осуществила на «Пусс Мосс» падет из Лондона в Токио за 9 дней, а в марте 1932 г. Джим Моллисон долетел на нем из Лондона до Кейптауна и обратно за 4 дня 17 часов и 19 минут. Другим выдающимся достижением этого летчика и этого самолета был первый в истории одиночный перелет через Атлантический океан с востока на запад, состоявшийся в августе 1932 г. Однако самым известным стал DH-82 «Тайгер Мосс» с двигателем «Джипси Мэджор», 130 л.с. (1931 г.). В конструкции этой машины Ж. Де Хевилланд вновь вернулся к схеме «биплан» с открытыми кабинами летчика и пассажира. Самолет прославился и сверхдальними перелетами на нем из Англии в Австралию (летчики Ф. Чичестер, Э. Эрхарт, Дж. Мол и сон), и как первоклассная машина для первоначального обучения полетам. К началу второй мировой войны в английских авиационных школах находилось более тысячи ОН-82, а всего выпущено около 7200 этих самолетов [5, с. 308–311].  Рис. 1.75. Авиэтка «Октябренок» под крылом самолета К-3  Рис. 1.76 Де Хевилленд DH-60G «Джипси Мосс» Выдающимся образцом легкомоторных самолетов рассматриваемого типа был также биплан У-2 (рис. 1.77), построенный в СССР в 1927 г. под руководством Н. Н. Поликарпова для замены учебного У-1. На самолете стоял первый советский серийный авиамотор М-11 мощностью 100 л.с., спроектированный специально для этой машины. Как и DH-60, У-2 отличатся предельной простой и технологичной конструкцией. Силовой каркас был сделан из сосновых реек, расчаленных проволокой и обтянутых полотном. Удачно подобранные центровка и параметры хвостового управления обеспечивали хорошую устойчивость и управляемость на всех режимах полета. Самолет не входил в штопор, а при принудительном вводе сам выходил из него, когда летчик отпускал ручку управления. Скорость снижения с выключенным мотором составляла 1 -2м/с, что меньше, чем при спуске человека с парашютом. М. М. Громов вспоминал свои впечатления о первом полете на этом самолете 7 января 1928 г.:«…я быстро выявил, что машина устойчива, чрезвычайно проста в управлении и обладает отличными летными качествами. Поскольку это учебный самолет, то я проделал все эволюции, необходимые в этом случае, но с такими отклонениями, которые мог бы допустить неопытный ученик. Что же оказалось? Машина прощала очень грубые ошибки, и их можно было легко исправить. Двигатель М-11 оказался на редкость надежным и выносливым, простым и удобным в эксплуатации как на земле, так и в воздухе. Его мощность, вес, габариты, экономичность и прочие технические данные как нельзя лучше гармонировали с остальными характеристиками этого замечательного самолета. Завершив испытания, я дал самую высокую оценку и машине, и мотору» [49, с. 82].  Рис. 1.77. У-2 У-2 создавался как самолет для первоначального обучения летчиков и был основной машиной в аэроклубах. Вместе с тем, он получил распространение и как связной, санитарный, сельскохозяйственный и т. д. В годы второй мировой войны У-2 с успехом применялся в качестве легкого ночного бомбардировщика. Самолет строили и после войны, до начала 50-х годов. Всего было выпущено около 33 тысяч экземпляров в различных модификациях [50, с. 63]. По длительности производства и универсальности применения У-2 не имел аналогов. В США примером легкомоторного самолета общего назначения 20-х годов является Консолидейтед РТ. Этот двухместный биплан с двигателем воздушного охлаждения создан в 1923 г. для замены популярного учебно-тренировочного самолета периода первой мировой войны Кертисс «Дженни». Было построено более 600 Консолидейтед РТ, в основном по заказу армии и военно-морских сил [51, с. 159]. В 1927 г. американский пилот Чарльз Линдберг совершил авиационный перелет из Нью-Йорка в Париж. Это было во многих отношениях выдающееся событие. Прежде всего, это был первый беспосадочный трансатлантический перелет с континента на континент[12]. Во-вторых, это был одиночный полет: чтобы увеличить запас топлива и не подвергать риску ничью жизнь, Линдберг решил лететь один. В-третьих, перелет был осуществлен на одномоторном самолете-моноплане с обычным колесным шасси (рис. 1.78); до этого на дальние трансокеанские полеты решались только на многомоторных машинах (обычно это были «летающие лодки»). Одним из стимулов к перелету послужил приз в 25 тысяч долларов, учрежденный еще в 1919 г. владельцем одного из нью-йоркских отелей Раймондом Ортейгом. Неоднократные попытки преодолеть океан не увенчались успехом и унесли жизни нескольких летчиков. Тем не менее Линдберг решил бросить вызов судьбе. Он заказал на фирме Райян специальный самолет. За основу был взят одномоторный пятиместный пассажирский Райян М-2 с двигателем воздушного охлаждения Райт «Уирлвинд» J-5 мощностью 223 л.с. Для большей дальности полета размах крыла был увеличен на 3 м, а почти весь внутренний объем фюзеляжа, включая кабину пилота, занял топливный бак. Место для летчика находилось в задней части пассажирского салона. Оттуда был обзор только вбок, для наблюдения вперед приходилось пользоваться перископом. Стремясь максимально облегчить самолет, Линдберг решил не брать в полет рацию и парашют, и даже снял часть навигационных приборов. 20 мая 1927 г. «Дух Святого Луиса» («Spirit of St.Louis»), как окрестил свой самолет Ч. Линдберг, стартовал с аэродрома Рузвельт-Фильд в Нью-Йорке и взял курс на восток. На борту находилось 1600 литров топлива, что составляло более половины всего веса самолета. Линдберг решил лететь по дуге большого круга, представляющей собой кратчайшее расстояние между двумя точками на шаре. Для этого через каждый час полета он менял курс. После 33 часов 30 минут после старта, преодолев без единой посадки 5809 км, Линдберг приземлил машину на аэродроме Ле Бурже под Парижем. Но самое опасное оказалось впереди. Огромная толпа парижан встречала летчика. «Казалось, сотни тысяч люден бежали к самолету. Я выключил мотор, чтобы пропеллер случайно не убил кого-нибудь, и потребовал что-нибудь сделать, чтобы спасти самолет от налетевшей толпы людей… Когда самолет начал трещать, я решил вылезти из кабины, чтобы отвлечь внимание человеческой массы собственной персоной… и, как только моя нога показалась в дверях, тело было извлечено без моей помощи. Почти полчаса я не мог попасть на твердую землю, так как меня восторженно носили по всему аэродрому», — писал позднее Ч. Линдберг (цит. по [21, с. 114–115].  Рис. 1.78. Самолет Ч. Линдберга в Аэрокосмическом музее, США Перелет Линдберга через Атлантику оказал огромное влияние на авиацию, сопоставимое, разве что, с реакцией на перелет Л. Блерио через Ла Манш в 1909 г. Он убедительно продемонстрировал возросшие возможности авиационной техники и способствовал быстрому развитию производства частных легкомоторных самолетов. Если в 1926 г. в США имелся только 41 самолет частного пользования, то в 1928 г. их было зарегистрировано уже 620, а в 1929–1454 [47,с. 129]. Как и 18 лет назад, самолет-рекордсмен послужил образцом для многочисленных подражаний и содействовал распространению схемы моноплан в авиастроении. Примером подражания самолету Ч. Линдберга является трехместный подкосный верхнеплан Кертисс «Робин» (1929 г.) с таким же, как у Линдберга, радиальным мотором воздушного охлаждения. От самолетов середины 20-х годов он отличался не только монолланным крылом, но и более мощным двигателем, большими размерами и весом, более совершенным пилотажно-навигационным оборудованием. Энтузиазм, вызванный перелетом Линдберга. и повышение надежности авиационной техники породили надежды на то, что в скором времени личный самолет станет такой же привычной вещью, как автомобиль. Для этого нужно только обеспечить низкую стоимость, простоту и безопасность в пилотировании. Так возникла идея «летающего автомобиля» или «авиафорда». Одним из апологетов данной идеи был Ю. Видал, начальник Аэронавтического отдела Департамента коммерции США. По его оценке, сделанной в 1933 г., «самолет для каждого» должен был иметь максимальную скорость 160 км/ч, посадочную скорость 40 км/ч, малую длину разбега и при этом стоить как обычный автомобиль — 500-1000 долларов [47,с. 122]. Заманчивость массового выпуска привлекла немало производителей самолетов. Одним из них был американский инженер Ф. Вейк. В 1934 г. он демонстрировал свой вариант «летающего автомобиля» — самолет W-1: верхнеплан с толкающим пропеллером и трехопорным шасси с управляемым исковым колесом для маневрирования при движении по земле. Его конкурент, самолет В. Уотсрмана «Эрроубил», представлял собой настоящий автомобиль с крыльями. В зависимости от ситуации этот аппарат мог летать или двигаться свои ходом по автомобильной дороге. Идея массового самолета типа «летающий автомобиль» захватила не только США, но и другие страны. 25 августа 1934 г. газета «Правда» в передовой статье «Советский воздушный форд» писала: «Интерес к легкому самолету носит всеобщий характер. Да иначе и быть не может, ибо потребность в нем ощущается положительно всеми. …Насытить страну легкими самолетами — такова насущная необходимость…». Прототипом советского «воздушного форда» стал самолет А. С. Яковлева АИР-6 с двигателем М-11 — подкосный моноплан смешанной конструкции с закрытой кабиной для летчика и двух пассажиров (рис. 1.79). Так как им обычно пользовались высокопоставленные чиновники, АИР-6 называли также «исполкомовский самолет». Он оказался удачным: в августе 1934 г. на четырех АИР-6 был выполнен успешный перелет Москва — Иркутск — Москва дальностью около 9000 км, а 23 мая 1937 г. летчик Я. В. Письменный установил на поплавковом АИР-6 мировой рекорд дальности для гидросамолетов этого класса — 1297 км. Однако построено их было немного — 53, так как идея «летающего автомобиля» вскоре отошла на второй план [9, с. 373, 435].  Рис. 1.79. «Исполкомовский самолет» АИР-6 В Германии ['.Юнкерс также увлекся идеей массового легкого самолета. Таковым должен был стать разработанный в конце 20-х годов двухместный цельнометаллический моноплан Юнкерс «Юниор» с двигателем мощностью 80 л.с. В 1929 г. японский журналист Иосихара выполнил на этой машине в одиночку перелет из Берлина в Токио за 10 дней без поломок в пути, что явилось хорошей рекламой самолету. Юнкерс надеялся, что в следующем году ему удастся продать частным лицам не меньше 5 тысяч «Юниоров» [18, с. 55]. Однако надеждам на «самолет в каждом гараже» не суждено было сбыться. Задача создания безопасного и в то же время очень дешевого самолета оказалась утопией. За любые положительные свойства техники, в том числе за многовариантность применения и за безопасность использования, надо платить, а стоимость «летающего автомобиля» заметно превысила расчетную и оказалась не по карману «среднему покупателю». Свою лепту в крах идеи «самолета для каждого» внесли и внешние обстоятельства: мировой экономический кризис, начавшийся в конце 20-х годов, и ориентация на военную продукцию в преддверии второй мировой войны. Другой заманчивой, но оставшейся нереализованной концепцией в авиации 20-х годов была идея планерлета. Под этим термином понимался большой планере высоким аэродинамическим качеством, снабженный маломощным мотором и предназначенный для перевозки грузов или пассажиров. Предполагалось, что планерлет без груза будет взлетать на своем двигателе, а нагруженный — с помощью самолета-буксировщика. Если концепция «авиафорда» зародилась в США — стране, первой освоившей массовый выпуск автомобилей, то идея планерлета была наиболее популярна в СССР. Приводились доводы, что перевозка людей и грузов на таком летательном аппарате будет экономичнее, чем на автомобиле в условиях бездорожья [52], и многие авиаконструкторы охотно занялись проектированием планерлетов. Вскоре, однако, выяснилась непрактичность данной затеи. Большая нагрузка на мощность, достигавшая 20 и более кг/л.с., не позволяла осуществлять автономный взлет и, в сочетании с малой нагрузкой на крыло, делала трудным полеты в неспокойном воздухе. Другими словами, планерлеты обладали теми же недостатками, что и авиэтки начала 20-х годов, но в еще большей степени. Задача создания «самолета для каждого» стимулировала поиск путей безопасности полета. Ведь идея «летающего автомобиля» была жизнеспособна только в том случае, если малоопытный пилот-любитель мог без особого риска пользоваться личным самолетом так, как он пользуется обычным автомобилем. Одной из наиболее распространенных причин летных происшествий было превышение допустимого угла атаки в полете. Возникающий вследствие этого срыв потока с верхней поверхности крыла, потеря управляемости и часто возникающий затем штопор явились причиной многих катастроф. По мере характерных для самолетостроения тенденций к увеличению нагрузки на крыло и увеличению высоты полета диапазон допустимых (летных) углов атаки становился все более ограниченным[13]. Спектр технических мер, направленных на расширение безопасных режимов полета, может быть подразделен на две основные группы: применение щелевого крыла и применение специфических аэродинамических схем. Идея щелевого крыла возникла еще в годы первой мировой войны. В 1917 г. немецкий летчик и ученый-аэродинамик Густав Лахманн потерпел аварию в результате того, что пилотируемый им самолет попал в срыв и упал. Находясь в больнице после аварии, Лахманн обдумал причины происшедшего с ним летного происшествия и пришел к выводу, что в случае, если крыло будет иметь одну или несколько щелей вдаль размаха, воздух сможет перетекать с нижней поверхности на верхнюю, уменьшая там разрежение и препятствуя, тем самым, отрыву обтекающего потока. Своими соображениями он поделился с известным аэродинамиком Людвигом Прандтлем. Выполненные в аэродинамической лаборатории Прандтля опыты доказали верность суждений Лахманна: при наличии продольных щелей подъемная сила крыла на больших углах атаки возрастала более, чем в полтора раза. В 1918 г. Лахманн получил патент на свое открытие [37, с. 80–81; 24, с. 404]. Независимо от Лахманна и практически одновременно с ним к выводу о преимуществах щелевого крыла пришел известный английский авиаконструктор Фредерик Хендли Пейдж. В 1918 г. он провел серию опытов на моделях и убедился, что продольный разрез вблизи передней кромки крыла позволяет увеличить допустимый угол атаки и добиться 60 % прироста подъемной силы [37, с. 80–81]. Благодаря богатому конструкторскому опыту Хендли Пейдж сумел быстро превратить теоретическую идею в пригодное для практических целей механическое устройство. В 1919 г. он запатентовал конструкцию предкрылка, ставшего известным под названием «предкрылок Хендли Пейдж» [27, с. 104]. Для того, чтобы предкрылок не увеличивал аэродинамическое сопротивление крыла при полете на большой скорости, на малых углах атаки он плотно прилегал к поверхности крыла, образуя единый профиль, а на больших углах атаки выдвигался вперед, образуя щель вдаль передней кромки крыла (рис. 1.81). Вначале управление предкрылком осуществлялось летчиком с помощью тяг, но вскоре появились автоматически выпускаемые закрылки. Они выдвигались за счет разрежения воздуха над крылом на больших углах атаки. Говоря о начале применения предкрылков в авиации, нельзя не упомянуть о Сергее Алексеевиче Чаплыгине. В 1921 г. он дал теоретическое обоснование работы щелевых крыльев и разработал общие формулы для их расчета, что позволило определять эффективность таких крыльев на различных режимах обтекания профиля [53, с. 258–288].  Рис-1.80 Пожарные снимают самолет, упавший на крышу дома на ул. Полянка в Москве  Рис. 1.81- Предкрылок Хендли Пейдж. Рисунок из патента Крыло с предкрылками впервые было опробовано в Англии в начале 20-х голов на одномоторных самолетах DH-9 и DH-60 «Мосс». В 1926 г. Лахманн установил предкрылки на немецком одномоторном биплане Альбатрос С-72 [54, с. 137; 55, с. 62]. Полеты показали, что применение предкрылков позволяет увеличить максимально допустимый угол атаки с 10–154° до 27–37°, намного снижает вероятность попадания самолета в срыв и штопор. Этот успешный опыт способствовал широкому применению крыла с предкрылком в авиастроении. В 1928 г. Военное министерство Англии даже ввело указ об обязательном применении предкрылков на самолетах 127, с. 104 1. Вообще же предкрылки чаще всего устанавливались на маневренных самолетах — спортивных, самолетах для воздушного боя. Значительный вклад в развитие безопасности полета внесла деятельность двух американских меценатов — Даниэля и Гарри Гуггенхеймов. В 1926 г. они основали фонд содействия развитию авиации, главной целью которого являлось уменьшение числа летных происшествий. В 1929 г. на деньги этого фонда был проведен специальный конкурс на самый безопасный самолет. Главный приз составлял 100 тыс. долларов — очень большую в то время сумму. Почти все самолеты, принимавшие участие в конкурсе, имели щелевое крыло той или иной конструкции [54, с. 132–133]. Некоторые авиаконструкторы в поисках путей создания «безопасного самолета» решили отойти от общепринятой в авиастроении схемы и создали экспериментальные самолеты схем «бесхвостка», «утка», «тандем». Они считали, что применение нестандартных аэродинамических схем позволит значительно повысить безопасность полета, т. к. при указанных компоновках рули высоты расположены на крыле или перед ним и, следовательно, не теряют эффективность из-за срыва потока за крылом, как случалось на самолетах классической схемы на больших углах атаки. Конструкция экспериментального самолета «Птеродактиль-1» с двигателем мощностью 30 л.с. (рис. 1.82) была подчинена принципиально новой концепции системы управления, разработанной английским ученым и конструктором Г. Хиллом. Понимая, что обычное хвостовое оперение подвержено влиянию завихренного потока за крылом, а элероны часто теряют эффективность на больших углах атаки, Хилл остановил свой выбор на самолете схемы «бесхвостка» с «плавающими» поверхностями управления на концах крыла. Эти органы управления представляли собой элероны большой площади, шарнирно соединенные с крылом таким образом, что сами, независимо от положения самолета, устанавливались «по потоку». Понятно, что такие рулевые поверхности работоспособны при любых углах атаки крыла. Управление направлением полета осуществлялось с помощью поворотных килей, расположенных под крылом и также не терявших эффективность на больших углах атаки. «Птеродактиль-1» испытывался в 1925 г. В целом, он летал неплохо. Самолет не выходил из- под контроля летчика даже при углах атаки в 45°, имел широкий диапазон скоростей полета. Вместе с тем, ощущались колебания самолета при отклонении элевонов — ведь их площадь и момент инерции были в несколько раз больше, чем у обычных органов управления. При валете из-за небольшой скорости и малого плеча действия рулевых поверхностей машина недостаточно хорошо слушалась рулей [56, с. 17–18]. Другим необычным самолетом 20-х годов был F-19 немецких конструкторов — Генриха Фокке и Георга Вульфа. Он имел схему «утка» (рис. 1. 83). Расположение горизонтального оперения впереди крыла должно было устранить опасность попадания самолета в срыв и штопор, т. к. при превышении допустимого угла атаки срыв наступал не на крыле, как у обычных самолетов, а на горизонтальном оперении, остановленном, из условия продольной балансировки аппаратов схемы «утка», под большим, чем крыло, углом. Возникающий при этом пикирующий момент автоматически выводил самолет из опасного положения. Самолет имел два двигателя мощностью по 75 л.с. трехместную кабину. Для компенсации путевой неустойчивости из-за удлиненной носовой части фюзеляжа с горизонтальным оперением относительная площадь вертикального киля была в 2–3 раза больше, чем обычно. F-19 впервые поднялся в воздух в 1927 г. В одном из полетов самолет потерпел аварию, в которой погиб Г. Вульф. В 1930 г. появился вариант F-19а с более мощными двигателями. Его испытания прошли вполне успешно. В целом, пилотирование самолета мало отличалось от управления обычным самолетом. Отмечалась высокая эффективность руля высоты, возможность управляемого полета на очень больших углах атаки (Су доп.=1,2), простота взлета и посадки. Но были и недостатки: склонность к продольным колебаниям при полетах в неспокойной атмосфере, заметна, потеря высоты при выходе и: срыва[14] [56, с. 114–115].  Рис. I 82. «Птеродактиль-1»  Рис. 1.83. Фокхе F-19 В начале 30-х годов создание дешевого и безопасного «массового» самолета взялся французский изобретатель А. Минье. 3 1933 г. он построил миниатюрный самолет схемы «тандем» с мотором мощностью всего 18 л.с. (рис. 1.84 Самолет получил название «Пу дю сьель» («Небесная блоха»). Тандемное расположение крыльев должно было обеспечивать хорош\к продольную устойчивость без использования горизонтального оперения, малую чувствительность к изменению центровки и автоматический выход из срывных режимов (по тем же причинам, что и при схеме «утка»). Система управления был.: необычной. Переднее крыло могло поворачиваться вокруг своей продольной оси для управления в вертикальной плоскости. Элероны отсутствовали; для поперечной устойчивости концы крыла имели отгиб вверх. Крылья были расположены очень близко друг к другу, переднее выше заднего. При этом между ними образовывалась сравнительно узкая щель, т. е. переднее крыло как бы выполняло роль щелевого предкрылка. Минье активно пропагандировал «Пу дю сьель», настойчиво проводя мысль, что это и есть тот самый дешевый, простой и безопасный самолет, который легко построить и на котором может летать каждый. Идея была подхвачена и самолеты по тип; «блохи» Минье вскоре появились во многих странах. Всего было изготовлено более 100 самолетов этого типа, в том числе в СССР — около 10. Однако долгожданным «самолетом для каждого» «Пу дю сьель» не стал. Самолет оказался совсем не так безопасен, как ожидали; произошло несколько катастроф, погибли люди. С помощью аэродинамических исследований выяснилось, что из-за близкого расположение крыльев аппарат статически неустойчив, а эффективность продольного управление недостаточна, чтобы вывести самолет из крутого пикирования. Более опасным, чем обычно, оказалось управление с помощью поворота крыла: из-за слишком резкой реакции на отклонения ручки управления была велика вероятность «раскачки» самолета малоопытным пилотом. На основании сделанных выводов в ряде стран были запрещены полеты на самолетах типа «Пу дю сьель» [56, с. 144–146]. Итак, применение необычных аэродинамических компоновок не решило задач, создания «безопасного» самолета. Обладая некоторыми преимуществами, рассмотренные выше машины имели и существенные недостатки. Это делало их неконкурентноспособными по сравнению с привычными самолетами классической схемы, особенно после появления механизированного крыла, позволившего заметно расширить диапазон летных углов атаки и скоростей полета.  Рис. 1.84. Самолет Л. Минье «Пу дю сьель» Что касается самой идеи массового и безопасного самолета, то она была и остается утопической. И в наши дни, при намного более высоком уровне развития авиационной науки и техники, ни один вид летательного аппарата не может быть назван «безопасным». В полетах всегда был, есть и будет элемент риска. Поиск новых путей развития самолетов Как уже отмечалось, обстановка после первой мировой войны не способствовала развитию технического прогресса в авиастроении. В условиях перепроизводства самолетов и отсутствия гарантированных заказов конструкторы, в основном, шли по пути мелких усовершенствований существующих образцов и приспособления военных летательных аппаратов для мирных целей. Однако в середине 20-х годов запасы авиационной техники были исчерпаны (в основном, за счет продажи ее государствам, в которых отсутствовала собственная авиапромышленность), самолеты все активнее стали применяться для коммерческих и научных целей, возникла необходимость замены устаревших образцов стоящих на вооружении самолетов. Все это способствовало активизации поиска новых путей развития авиации. В 20-е годы начались работы по созданию самолетов типа «летающее крыло», развивалась идея безаэродромной авиации, были начаты попытки замены бензинового двигателя внутреннего сгорания другими типами авиационных силовых установок. Идея самолета со специально спрофилированным фюзеляжем, который является как бы частью крыла и участвует в образовании подъемной силы, зародилась еще на заре развития авиации. В 1910 г. Г. Юнкерс разработал проект самолета, в котором пассажиры, двигатели и груз размешались внутри крыла толстого профиля [14, с. 231–232]. Это должно было способствовать повышению аэродинамического качества самолетов и уменьшаю вес конструкции, т. к. расположенные в крыле грузы частично компенсировали нагрузки от действия подъемной силы. С увеличением размеров самолетов и распространением в авиации толстого монопланного крыла идея «крыла-фюзеляжа» начата принимать реальные очертания. В 1924 г. американский авиаконструктор В. Бурнелли построил двухмоторный металлический биплан BR-2 с широким фюзеляжем, имеющим в сечении форму крыльевого профиля (рис. 1.85). Размеры пола грузовой кабины составляли 4.27x4,57 м. высота — 1.98 м. Самолет имел взлетный вес 7500 кг и мог развивать скорость 164 км/ч [16, с. 257b]. Впоследствии Бурнелли выпустил еше несколько однотипных самолетов, на этот раз с монопланным крылом. Его примеру последовала французская фирма Диль и Баклан, создавшая на рубеже 20-х — 30-х годов в качестве эксперимента два пассажирских бесфюзеляжных самолета: DB-70 и DB-71. Напомню, что центральная часть крыла использовалась для размещения пассажиров на самолетах-гигантах Юнкерс G-38 и АНТ-20 «Максим Горький». Однако дальше всех пошел конструктор К. А. Калинин, полностью устранивший фюзеляж на своем семимоторном самолете К-7.  Рис 1.85. Бурнелли BR-2 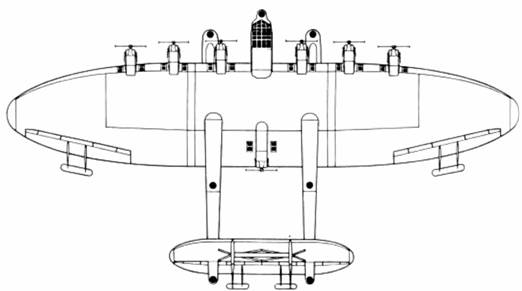 Рис 1.86. Схема самолета К-7 Объясняя свой выбор, конструктор в 1934 г. писал: «При создании новых больших машин новые пути ведут в сторону новых схем самолетов, в сторону использования крыла для размещения грузов. Это значит, что пути ведут к „летающему крылу“, которое и есть идеальный самолет. Чтобы совершить переход к „летающему крылу“, возникла необходимость построить машину по принципу „все в крыле“ [57, с. 203]. Центроплан крыла размахом 53 м имел гипертрофированно толстый профиль (с=33 %). Благодаря этому высота центроплана составляла 2,33 м, что позволяло свободно перемещаться внутри крыла. Общая площадь „жилого отсека“ в центроплана была 6x10.6 м (рис. 1.86). В пассажирском варианте самолета там могли находиться пассажиры (до 128 человек), в военном варианте — бомбы. К-7 разбился 21 ноября 1933 г. во время испытаний на максимальную скорость из-за разрушения одной из балок, несущих хвостовое оперение [57]. Очередным логическим шагом к созданию „идеального самолета“ должно было стать появление „летающего крыла“ — самолета, не имеющего ни фюзеляжа, ни хвостового оперения, ни других частей, создающих „вредное“ (т. е. не связанное с образованием подъемной силы) аэродинамическое сопротивление. Первым за воплощение идеи самолета типа „летающее крыло“ взялся советский авиаконструктор и планерист Б. И. Черановский. В 1926 г. он построил легкий экспериментальный самолет-„бесхвостку“ БИЧ-3 с крылом параболической формы (рис. 1.87). Благодаря большой относительной толщине профиля и значительной длине корневой хорды, двигатель и кабина летчика почти не выступали за обводы крыла. Чтобы максимально уменьшить аэродинамическое сопротивление, было применено одноколесное шасси. Устойчивость и управление должны были обеспечиваться элевонами на задней кромке крыла и расположенным за кабиной килем с рулем направления. По отзывам летчика Б. Н. Кудрина, испытывавшего этот необычный самолет, БИЧ-3 хорошо слушался рулей, обладал удовлетворительной устойчивостью [58]. Однако ненадежная работа мотора и трудности при разбеге из-за одноколесного шасси не позволили закончить испытания. После успешных полетов экспериментального БИЧ-7А с более мощным двигателем и обычным двухколесным шасси (1932 г.) Черановский решил применить схему летающее крыло» при создании пассажирского самолета. БИЧ-14 имел полуутопленную в крыле пятиместную закрытую кабину, два двигателя по 100 л.с. были расположены на передней кромке крыла. В отличие от первых экспериментальных образцов, этот самолет оказался неустойчивым и плохо управляемым, что не позволило применить его для пассажирских перевозок [56, с. 53–54]. Указанные недостатки во многом были вызваны тем, что, в отличие от БИЧ-3 и БИЧ-7А, на БИЧ-14 вертикальное оперение стояло между моторами и не обдуваюсь струей от винта. Из-за небольшого расстояния от центра тяжести самолета его эффективность была недостаточной. Приверженцем идеи «летающего крыла» был также немецкий авиаконструктор У. Липпиш. В 1931 г. он построил экспериментальный бесхвостый самолет «Дельта-1» с крылом большой относительной толщины, со стреловидной передней и прямой задней кромкой. Самолет имел расположенный за кабиной двигатель с толкающим репеллером, вертикальные кили были установлены на концах крыла (рис. 1.88). Продольной устойчивости должен был способствовать, так называемый, самоустойчивый профиль крыла: благодаря отогнутой вверх хвостовой части профиля центр давления смешатся таким образом, что при увеличении угла атаки возникал пикируюший момент, стремящийся возвратить самолет в исходное положение. На задней кромке размешались элероны и рули высоты.  Рис. 1.87. БИЧ 3 На «Дельта-1» был осуществлен успешный демонстрационный перелет по Германии, который породил интерес к новой схеме у конструкторов многих стран. Несмотря на то, что некоторые из первых экспериментальных аппаратов схемы «летающее крыло» продемонстрировали при испытаниях удовлетворительные летные качества, заметных преимуществ перед обычными самолетами они не проявили. При одинаковых весе и мощности максимальная скорость «бесхвосток была не больше, чем у самолетов классической схемы. Не оказалось преимуществ и в отношении дальности и грузоподъемности. Это свидетельствует о том. что аэродинамическое совершенство „летающих крыльев“ 20-х — начала 30-х годов было не выше, чем у обычных самолетов. Небольшие размеры самолетов заставляли конструкторов увеличивать толщину крыла, чтобы разместить внутри пилота и агрегаты, а это вело к росту профильного сопротивления. Кроме того, для „бесхвосток“ было характерно крыло со стреловидностью по передней кромке и большой корневой хордой, имеющее сравнительно небольшое удлинение.  Рис. 1.88. Дельта — Г Таблица 1.11. Характеристики первых самолетов типа „летающее крыло“.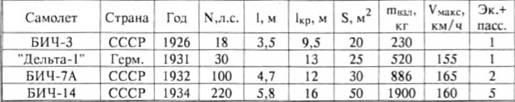 В отличие от других типов летательных аппаратов — дирижабля, вертолета, для взлета самолета требуется разбег по земле. Приземление также происходит с пробегом. В зависимости от веса и нагрузки на крыло взлетно-посадочная дистанция самолетов составляла от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Если в случае вынужденной посадки летчику не удавалось найти подходящей площадки на земле, приземление заканчивалось аварией. Немалые трудности представлял и взлет после вынужденной посадки, даже если последняя прошла успешно. Указанные особенности обусловили работы по созданию самолетов, которые могли бы взлетать и садиться без разбега. Первые проекты самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП) относятся к XIX веку [14. с. 58]. В 20-е — начале 30-х годов появились новые проекты: с поворотными винтами (В. Маргулис. Франция), с поворотным крылом, с останавливаемым и превращаемым в крыло несущим винтом (Г. Геррик, США). В СССР в 30-е годы изучением возможности создания самолета вертикального взлета и посадки занимался Б. Н. Юрьев. В отличие от зарубежных изобретателей. Юрьев выступал за постройку СВВП с вертикальным положением фюзеляжа при взлете [59, с. 8–9]. Воплощению всех этих замыслов препятствовала недостаточная энерговооруженность самолетов: для вертикального взлета требовалась удельная нагрузка на мощность 1.4–1.7 кг/л.с. [59, с. 10]. что примерно вдвое больше реально достижимых в рассматриваемый период величин. После первой мировой войны возобновились работы по вертолетам. История этих летательных аппаратов выходит за рамки книги, поэтому скажу лишь, что к началу 30-х годов вертолет по-прежнему оставался экспериментальным аппаратом. Из-за неудовлетворительной устойчивости и управляемости, небольшой грузоподъемности и малого ресурса агрегатов силовой установки он был неприемлем для решения практических задач. Некоторый успех был достигнут лишь на пути создания автожиров — летательных аппаратов, представляющих собой комбинацию самолета и вертолета. Автожир имеет крыло и фюзеляж, как у самолета и горизонтальный винт, как у вертолета, однако в полете винт не связан с двигателем и вращается под действием набегающего потока воздуха, создавая значительную дополнительную подъемную силу. Хотя автожир и требовал разбега и пробега при взлете и посадке. благодаря искусственной раскрутке горизонтального винта перед стартом дистанция разбега была намного короче, чем у самолета. Кроме того, при остановке мотора в полете авторотирующий несущий винт уменьшал скорость снижения, т. е. играл роль своеобразного парашюта. Это повышало безопасность при приземлении. Недостатками автожира по сравнению с самолетом был больший вес конструкции и большее аэродинамическое сопротивление в полете. Первые успешные автожиры были построены в 1923–1924 гг. испанским авиаконструктором X. де ля Сьерва [60]. В связи с популярностью идеи безопасного „самолета для каждого“ автожир сразу же привлек к себе интерес. К 1933 г. в мире было построено уже более 130 аппаратов этого типа. Некоторые из автожиров производились серийно. В 1934 г. в Москве, в ЦАГИ был создан автожир А-7, на котором впервые в мире установили стрелковое вооружение. В 1941 г. пять автожиров этого типа даже принимали участие в боевых действиях, правда без большого успеха. Автожир имел короткую жизнь. Конструкторы вертолетов, используя опыт строительства автожиров, в частности конструкцию втулки несущего винта, создали во второй половине 30-х годов экспериментальные образцы вертолетов, которые по своим летным возможностям превосходили автожиры. По сравнению с последним. вертолет мог неподвижно висеть в воздухе, был способен к взлету и посадке без разбега и пробе га. В годы второй мировой войны вертолет полностью вытеснил автожир.  Рис. 1 89. Автожир Как уже отмечалось, в 20-е годы удалось достигнуть заметного прогресса и развитии авиационных двигателей внутреннего сгорания. За 10 послевоенных лег удельный вес авиамоторов снизился в среднем на одну треть, вдвое возросла мощность, повысилась надежность. Тем не менее, ученые и изобретатели вели поиск новых, более совершенных типов силовых установок для самолетов. Одним из недостатков, присущих двигателю внутреннего сгорания, было падение мощности с увеличением высоты полета (рис. 1.90». Разряженная атмосфера не обеспечивала карбюратор тем количеством воздуха, которое необходимо для нормального горения смеси, двигатель как бы задыхался. Это делало невозможным полеты на больших высотах, заманчивых тем, что плотность воздуха, а следовательно и аэродинамическое сопротивление, там намного меньше, чем у земли. Для повышения мощности двигателя на высоте были созданы специальные «переразмеренные» моторы. Конструкторы шли на преднамеренное завышение объема или степени сжатия двигателя. Так как при работе у земли на полной мощности двигатель быстро бы вышел из строя (обычно фирмы гарантировали возможность не более пятиминутной работы у земли при полном открытии дросселя [22, с. 163]), «полный газ» давался на высоте, при этом конструктивно предусмотренный запас мощности компенсировал потери из-за уменьшения плотности воздуха. Примером «переразмеренного» авиадвигателя 20-х годов является немецкий BMW-6 или его советским лицензионный аналог М-17, имеющий на номинальном (рассчитанном на продолжительную работу) режиме мощность 500 л.с., а на форсированном (взлетном) режиме — 680 л.с. Недостатком этого способа было увеличение веса двигателя по сравнению с обычным двигателем той же номинальной мощности. Так, удельный вес М-17 был 1,08 кг/л.с. — больше, чем у созданного почти на десять лет раньше обычного двигателя «Либерти» [9, с. 71]. Указанная проблема возродила интерес к весьма популярной в XIX веке идее самолета с ракетным двигателем. Как известно, в отличие от обычного мотора, тяга реактивного двигателя не зависит от высоты полета. Кроме того, отношение тяги к весу у ракетного двигателя намного больше, чем у винтомоторной силовой установки. 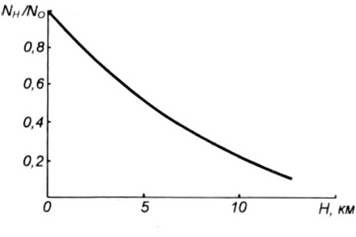 Рис. 1.90 Изменение мощности двигателя при увеличении высоты полета Первые практические шаги в этой области были сделаны в Германии в конце 20-х годов. Группа энтузиастов реактивного полета — М. Вальс. Ф. фон Опель. Ф. Зандер и А. Липпиш решили установить пороховой ракетный двигатель на планере. Такой вид летательного аппарата получил впоследствии название «ракетоплан». Так как ракетный двигатель нужно было разместить так. чтобы не нарушилась центровка аппарата, была выбрана схема «утка». В задней части фюзеляжа установили две пороховые ракеты конструкции Зандера, которые должны были, рабатывать последовательно, одна за другой. 11 июня 1928 г. летчик Ф. Штамер совершил 4 полета на ракетоплане, дальность третьего, самого удачного полета составила около полутора километров. Четвертое испытание едва не закончилось катастрофой. Через две секунды посте запуска двигателя произошел взрыв, и планер загорелся. За счет быстрого снижения Штамеру удалось сбить пламя и благополучно приземлиться. Однако в момент посадки провода электрического запала, изоляция которых сгорела, замкнулись, и воспламенился заряд второй пороховой ракеты. К счастью, пожар удалось быстро потушить и пилот не пострадал [61]. В 1929 г. испытания были продолжены. 30 сентября фон Опель на новом летательном аппарате, на этот раз с хвостовым оперением, установленном на балках за крылом, и снабженном целой батареей из 16 пороховых ракет, совершил 10-минутный полет, во время которого скорость достигала 160 км/ч (рис. 1.91). В конце 20-х — начале 30-х годов опыты по применению ракетных двигателей на планерах проводили также Рааб-Катценштейн, Хети и Эспенлауб в Германии. Катаньо в Италии, Сван в США. Постройкой ракетоплана занималась группа студентов-энтузиастов из Ленинградского политехнического института, но эта работа не была завершена [62, с. 32–33]. Опыты с пороховыми двигателями показали принципиальную возможность полета реактивного летательного аппарата. Однако они не могли дать практического результата. Из-за кратковременности работы порохового РДТТ время полетов, как правило, измерялось секундами. Эксперименты часто сопровождались взрывами и пожарами. Большее практическое значение имели работы по применению пороховых ракетных двигателей в качестве стартовых ускорителей. Если для горизонтального полета самолета было достаточно иметь тяговооруженность порядка 1/10-1/12, то для излета отношение тяги винта к весу долж- но было составлять не менее 1 /4-1/5, Это затрудняло взлет тяжело нагруженных самолетов, особенно ест и старт происходил с мягкого грунта.  Рис. 1.91. Ракетоплан немецких конструкторов, 1929 г. Опыты по использованию пороховых ракетных двигателей в качестве вспомогательной силовой установки для облегчения взлета самолета начались в Германии и в СССР в 1929–1930 гг. В Германии по инициативе И. Винклера летом 1929 г. ракетные ускорители были установлены на крыле металлического одномоторного самолета Юнкерс W-34. Самолет был снабжен поплавковым шасси и взлет с ускорителями происходил с воды [63]. В СССР работы по созданию авиационных пороховых стартовых ускорителей возглавил В. И. Дудаков. В 1931 г. было выполнено около 100 взлетов на учебном У-1 с ускорителями (рис. 1.92), затем в 1931–1934 гг. проводились опыты по использованию ракетных ускорителей для взлета тяжелых самолетов ТБ-1. Эксперименты показали, что благодаря дополнительной силовой установке длина разбега уменьшается более, чем в 4 раза [64, с. 64–66]. Подводя итоги опытов по применению твердотопливных ракетных двигателей в авиации, С. П. Королев в докладе на Всесоюзной конференции по изучению стратосферы в 1934 г. заявил: «…если можно говорить о применении пороховых ракетных двигателей к самолетам, то только в качестве вспомогательного средства и, в первую очередь, как мощного кратковременно действующего источника силы для взлета» [65 с. 417]. Будущее подтвердило правоту этих слов. Задача повышения мощности двигателя и ее сохранение на больших высотах возродила интерес к казалось бы давно забытому паровому авиационному двигателю. Правда, теперь говорилось уже не о поршневом двигателе, а об использовании в авиации паровой турбины. Опыт применения этого типа энергетической установки в различных областях техники показывал, что мощность установки может достигать десятков тысяч лошадиных сил, в то время как мощность двигателя внутреннего сгорания из-за ряда физико-технических ограничений (детонация топлива, жаропрочность материалов, влияние инерционных сил движущихся масс, проблема «лба» при увеличении чиста и размера цилиндров и т. д.) была ограничена величиной примерно 1000 л.с. В связи с характерной для конца 20-х — начала 30-х годов тенденцией к созданию самолетов-гигантов, мысль о применении в авиации сверхмощной паросиловой установки казалась многим очень заманчивой. В начале 30-х годов в авиационных журналах появились проекты самолетных паровых турбин, разработанные изобретателями в Германии, США, Франции, Италии [66, с. 247–305]. В Московском авиационном институте также велись работы по созданию паровой авиационной силовой установки. Однако ни один из этих замыслов не нашел применения. Реализация шеи оказалась невозможной из-за большого веса парового двигателя (напомню о необходимости запаса воды, тяжелом паровом котле) и проблемы размещения конденсатора пара, площадь которого должна была быть значительно больше, чем площадь радиатора двигателя внутреннего сгорания. Созданный в МАИ паровой двигатель при мощности 150 л.с. весил более 300 кг. Еще тяжелее оказался испытанный в США на самолете паровой двигатель братьев Беслер [9, с. 110].  Рис. 1.92. Ракетный ускоритель на самолете У-1 Несмотря на это, работы по проектированию авиационных паровых турбин не пропали даром. Опыт был использован при создании турбореактивных двигателей (ТРД). Этот тип двигателя оказался несравненно более перспективным, т. к. из-за отсутствия необходимости в системах парообразования и конденсации был намного легче, компактнее, удобнее. Преимущества ТРД перед паровой турбиной хорошо понимали и в 20-е годы, однако проблема прочности деталей в условиях высоких температур задержала его появление до конца 30-х годов. Итак, в поисках новых форм развития самолетов конструкторы и изобретатели далеко не всегда оказывались на правильном пути. Но сам процесс поиска является необходимым условием прогресса. Хотя многие конструкторы необычных самолетов и двигателей и не создали в 20-е — 30-е годы пригодных для широкого использования образцов, в процессе экспериментов решались важные технические вопросы. Например, на первых «летающих крыльях» были отработаны вопросы управления самолетом без горизонтального оперения, опыт конструкции втулки несущего винта автожиров был с успехом использован при создании первых вертолетов, проекты паротурбинной силовой установки благоприятно повлияли на развитие ТРД. Да и сами неудачи помогали избежать в дальнейшем ошибочных направлений в развитии авиации. Общая оценка развития самолетов в 20-е и начале 30-х годов Темпы развития летных характеристик самолетов в 20-е годы были ниже, чем в другие периоды истории авиации. Так, за 10 послевоенных лет скорость самолета- истребителя увеличилась примерно на 80 км/ч, разведчика — на 60 км/ч, бомбардировщика — на 50 км/ч, тогда как за период с 1909 по 1918 гг. скорости в авиации возросли, в среднем, более чем на 100 км/ч. Максимальная скорость пассажирских самолетов и самолетов общего назначения к началу 30-х годов, как правило, не — ре вы шала 200 км/ч, т. е. почти не отличалась от скорости лучших самолетов заверяющей стадии первой мировой войны. Мало изменился и коэффициент аэродинамического лобового сопротивления летательных аппаратов. Это объясняется тем, что в самолетостроении 20-х годов доминировала та же схема, что и в период первой мировой войны — биплан со стойками и расчалками между крыльями. Развитие летных свойств происходило, главным образом, за счет увеличения мощности и снижения удельного веса авиационных двигателей. В начале главы говорилось о неблагоприятной для развития авиации обстановке, сложившейся в первые послевоенные годы. Основные усилия были направлены на сбыт накопленных за время войны запасов авиационной техники, а не на создание новых конструкций. Эта ситуация не способствовала также развитию самолетов в странах, не имевших ранее собственной авиапромышленности, руководство этих стран предпочитало приобретать по «бросовым» ценам английские, французские и итальянские самолеты и двигатели образца 1917–1918 гг., нежели создавать самостоятельную самолетостроительную индустрию. К немногим новым государствам, вошедшим в начале 20-х годов в число активных производителей новой авиационной техники, относятся Голландия и Чехословакия. В Голландии основным создателем самолетов был переехавший туда из Германии известный авиаконструктор А. Фоккер. Чехословакия развивала свою авиапромышленность на основе самолетостроительных заводов бывшей Австро-Венгрии. К середине 20-х годов послевоенный кризис в развитии авиации, в основном, завершился. Возросло количество новых типов самолетов, несколько повысился темп роста летных характеристик. Выдающиеся авиационные перелеты, в особенности беспосадочный перелет Ч. Линдберга из США в Европу в 1927 г., возродили былой интерес к авиации. Быстрыми темпами развивалась пассажирская авиация, большое внимание привлекла идея легкомоторного «массового» самолета. Однако этот благополучный этап в развитии самолетов был недолгим. В 1929 г. разразился мировой экономический кризис. Экономическая депрессия пагубно отразилась на темпах развития авиации, в первую очередь невоенной. Многие конструкторские бюро в США и в Европе обанкротились, другие были вынуждены резко сократить выпуск продукции. Основным техническим новшеством в авиации 20-х годов стало создание металлических самолетов. Зародившись в Германии в годы первой мировой войны, металлическое самолетостроение получило к концу 20-х годов широкое распространение во всем мире. Поданным П. М. Крейсона, из 195 выпущенных в 1929 г. в мире новых типов самолетов 40 имели цельнометаллическую конструкцию, а на 98 типах металл составлял заметную часть конструкции [4, с. 51]. Наиболее интенсивно металлическое самолетостроение развивалось в Германии (Юнкерс. Рорбах, Дорнье) и в СССР (Туполев). В этих странах металл впервые был использован при создании самолетов со свободнонесущим крылом — схемы, ставшей позднее основной в самолетостроении. После окончания мировой войны развитие авиации в этих странах начиналось почти с нуля и внедрять принципиально новые подходы в самолетостроении было легче, чем в государствах с мошной авиапромышленностью, ориентированной на выпуск образцов эпохи первой мировой войны. Металл стал применяться также при изготовлении пропеллеров. Характерные для периода первой мировой войны деревянные винты выдерживали нагрузку в несколько сотен лошадиных сил. однако, когда мощность начала приближаться к тысяче лошадиных сил и возросли обороты авиадвигателей, прочность древесины стала недостаточна, участились случаи поломки пропеллеров. В первой половине 20-х годов американские фирмы Кертисс-Рид и Гамильтон освоили производство металлических воздушных винтов, немного позднее пропеллеры с металлическими лопастями начали делать фирма Фейри в Англии, Левассер и Ратье во Франции [55, с. 78]. В СССР металлические винты на самолетах появились в 30-е годы. Еще одним достижением рассматриваемого периода было создание пассажирской авиации. В 1929 г. общий налет пассажирских самолетов составил около 100 миллионов километров [27, с. 100]. Самолеты с колесным и поплавковым шасси перевозили людей и грузы на всех континентах Земли. Правда, беспосадочные трансокеанские перелеты из-за ограниченной дальности самолетов были еще «не по плечу» гражданской авиации. Воздушные перевозки на сверхдальние расстояния осуществлялись с помощью дирижаблей. Наибольшую известность приобрели немецкие дирижабли, построенные на верфях в Фридрихсгафене, которые немцам удалось сохранить, несмотря на суровые ограничения Версальского договора. LZ-127 объемом 10500 м³ начал регулярные трансатлантические полеты в 1932 г. За 5 лет на нем было выполнено 136 полетов в Южную Америку и 7 полетов в США. перевезено 13110 пассажиров. Авиационная наука, как и авиационная техника, в 20-е годы развивалась, в основном, по пути уточнения и постепенного внедрения в практику научных достижений периода первой мировой войны, таких, как теория индуктивного сопротивления, теория пограничного слоя, разработка норм прочности и др. Теория индуктивного сопротивления (или теория крыла конечного размаха) была разработана немецким ученым-аэродинамиком Л. Прандтлем в 1915–1917 гг. В условиях войны она не смогла получить широкого распространения. После того, как достижения немецких ученых стали достоянием мировой науки, она оказала глубокое влияние на проектирование самолетов. Известный советский аэродинамик Б. Н. Юрьев, первым в СССР начавший изучение и популяризацию теории индуктивного сопротивления, так отзывался о ее значении: «В настоящее время она обратилась в важнейший раздел прикладной аэродинамики. Ее успех объясняется многими причинами. Во-первых, эта теория дала четкие ответы на целый ряд фундаментальных вопросов, интересующих авиаконструктора: какова наивыгоднейшая форма крыла, как влияют друг на друга крылья биплана, каково влияние крыльев на хвост самолета, насколько точны опыты в аэродинамических трубах, как влияют стенки трубы на результаты опытов и т. д. Во-вторых, эта теория привлекает инженеров своей простотой и наглядностью» [67. с. 3]. Распространение теории индуктивного сопротивления оказало большое влияние на развитие конструкции самолетов. В частности, осознание конструкторами взаимосвязи удлинения крыла и подъемной силы привело к середине 20-х годов к полному отказу от самолетов с тремя и более крыльями, способствовало распространению схемы моноплан в тяжелой авиации. В 20-е годы прошла экспериментальную проверку и получила дальнейшее развитие теория пограничного слоя, основы которой Л. Прандтль создал еще до первой мировой войны. Многочисленные опыты показали, что возможны два вида обтекания тела потоком — турбулентное и ламинарное. В первом случае поток представляет собой систему вихрей, во втором случае линии тока параллельны омываемой потоком поверхности, причем скорость потока уменьшается по мере приближения к поверхности; коэффициенты трения в случае ламинарного или турбулентного обтекания существенно отличаются. Теория, подтвержденная тонким экспериментом, сумела объяснить природу срыва потока: было установлено, что это явление происходит при превышении критической толщины пограничного слоя, когда из-за большого градиента давлений воздушный слой отрывается от поверхности крыла. Связь теории с практикой прежде всего проявилась в совершенствовании форм предкрылков, капотов. Позднее, в 30-е годы, развернулись работы по созданию средств управления пограничным слоем, появились так называемые ламинарные профили. Подробнее об этом будет рассказано в четвертой главе. Мировой опыт проектирования авиационных профилей, накопленный в годы первой мировой войны и в первые послевоенные годы нашел воплощение в виде атласов профилей, на основе которых разработчики самолетов могли заранее выбрать оптимальный для их целей тип крыльевого профиля. В СССР первый такой справочник появился в 1932 г. [68]. К началу 20-х годов типичными профилями были выгнутые, отмечалось увлечение профилями Жуковского типа инверсии параболы. Однако к середине этого десятилетия недостатки профилей большой кривизны — значительное перемещение центра давления в зависимости от угла атаки, большое С% проф — были признаны достаточно серьезными, и началось применение более «спокойных» плоско-выпуклых профилей типа Геттинген-436 и Кларк-Y. Появились lаже профили, в которых положение центра давления практически не менялось с изменением угла атаки. Они получили название безмоментных профилей. Исследование характеристик крыльевых профилей велось в аэродинамических трубах. В годы первой мировой войны лучшей была аэродинамическая труба Геттингенского института (Германия). Она имела круглое сечение с диаметром рабочей части 2,26 м, максимальная скорость потока составляла 58 м/с. Посте войны появились более совершенные трубы. Построенная в ЦАГИ в 1926 г. труба имела максимальное поперечное сечение рабочей части 6 м и скорость потока 30 м/с; при уменьшении сечения до 3 м скорость достигала 75 м/с. В то время это была самая большая аэродинамическая труба в мире. В 1927 г. в лаборатории им. Ленгли НАКА (NACA — Совещательный комитет по аэронавтике США, аналог нашего ЦАГИ) воздвигли трубу диметром 6,1 м со скоростью потока 47 м/с [73, с. 41–45]. Она предназначалась, главным образом, для испытаний натурных воздушных винтов и изучения их влияния на сопротивление мотогондолы, крыла и фюзеляжа. Принципиальным новшеством в развитии авиационного экспериментального оборудования стало создание аэродинамической трубы переменной плотности. Благодаря применению сжатого воздуха удавалось изменять число Рейнольдса[15] и таким образом достичь большей достоверности результатов. Идея создания такой трубы принадлежит немецкому ученому М. Мунку, после первой мировой войны переехавшему в США. Первая труба переменной плотности была построена в 1923 г. в НАКА [74, с. 21]. Изучение характеристик крыльев и разработка профилей с более стабильными моментными характеристиками способствовали улучшению устойчивости самолетов. Теория индуктивного сопротивления позволила численно оценить влияние крыла на работу хвостового оперения, в результате выбор параметров последнего дел алея уже не эмпирически, а на научной основе. К концу 20-х годов одно из непременных условий устойчивости — передняя центровка — стало общеизвестным в самолетостроении, появилось понятие запаса устойчивости [69]. Раньше это часто не соблюдалось. Например, первый советский истребитель-моноплан ИЛ-400, потерпевший аварию при испытаниях в 1923 г., имел центровку 52 % средней аэродинамической хорды [20, с. 328]. Изучение явления штопора самолета, начатое в годы войны, приобрело большую актуальность в 20-е годы. По мере характерных для развития авиации увеличения нагрузки на крыло самопроизвольный штопор случался все чаше. Экспериментальные и теоретические исследования позволили выявить целый ряд факторов, влиявших на склонность самолета к штопору — положение центра тяжести, профиль крыла, расположение и площадь рулей и оперения и др. [70; 71 |. В результате были разработаны некоторые общие конструктивные рекомендации, однако никаких определенных указаний по проектированию отдельных типов самолетов выработать не удалось, т. к. выбор схемы и даже незначительные изменения в конструкции иногда очень сильно влияли на характер протекания штопора. В основу прочностных расчетов самолетов были положены нормы прочности, разработанные в Германии в 1916–1918 гг. Созданные на основе замера сил, действующих на самолет в полете, они регламентировали запас прочности в зависимости от типа самолета и вида нагрузки. После войны в разных странах (Англия, СССР, США, Франция) проводилось уточнение норм путем летных экспериментов и более детальной разбивки самолетов по группам, было введено общепринятое сейчас понятие «коэффициент безопасности» [72]. Расчет на прочность основывался на общеинженерных методах расчета ферменных конструкций, участие обшивки в восприятии нагрузок не принималось во внимание, даже если это была металлическая обшивка. По мере развития скоростных качеств самолетов и уточнения действующих на самолет нагрузок расчетная величина разрушающей перегрузки постоянно возрастала: 1912 г. — 3; 1914 г. — 4; 1918 г. — 8; 1923 г. — 12 [72]. Однако постепенно совершенствующаяся методика статического расчета позволила сохранить относительный вес конструкции в пределах 0,30-0,35. Обобщение и развитие научных данных, полученных в годы первой мировой войны, оказало существенное воздействие на прогресс самолетостроения. Если в начале века проводился лишь проверочный расчет — полетит ли самолет, то позднее в практику конструкторской работы вошел предварительный аэродинамический расчет. Это оказало влияние на выбор схемы и параметров самолета, типа и мощности двигателя и т. д. Эмпирический подход в конструировании начал уступать место научно-обоснованному проектированию. Как известно, основной дилеммой для авиаконструктора является выбор соотношения между весом и аэродинамикой летательного аппарата. Оба фактора имеют большое влияние на летные характеристики самолета. Однако, если улучшение полетных свойств благодаря уменьшению веса конструкции не зависит от скорости, то влияние аэродинамического «облагораживания» пропорционально квадрату скорости воздушного потока: сх = kV2. В 20-е годы скорость самолетов составляла 200–300 км/ч, и меры, направленные на улучшение внешних форм, сравнительно мало сказывались на технических характеристиках. Например, уменьшение коэффициента лобового сопротивления на 20 %, требующее дополнительных усилий и затрат и ведущее к увеличению веса планера самолета, давало прирост в скорости только на 25–30 км/ч. Поэтому не удивительно, что в рассматриваемый период выбор вес — аэродинамика делался в пользу веса, и плохообтекаемые расчалочные бипланы доминировали над более обтекаемыми, но более тяжелыми свободнонесущими монопланами. Даже специальные гоночные самолеты в 20-е годы часто делали по бипланной схеме. Принципы конструирования аэродинамически совершенного самолета были хорошо известны [75], но они интересовали больше ученых-аэродинамиков, чем конструкторов-практиков. В 20-е годы авиация стала играть заметную роль не только в военной сфере, но и в мирной жизни. Кроме пассажирских и почтовых перевозок самолеты начали использовать в медицине как транспортное средство для срочной врачебной помощи, сельском хозяйстве (опыление посевов), для тушения лесных пожаров, для спасения людей на море, для географических и метеорологических исследовании. Во многих странах авиапромышленность стала одной из основных технических отраслей. Особенно интенсивно развитие авиационного производства происходило во второй половине 20-х годов. Только за 1925–1929 гг. в мире было построено более 50 тысяч самолетов, 3/4 из них составляли военные машины [76, с. 579]. Затраты на авиацию в 1930 г. составляли: в Англии — 8202 тыс. фунтов стерлингов (около 200 млн. рублей по курсу того времени), во Франции — 750 млн. франков (100 млн. руб.), в США — 38549 тыс. долларов (190 млн. руб.) [1, с. 61]. Если вначале развитие авиации основывалось на достижениях других видов техники (двигателестроение, судостроение и т. д.), то в 20-е годы авиационная техника сама начала оказывать влияние на общий научно-технический прогресс. Успешное продвижение авиации требовало развития новых специальных производств, создания новых материалов. Впоследствии эти новшества находили применение во многих областях техники. Так, например, в 20-е — 30-е годы авиационные материалы — дюраль, высокопрочные легированные стали — были использованы в транспортном машиностроении (корпуса кораблей, автомобилей, вагонов) и в станкостроении. Результаты авиационных аэродинамических исследований начали применять при создании скоростного наземного транспорта, при проектировании крупных зданий и инженерных сооружений. Методы прочностного расчета, позволявшие создавать прочные и легкие конструкции, стали использовать во многих областях общего машиностроения. Это лишь некоторые примеры. Если сравнивать послевоенное пятнадцатилетие с другими этапами в истории авиации, его можно охарактеризовать, в целом, как этап экстенсивного развития. И все же, как следует из данной главы, это был заметный шаг в эволюции авиационной техники. Примечания:1 В зарубежной литературе такое крыло называют обычно «крыло Мулавского» [5, с.752] 2 Как и все другие самолет Л. Фоккера, он имел безрасчалочное крыло 3 Несоответствие экспериментальных данных результатам летных испытаний объясняется тем, что зазор между концами крыла продувочной модели и стенками грубы прямоугольного сечении составлял не более 2 мм, и перетекание воздуха крыла — основная причина уменьшения подъемной силы и роста сопротивления с уменьшением удлинения крыла — практически отсутствовало 4 Правда, некоторые исследователи подвергаки сомнению утверждение Берда. что да действительно сумел достичь полюса (см. [21, с. 96]). 5 В связи с тем, что руководство фирмы Юнкерс ревниво оберегало свои технологические секреты, иногда приходилось прибегать к нелегальным методам. В секретном докладе К. Е Ворошилову (ноябрь 1925 г.) сообщалось, что с завода Юнкерса в Филях тайно изъята документация и чертежи, необходимые для самостоятельного производства металлических самолетов на этом заводе. Кроме того, говорилось в докладе, достигнуто согласие с рядом немецких ведущих инженеров фирмы Юнкерс на оказание помощи в налаживании собственного металлического самолетостроения в СССР [30]. 6 В 1920 г. немецкий конструктор Л. Рорбах изготовил первый в мире многомоторный моноплан с двигателями на крыле. Этот пассажирский самолет был построен и одном экземпляре, совершил лишь несколько полетов и не оказал заметного влияния на развитие авиации. 7 Владелец патентов на конструкцию металлического самолета с гофрированной обшивкой Г. Юнкерс пытался отстаивать свои нрава на изобретение. В конке 20-х годов, когда Г. Форд продал несколько своих металлических монопланов в Европу, Юнкерс обратился в суд и добился того, что Форда принудили покинуть европейский рынок [18. с. 70). Юнкерс также обратился с претензиями к официальным представителям Советского Союза после демонстрации за рубежом металлических самолетов Туполева. Однако в связи с тем, что снободнонесущее монопланное крыло с гофрированной обшивкой было применено на советском AНT-2 раньше, чем Юнкерс получил в СССР патенты на такую конструкцию, а также из-за упоминавшихся выше отличий в конструкции немецких и советских металлических самолетов, претензии немецкой стороны на этот раз не были удовлетворены 131, с. 531. 8 В конце 20-х годов Рорбах вел переговоры с советским правительством об организации в СССР металлического гидросамолетостроения. Из-за требований фирмы на предоставление ей монопольного права на строительство металлических «лодок» в нашей стране это предложение было отклонено. 9 Поль Ришар, французский конструктор гидросамолетов, работавший по приглашению в СССР. 10 Гидросамолеты могли садиться и взлетать с большими скоростями из за практически неограниченных размеров водяной «взлетно-посалочной площадки». 11 «Moth» в переводе с английского — «мотылек». 12 14–15 июня 1919 г. англичане Дж. Алкок и А. Браун на двухмоторном бомбардировщике Виккерс «Вими» осуществили полет с Ньюфаундленда до Клифдена (Ирландия). Это был первый трансатлантический перелег на самолете, однако не с континента на континент (как известно, и Ньюфаундленд, и Ирландия — острова). 13 Для достижения той же подъемной силы при увеличении веса иди (и) уменьшении плотности воздуха самолет должен лететь на больших углах атаки. 14 Так как для схемы «утка» в горизонтальном полете G — Укр.+Yr.o., то при срыве потока на горизонтальном оперении G › Y 15 Критерий подобия, показывающий соответствие условий эксперимента реальным условиям. Значение Re пропорционально плотности воздуха. |
|
|||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
