|
||||
|
Русский МИФ о Франции  1. Серж (Сергей) Поляков (1906-1969) Париж. 1920-е Роман Якобсон * Публикуемая, статья, замечательного филолога Романа Якобсона (1896-1982) является рецензией на книгу И.Эренбурга и О.Савича «Мы. и они». Эта книга, выпущенная в 1931 году в Берлине, представляла собой антологию суждений о Франции русских литераторов XVIII – начала XX веков, живо изобразивших различные оттенки, «французского мифа» в русской, культуре Нового времени. Мы решили опубликовать этот текст, никогда прежде не печатавшийся по-русски и так тесно соприкасающийся с проблематикой нашего выпуска. Он интересен не только тем., что позволяет проследить эволюцию российского мифа о Франции на протяжении двух с лишним столетий, но и тем, что выявляет различия в трактовке термина «миф", выработавшиеся за последние семидесят лет. 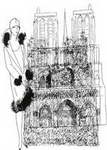 Юрий Анненков (1889-1974) Иллюстрации к роману Ивана Голя «Ди Рококо». 1920-е 2. Собор Парижской Богоматери Изучение национальных характеров – дело неблагодарное. Любые соображения о духе того или иного народа, высказанные представителем этого народа, рискуют сбиться на проповедь pro domo [в свою пользу – лат.]. Вяземский по поводу типичных высказываний французов о Франции приводил анекдот, слышанный от Пушкина: «Какой папенька умный, какой папенька храбрый! Как папеньку Государь любит! – Кто тебе все это сказал? – спросили его однажды. – Папенька, – отвечал ребенок». Но ничуть не больше заслуживают доверия суждения об иностранцах. На эту тему тоже есть анекдот: русский крестьянин приезжает на ярмарку, видит впервые в жизни верблюда и возмущается: «Ты посмотри, во что эти идиоты превратили коня!» Эгоцентризм наш не имеет пределов; мы, конечно, знаем, что негр – это не белый, выкрашенный в черный цвет, но подсознательно все-таки подозреваем, что он черный потому, что давно не мылся. Историку культуры было бы наверняка чрезвычайно интересно узнать впечатления эскимосов, увидевших, как возле их чума приземляется самолет; не менее интересно узнать, что испытывает европейский киноман, видящий на экране в фильме «Нанук» вместо Адольфа Менжу или Греты Гарбо настоящего эскимосского рыболова. Однако рассказ эскимоса о самолете при всей его живописности не даст нам ни малейшей возможности узнать что бы то ни было о конструкции самолета; он обогатит лишь наши представления об эскимосской мифологии, а суждения среднего европейца о первобытном существовании Нанука будут так же далеки от наблюдений этнографа, как настоящее африканское искусство – от восторженных разглагольствований парижского сноба. В суждениях местных жителей об иностранцах следует видеть прежде всего материал для описания их собственного характера. В недавно появившейся антологии «Мы и они» собраны высказывания о Франции семидесяти русских писателей от XVIII века до наших дней. В их числе – все без исключения классики русской литературы 1* . Книга вполне оправдывает свое название, ибо больше, чем о французах, сообщает о русских. Получить сколько-нибудь объективное представление о национальных характерах можно, лишь сопоставив мифы, которые сочиняют о том или ином народе иностранцы, с представлениями, какие имеет он о себе самом и о других народах. Сравнительное изучение иностранных мифов о Франции и представлений, какие сложились у французов о себе и обо всех прочих нациях, позволило бы заложить основы научной характерологии и выявить сущность французскости. Наша задача куда более скромна: мы просто хотим обозначить постоянные мотивы, повторяющиеся в суждениях о Франции самых разных русских писателей, вне зависимости от их принадлежности к той или иной партии, а зачастую даже и вопреки этой принадлежности. Все слишком личное, все частное и случайное мы оставим в стороне, и будем обращать внимание только на главное. Существует ли такой образ Франции, который разделяло бы большинство русских людей? Существует, и рецензируемая антология это подтверждает. Некоторые газетчики обвинили (и совершенно напрасно) ее составителей в пристрастности: им показалось, что в книге собраны только отрицательные отзывы. Между тем на это можно возразить, во-первых, что в сочинениях крупнейших русских писателей можно отыскать куда более суровые суждения о Франции, чем те, что включены в антологию 2* , а во-вторых, что критические реплики, собранные в книге, слишком многочисленны и принадлежат слишком разным авторам, чтобы можно было счесть их случайностью. Характерно, что частые перемены в отношениях между Россией и Францией на отзывах русских писателей о французах никак не отражаются. В эпоху Священного Союза русские авторы судят французов так же сурово, как и во времена Крымской войны, а их отношение к Третьей республике в сущности ничем не отличается от отношения ко Второй империи. Самое удивительное, что вне зависимости от того, положительно или отрицательно относятся русские писатели к Франции, они в самые разные эпохи, исповедуя самые разные взгляды, прибегают к схожим, а порою просто одинаковым формулировкам. Подданный Российской империи Карамзин пишет в 1790 году о революционном Париже: «Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве, но после России нет для меня земли приятнее Франции». В 1925 году советский поэт Маяковский, не читавший Карамзина, говорит о послевоенной Франции: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли – Москва». А в 1847 году похожие признания делает Белинский. Что общего у Аполлинарии Сусловой, возлюбленной и музы Достоевского, и самой значительной поэтессы русского символизма Зинаиды Гиппиус? Между тем Суслова пишет о Париже 1865 года: «Здесь все продается, все: совесть, красота; продажность сказывается во всем […] в затянутых талиях и взбитых волосах девиц, что попарно гуляют по улицам. […] Я так привыкла получать все за деньги: и теплую атмосферу комнаты, и ласковый привет, что мне странным кажется получить что бы то ни было без денег», а Гиппиус, не читавшая неизданного дневника Сусловой, говорит в 1908 году о том же Париже: «И как будто одна громадная, рассыпавшаяся на сорок тысяч мелких, проститутка ходит вечером по одному длинному бульвару, повторяя одно и то же слово. Вещи, и деньги, и люди – все движется по кругу; потому что всё (и все), без остановки, покупается, продается, и вновь продается, и опять покупается. Не важно, кто и что: всё решительно покупается, как всё и все решительно продаются». Сходство поразительное, но еще поразительнее постоянное повторение одних и тех же тем. Довольно было Фонвизину полтора века назад бросить, что француз «рассудка не имеет», и вот уже Достоевский, а затем Владимир Соловьев с восторгом цитируют эту фразу; больше того, Достоевский уверяет даже, что его восторг разделяют все русские.  3. Увеселительный дом в Париже Русский наблюдатель видит во Франции квинтэссенцию романо-германской Европы, ее самое непосредственное и яркое воплощение; по словам Леонтьева, французы – нация, которая, если сама движется к декадансу и упадку, ведет Европу за собой. Именно в качестве крайнего выражения европейского духа Франция привлекает внимание русских интеллигентов. А квинтэссенция Франции – это Париж. «Отнимите Париж у Франции – что при ней останется; одно географическое определение ее»; «обо всем земном шаре, кроме Парижа, француз весьма мало знает. Да и знать-то очень не хочет» (Достоевский). Что же касается французской провинции, русские писатели или вовсе ее не описывают, или говорят, что она невыносимо скучна, вроде русской провинции у Чехова; они доходят даже до утверждений, что Бретань не Франция (Эренбург), а бретонцы «никогда не примирятся с Францией и никогда французами не станут» (Бальмонт). Париж – воплощение Франции, а сама Франция – воплощение Европы; отсюда вывод, что Париж – «размер и ярмарка Европы» (Гоголь), город, в котором выразился весь западный мир (Герцен), который «может по справедливости назваться сокращением целого мира» (Фонвизин). Внутри Франции Париж – целый мир, самодостаточный и самодовольный. Об этом сознании собственной исключительности и равнодушии, а то и презрении ко всему чужому, пишут многие русские писатели от Фонвизина и Батюшкова до Аксакова, Достоевского, Тургенева и наших современников. «Уверенные в своем превосходстве над всем человечеством, они ценили славных писателей иностранных по мере их большего или меньшего отдаления от французских привычек и от правил, установленных французскими критиками» (Пушкин). По словам Герцена, Франция себя считает жемчужиной всей планеты, а Париж – рассадником людей образцовых и маяком для всего мира. Влюбленность в Париж – самое прямое выражение влюбленности русского интеллигента в свою вторую родину – Европу. «Я ненавижу Париж и не могу с ним расстаться. […] Живя в нем, мы его браним, но уехать оттуда было бы весьма неприятно», – подобные признания делают самые разные авторы. Иначе говоря, тяга к Парижу не подлежит сомнению, но объясняют ее все авторы по-разному: одни утверждают, что Париж исцеляет больных (Салтыков), что он лечит русский сплин (Белинский, Сологуб), другие более скептически оценивают его целебные свойства и утверждают, что «этот город действительно имеет что-то для тех, у кого нет определенного места и цели» (Суслова), что «Париж, что там ни толкуй, единственное место в гниющем Западе, где широко и удобно гибнуть» (Герцен). Упадок Запада – одна из наиболее заметных тем русской эсхатологии. И здесь снова главную роль играет Франция. Николай Данилевский формулирует это следующим образом: Россия – часть мира нарождающегося, Франция – воплощение мира уходящего. Русские авторы, как правые, так и левые, твердят об этом постоянно. Они (точно так же, как и современные французские писатели) точно знают, что Париж – это последний бастион Европы. Это ощущение завораживает Зинаиду Гиппиус: государства рушатся, нации исчезают с лица земли, Европа разоре- па, «а Париж, не замечая всего этого, продолжает жить, как прежде, день за день, Париж шумит, развлекается безостановочно, ибо не в его силах остановиться прежде, чем пробьет его час». Финал этой эсхатологической драмы предсказан Леонтьевым: в конце концов Париж разрушится, опустеет, как опустели некогда многие средневековые столицы. Нас, однако, интересуют вовсе не чувства того или иного русского писателя по отношению к Франции. Мы знаем, что Тредиаковский, знаменитый одописец, восклицал: «Кто тя не любит? разве б был дух зверски?», а неистовый Белинский уверял, что никогда люди не создадут ничего лучше этой великой нации; мы знаем, с другой стороны, что Гоголь, по свидетельству некоторых современников, при упоминании Франции разражался проклятиями; что с «отвращением» относились к французам Чехов, Блок и Достоевский. Тем пе менее можно утверждать, что всем русским писателям случалось и ненавидеть Францию, и тянуться к ней. Чувства того или иного из них по отношению к Франции зависят от обстоятельств, легко меняются на противоположные. В 1860 году Тургенев пишет: «Французов, вы знаете, я не люблю», а десять лет спустя: «Я искренне люблю и уважаю французский народ». Тот же самый Тургенев, живя в 1870 году в Париже, радуется поражению французов, между тем как Достоевский желает им победы; оба получают удовольствие от того, к чему обычно испытывали отвращение. Встает вопрос о том, что же именно привлекает русских писателей к Франции и отталкивает от нее. Ответить на этот вопрос не так легко, как кажется на первый взгляд. Независимо от того, когда происходит дело, при монархии, при империи или при республике, русские писатели от Фонвизина и Жуковского до Андрея Белого и А.Н.Толстого осуждают французский полицейский режим; с другой стороны, французские писатели образцом полицейского государства считают Россию – не важно, царскую или советскую. Выяснять, правда это или нет, бессмысленно: в каждой стране у полиции свой неповторимый аромат. То же и со взаимными обвинениями в нечистоплотности: оба народа вкладывают в понятия чистоты и грязи разное значение. В чем же в конце концов истинная причина неприязни русских писателей к Франции? Еще Фонвизин сказал, что французам нет никакого дела до истины. Все остальные вышивают по той же канве: истина интересует французов в последнюю очередь (Тургенев), «во Франции все ложь» (Вяземский), «изукрашенные безделушки» (Баратынский), французский национальный дух заключается в том, чтобы располагать людей, доктрины и идеи живописными группами, превращать их в картины и зрелища (Анненков), Франция – мир иллюзий (Герцен), «француз, – вы знаете, – подымет воротник сюртука и думает, что надел шубу» (Григорович), «ему достаточно дешевой многообразной однообразности, довольно внешнего мерцанья и блистанья» (Гиппиус), «французы видят в трибуне сцену, в себе актеров, а в посетителях партер» (Жуковский); «вечно актерствующая Франция» (Хомяков); «это лицо… обладает тайною подделки под чувство, под натуру в высочайшей степени» (Достоевский); «лицо, лишенное маски, в Париже дает стыдное ощущение наготы» (Максимилиан Волошин); «всякое слово, фраза, всякое – самое разное – движение – поза» (Иван Аксаков). Французский язык скрывает мысли говорящего (Пушкин), принуждает говорить не то, что думаешь (Тургенев), особенно хорошо приспособлен для извинений (Бальмонт); «французская речь – сверкающая и пустая, как шары жонглера» (Федин); французские «разговорные формулы перестают доходить до сознания» (Эльза Триоле); «музыка сбивается на водевиль или каламбур» (Тургенев). Французская литература – это многословные разглагольствования, превосходная риторика, блестящие формулы, тонкий вкус и мастерство, но ни малейшей естественности, ни малейшего представления о том, что такое правда в искусстве (так считают Каразмин, Батюшков, Лермонтов, Тургенев и многие другие). «Драма и комедия приняли в Париже такие же кор- ректно-законченные формы, как фрак, сюртук, смокинг» (Волошин). Мир иллюзий, «тонкие прекрасные кружева», пришитые к дерюге (Фонвизин); лохмотья даже безо всякого фасона, но зато шикарные (Вера Инбер); «если бы не было таких претензий нарядности и самодовольной уверенности, что уж там что другое, а именно нарядность, и самая совершенная, есть, – вероятно, отсутствие ее и не бросалось бы так в глаза» (Зинаида Гиппиус); «Литературная гастрономия», причем не из подлинного эпикурейства, а только напоказ (Герцен, Короленко), развлечения без наслаждения (Иван Аксаков), поиски не красоты, а одной лишь прекрасной видимости (Герцен), фальшивая любовь (Достоевский), любовь извращенная, унижающая женщину (Лев Толстой), бездумное подражание общему мнению (Фонвизин), видимость культуры, которой на самом деле нет и в помине (Достоевский), страна, которая будет представляться носительницей католицизма, даже если в ней не останется ни одного верующего (Достоевский), «республика без республиканцев» (Салтыков), где все мечты только об одной форме (Достоевский). Лживая условность политических формул, маскирующая устарелые, безнадежно противоречивые порядки, театральность парламента, судебных, да и вообще любых инстанций – вот излюбленные темы русских авторов, пишущих о Франции. Итак, Франция – мир, в котором господствует игра, в котором все ценности мнимые; даже воображение французов не знает ничего, кроме «форм обветшалых и давно вышедших из употребления». В любом проявлении французского умонастроения русские писатели ищут и находят следование не ими придуманному обряду, бесплодный формализм, исключающий всякое стремление к истине. Хомяков упрекает Францию в том, что она живет, «размельчая и дробя все цельное и живое и подводя все великое под мелкий уровень рассудочного формализма». Тургенев даже во Французской революции не видит ничего, кроме формализма и традиционных стереотипов, а Достоевский строит целую теорию французской культуры как культуры законченных, застывших форм, а о жизни французов говорит, что она решительно у всех подчиняется одним и тем же правилам. Из этого он выводит паническую боязнь французов отступить от установленных норм, их страх показаться смешными – феномен, который русские литераторы заметили уже очень давно. Для русского наблюдения французский формализм неразрывно связан с любовыо французов к порядку. Люди сдержанные и умеренные – иронизирует Ольга Форш; «Париж сжимается, уменьшается по доброй воле, замыкается в самом себе», ехидствует Зинаида Гиппиус; повсюду заставы и перегородки, замечает Иван Аксаков, а Гоголь говорит о французе: «далее известной глубины уже нельзя было погрузить вопроса в его душу, не вонзалось далее острие мысли». В первую очередь направленность антифранцузских памфлетов русских авторов характеризует самих памфлетистов. Они постоянно сталкивают два мира: один – мир становящийся, диалектический, где личность стремится стать лучше, возвышеннее, где ценности уравновешивают друг друга, другой – служащий мишенью для сарказмов – статичный мир» прописных истин», мир законченный, а значит, лишенный будущего, не знающий ничего, кроме форм обветшалых, потому что усвоенных от предшествующих поколений, мир неразрешенных противоречий, мир, в котором, по Достоевскому, царит принцип индивидуальности и себялюбия 3* . Главное средоточие подобной идеологии – буржуа; его-то и разоблачают русские литераторы; их обличения Франции – это обличения страны, где наличествует настоящая гегемония настоящей буржуазии. Разумеется, именно Францию имеет в виду Достоевский, когда говорит: «Вообще буржуа очень неглуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто отрывками. У него ужасно много запасено готовых понятий, точно дрова на зиму, и он серьезно намеревается прожить с ними хоть тысячу лет». Современная писательница Ольга Форш поставила эти слова эпиграфом к своему сборнику рассказов о Франции. Неугасимая ненависть к буржуа и «классовая» вражда к буржуазной Франции характерны для самых разных русских писателей: Лескова, Герцена, Салтыкова, Леонтьева, Достоевского, Тургенева, Батюшкова, Блока и Андрея Белого. Буржуазия – «сифилитическая язва на теле Франции», – утверждает в 1847 году Белинский. Истинный французский флаг – это толстое брюхо буржуа, вторит ему в 1906 году Максим Горький. Поразительно, с каким горячим сочувствием и даже почтительным восхищением отзываются русские литераторы обо всех антибуржуазных тенденциях французской жизни. Из героев Великой французской революции русским особенно по сердцу пришелся Бабёф, «первый человек, говоривший еще восемьдесят лет тому назад пламенным первым революционерам, что вся их революция в сущности дела есть не обновление общества, а лишь победа одного могучего класса общества над другим на основании принципа: ote-toi de la que je m'y mette» [уйди отсюда и уступи место мне – фр.]. Это высказывание Достоевского повторяют дословно Бакунин и Эренбург. В литературе какой другой страны найдется столько восторженных описаний революционеров 1848 года (см. Герцена, Салтыкова, Успенского)? Самые искренние похвальные слова французским труженикам произносят именно русские авторы, а Лев Толстой осуждает французских писателей за их «непонимание жизни и интересов простого народа» 4* . Если и проскальзывают кое- где в сочинениях русских литераторов нотки недоверия по отношению к французским пролетариям, то лишь из-за того, что эти последние того и гляди обуржуазятся. Так, Достоевский говорит о французских работниках, что они «тоже все в душе собственники. Весь идеал их в том, чтобы быть собственниками и накопить как можно больше вещей». Леонтьев убежден, что если бы произошла во Франции социальная революция, то на смену сотне тысяч богатых буржуа пришли бы сорок миллионов мелких буржуа, по духу нисколько от прежних буржуа не отличающихся. Мы попытались показать, что мифический образ Франции, созданный русскими авторами, есть не что иное, как отражение русского умонастроения. Не менее интересно было бы выяснить, в какой степени отражает этот миф реальное состояние Франции и, с другой стороны, в какой степени описания России, столь многочисленные во французской литературе, отражают умонастроения их авторов-французов. Очень поучительно было бы сопоставить суждения русских писателей о Франции – упрямый протест против французского образа жизни, непреклонное желание провести границу между двумя культурными мирами (намерения, которые так отчетливо видны в антологии «Мы и они» ) – с основными темами современной французской литературы, где сегодня в большой моде самокритика. […] Однако обсуждению проблем французского национального характера не место в журнале, посвященном славянскому миру. Перевод с французского Веры Милъчиной Текст иллюстрирован работами Сержа Полякова и Юрия Анненкова из коллекции профессора Рене Герра (Париж), опубликованными в книге Елены Монегалъдо «Русские в Париже. 1919-1939». М., «Кстати», 2001. Примечания 1* Савич О., Эренбург II. Мы и они. Берлин, 1931. 2* Многие высказывания русских авторов, приведенные в нашей статье, не вошли в сборник Савича и Эренбурга. 3* Герцен в «Письмах из Франции» рассуждает в сходных выражениях о вечной приверженности французов исключительному праву собственности, о назойливой бесцеремонности их законодательства, касающегося личного имущества. 4* Этот же упрек повторил, недавно чешский публицист Г.Винтер в «Книге о Франции» (Прага, 1930). |
|
|||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
