|
||||
|
К характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании[239] ЗНАК. ЗНАЧЕНИЕ. СМЫСЛ К характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании[239] I. Задачи семиотики и предпосылки, необходимые для ее разработки1. Вряд ли сейчас нужно специально доказывать, что проблема знака имеет исключительно важное значение для всех наук, связанных с анализом человеческой деятельности, — логики, психологии, языкознания, антропологии, педагогики и др.; понимание этого уже достаточно распространилось и скоро, очевидно, станет общим местом. Было бы неправильным объяснять этот факт развитием одних лишь теоретических представлений; скорее он обусловлен тем, что сама производственная практика оказывается все более зависимой от понимания природы знаков. Машинный перевод, а потребность в нем становится все более настоятельной, на сегодняшнем этапе требует перестройки знаковых текстов, преобразования их к такому виду, который «подходил» бы современным переводящим машинам; а отсюда, естественно, появляется уже собственно теоретический вопрос: в какой мере и как можно менять знаковую форму, не затрагивая нужного для перевода смысла? Практические задачи рационального построения химической номенклатуры, легко переводимой в структурные формулы, приводят к специальным теоретическим исследованиям разнообразных языков химии. Постоянно сталкивается с проблемой знака педагогика: ведь основной момент при обучении мышлению — это включение в деятельность ребенка определенных знаковых средств и способов деятельности с ними. Поэтому в психологии и теории педагогики совершенно закономерно ставится вопрос: какими путями и с помощью каких методов можно обеспечить наиболее быстрое и эффективное усвоение людьми знаковых систем и как должно меняться само обучение с изменением типа знаков. Но, чтобы дать решение этих проблем, нужно предварительно выяснить, что такое знак и каковы его основные типы. И это — вопрос, к которому приходят сейчас со стороны самых различных сфер производства. 2. Но практические потребности обусловливают лишь сам факт выдвижения проблемы на передний план. А способ, каким она ставится и решается, определяется, прежде всего, ходом развития теоретических представлений в науке. То состояние проблемы знака, с которым мы имеем дело сегодня, явилось результатом взаимодействия и пересечения нескольких различных линий, наметившихся с конца XIX и начала XX столетия. Главнейшими среди них были, по-видимому, следующие:[240] 1) Линия философско-психологического исследования знака, идущая от Г. Фреге и Э. Гуссерля через Вюрцбургскую школу психологии мышления к работе К. Бюлера «Теория языка». 2) Линия «формальной» трактовки знака, подготовленная работами школы Д. Пеано, ранними работами Б. Рассела, А. Уайтхеда и Л. Витгенштейна, получившая наиболее резкое выражение в логико-математических работах Д. Гильберта и затем развитая на более широком материале и с новыми моментами Венским кружком, Варшавско-Львовской школой и др. 3) Логико-психологическая трактовка знака у Ч. Морриса, пытавшегося синтезировать указанные выше направления. 4) Логико-философское направление, идущее от Дж. Мура, через позднего Л. Витгенштейна к современным представителям философии «лингвистического анализа». 5) Психологическое направление Л. С. Выготского, в котором знак рассматривался как средство (или «орудие»), включающееся в поведение индивида и перестраивающее его. 6) Линия структурно-лингвистического анализа знаковой функции, подготовленная работами Ф. де Соссюра и получившая наиболее резкое выражение у Л. Ельмслева и Х. Ульдалля. 7) Линия «содержательного» лингвистического исследования знака у В. Порцига и Л. Вайсгербера, для которых главным в проблеме было исследование «значения». Уже сам факт обилия всех этих направлений говорит о том, что проблема знака еще очень далека от разрешения. И действительно, ни одной из перечисленных линий исследования не удалось построить сколько-нибудь удовлетворительной (т. е. непротиворечивой и достаточно полной) теории знака и вместе с тем обеспечить решение тех практических задач, которые сейчас стоят. И, на наш взгляд, такой итог можно легко объяснить и обосновать характером существующих концепций; ведь все они берут знак только с какой-нибудь одной или, в крайнем случае, двух, трех сторон и не имеют средств и методов для того, чтобы рассмотреть другие его стороны. С точки зрения истории исследований это вполне естественно. Ведь в каждой из перечисленных выше наук — в логике, психологии, языкознании, антропологии и др. — знаки выступали не в качестве самостоятельного предмета исследования, а лишь как внешний материал или, в лучшем случае, как элементы при построении каких-то других предметов изучения — знаний и науки, процессов вывода или процессов мышления, деятельности индивида по решению задач или общения с другими индивидами. Построение каждого из этих предметов требовало учета отнюдь не всех, а лишь некоторых сторон знака, и наоборот, методы исследования, разработанные и разрабатываемые в каждой из этих наук, позволяли понять только эти отдельные стороны знака и не давали возможности проанализировать и познать знак в целом. Действительно, чтобы выяснить логическую структуру рассуждения, надо рассмотреть материал знаков в отношении к тому объективному содержанию, которое в нем замещается, и совсем не нужно учитывать отношение этого материала к генетически предшествующим видам деятельности индивида и их развитию. С другой стороны, многие закономерности речевой деятельности индивидов можно установить, не обращаясь к анализу и описанию объективных содержаний и значений знаков. Таким образом, односторонний, фрагментарный подход к знакам был вполне обоснован при построении таких предметов, как «наука», «мышление», «психическая деятельность», «процесс языкового общения» и т. п., и на ранних этапах развития соответствующих наук почти не ограничивал продуктивности исследования. Но вместе с тем этот односторонний, «кусочный» подход полностью исключал возможность действительного решения проблемы знака, так как по самой своей объективной природе знак может быть выделен в качестве особого и самостоятельного предмета изучения и понят только в том случае, если он берется в единстве всех своих основных функций. Знак перестает быть знаком, если мы берем его материал только в отношении к деятельности индивида, как средство организации деятельности. Но точно так же знак с его значениями становится совершенно мистическим образованием, если мы берем его только в отношении к объективному миру, вырвав из контекста деятельности, в которой он употребляется как знак. И это вполне понятно, так как по происхождению и назначению своему знаки и являются теми образованиями, которые обеспечивают подключение индивидов к общественной культуре и отчуждение продуктов индивидуальной деятельности в форму общественной культуры. 3. Итак, проблема знака, поскольку она возникла и ставилась при изучении «науки», «мышления», «психической деятельности» или «процессов общения» в качестве самостоятельной, самодовлеющей проблемы, неизбежно должна была выражать, а вместе с тем и создавать некоторые тенденции к синтезу существующих представлений и даже наук. Так, уже у Локка, Лейбница и Кондильяка появилось требование создать общую науку о знаках, стоящую как бы над логикой, психологией, языкознанием, — семиотику, или семиологию. В XX веке это требование было вновь выдвинуто Ф. де Соссюром и всячески пропагандируется Л. Ельмслевом, Х. Ульдаллем, Е. Куриловичем и др. Если вдуматься в проблему глубже, то можно понять, что все эти требования имеют более важные основания, нежели только потребность исследовать знаки как таковые, как особый самостоятельный предмет. По сути дела они говорят об органической связи логики, психологии и языкознания, об относительности и исторической ограниченности разделения их на особые, самостоятельные науки. Фактически мы уже подошли к такому рубежу, когда существующее разделение и разобщенность делают дальнейшие исследования во всех областях малопродуктивными. И действительно, чтобы понять механизмы мыслительной деятельности индивида, мы должны предварительно проанализировать строение тех способов деятельности, которые были выработаны обществом, передаются из поколения в поколение и усваиваются детьми в процессе учения. Но это значит: чтобы понять механизмы и закономерности «собственно психического» процесса, мы должны предварительно проанализировать «логический предмет». Но и обратно: чтобы понять строение многих способов деятельности и входящих в них знаковых средств, мы должны познать механизмы и закономерности учебной деятельности индивидов, так как многие способы решения и знаковые системы создаются сейчас в приспособлении именно к ней. И точно так же оказываются органически связанными в анализе своих предметов логика и языкознание, языкознание и психология. Таким образом, во всех требованиях о создании семиотики как новой общей науки о знаках проявляется, на наш взгляд, более глубокая объективная тенденция — к соединению существующих логических, психологических и языковедческих представлений о человеческой деятельности в единую научную систему. 4. Эта тенденция, уже после того, как она достаточно обнаружилась и проявила себя, получила совершенно извращенное представление, в первую очередь — в лингвистических исследованиях. Становление языкознания как особой, обособленной от других науки происходило позднее, чем становление логики и психологии; оно датируется концом XVIII и началом XIX столетия. Поэтому, когда в языкознании встали проблемы и задачи, требующие анализа «языка вообще» и «знаков вообще», то рядом уже существовали весьма разветвленные и детализированные логико-психологические и общефилософские представления об этих предметах. Как правило, их стремились просто перенести в языкознание и таким образом решить специфически языковедческие проблемы. Но этот ход не мог быть удовлетворительным: он игнорировал то обстоятельство, что перед каждой наукой стоят свои особые задачи и поэтому она берет объект — пусть даже тот же самый — в иных аспектах и «срезах», чем другие науки, выделяет всегда свой особый предмет изучения, создает особые понятия. Поэтому почти никогда механический перенос понятий из одной науки в другую не помогает делу. Осознание этого момента, — а оно было, в конце концов, достигнуто в языкознании — создало другую, прямо противоположную тенденцию: разрабатывать свою собственную языковедческую семиотику. Аналогичные тенденции, хотя и не столь сильные, появились в логике и психологии; так сложились — и сегодня это вряд ли уже можно отрицать — самостоятельные, обособленные друг от друга логический, лингвистический и психологический подходы к разработке семиотики. Каждый из них стремится охватить всю область существующих, самых разнообразных знаков, каждый претендует на сферы других; в этом отношении — во всяком случае, по тенденциям — они перекрываются друг другом. Но есть более существенный, чем эмпирическая область, момент, в котором все эти подходы остаются принципиально различными и несовмещающимися, это — метод. Какой бы подход мы сейчас ни взяли — логический, лингвистический или психологический, — в каждом семиотика мыслится как простое расширение соответствующей науки, как приложение ее понятий и методов к новой области объектов. Фактически нигде не идет речи о специфических методах семиотики, об особых — а они должны быть новыми — процедурах выделения и анализа ее предмета. Показательным с этой точки зрения был проведенный недавно в Москве симпозиум по структурному изучению знаковых систем [Симпозиум… 1962]. Подавляющее большинство докладов, представленных на нем, — это либо традиционные филологические, этнографические и искусствоведческие описания, либо чисто механическое приложение понятий и способов анализа лингвистики к другим знаковым образованиям. Организаторы симпозиума не планировали ни одного доклада по методам семиотического исследования, ни одного доклада по понятиям знака и знаковой системы. И это вполне закономерно, так как они представляли себе семиотику лишь как расширенное приложение понятий и методов лингвистики и математической логики к новым областям эмпирического материала. Но, если мы примем эту точку зрения, то как затем мы сможем отказать логикам в том, чтобы они называли семиотикой приложение логических методов к анализу знаковых систем? И кто тогда рискнет сказать, что не правы психологи, включающие семиотику в цикл психологических дисциплин? Совершенно очевидно, что при любом из таких пониманий семиотики мы никогда не получим синтеза наших представлений о знаках и знаковых системах, мы не будем иметь семиотики как особой науки, синтезирующей все другие представления. А потребность в синтезе, как мы выше уже говорили, чувствуется сейчас все больше и больше. Поэтому можно сформулировать общий тезис: основная задача семиотики как теории знаковых систем, если она хочет быть особой наукой, а не другим названием расширенной лингвистики, расширенной логики или психологии, состоит в объединении тех представлений о знаках и знаковых системах, которые выработаны к настоящему времени в психологии, логике, языкознании и в других дисциплинах; семиотика будет иметь право на существование в качестве самостоятельной науки, если будет решать эту ставшую уже насущной задачу. 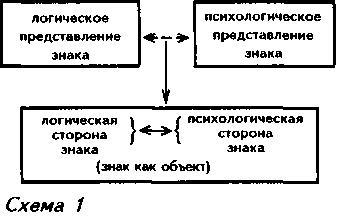 5. Объединение логических, психологических и лингвистических представлений о знаке и знаковых системах не может основываться на сведении одних представлений к другим, так как среди них нет «главного». Оно не может быть также механическим, так как содержания перечисленных представлений не являются частями одного целого. Последнее утверждение является очень важным в методологическом отношении, и поэтому его нужно разобрать подробнее; речь идет о понимании характера абстракций, приведших к этим представлениям. Обычно когда сталкиваются с такой ситуацией, т. е. когда имеют несколько различных знаний об одном объекте и их нужно применять вместе, то стремятся связать их как уже сложившиеся, готовые образования, ничего не меняя в них, и посредством движений в той же «плоскости» знаний. Но это значит, что существующие знания выступают как части вновь создаваемого сложного образования, их «содержания» становятся частями или «сторонами» описываемого объекта, а формальная связь, устанавливаемая между знаниями, «переносится» в сам объект и истолковывается как внутренняя связь между его частями или «сторонами». Методологическое представление, лежащее в основе этого хода мысли, изображено на схеме 1. Оно широко распространено. Именно таким образом пытаются решать проблему взаимоотношения «языка» и «мышления» (см. по этому поводу [1957а*}), проблему связи фонетического, морфологического и синтаксического уровней описания языка (см., например, [Тез. докл. на дискуссии… 1962]), проблему взаимоотношения производства, культуры и личности и др. Во всех этих случаях структура объекта рассматривается как изоморфная той системе объединенного знания, которая может быть получена путем какой-либо формальной связи уже существующих знаний об объекте. Но подход к проблеме может быть иным. Ведь абстракции по природе своей совсем не обязательно должны выделять части изучаемого объекта; они могут быть его проекциями, снятыми как бы при различных «поворотах» объекта. Но тогда и вопрос о синтезе их принимает совершенно другой вид. Тогда всякая попытка соединить подобные абстракции вместе какой-либо формальной связью и «вынести» полученную таким образом систему на объект является столь же бессмысленной, как попытка получить представление о структуре детали, присоединив друг к другу две ее чертежные проекции. Из этого примера становится совершенно очевидным, что если абстракции производятся по принципу проекций, то никакое формальное соединение представлений, взятых так, как они сложились и существуют, не даст системы, адекватной структуре объекта. Расхождение системы изображений с реальной структурой объекта не является каким-либо аномальным и недопустимым явлением. Наоборот, всякая система формальных изображений объекта является особой оперативной системой, в которой и с которой действуют совершенно иначе, чем действовали бы с самим объектом. Поэтому мы никогда не можем и не должны стремиться к тому, чтобы системы изображений совпадали со структурами объекта. Очевидно, нужно совсем иное: чтобы это несовпадение было осознано как принцип и чтобы из него исходили при решении методологических проблем. Чертежные проекции не изображают частей детали, но это нисколько не мешает их использованию, поскольку существуют особые процедуры, позволяющие переходить от них к самой детали в процессе ее изготовления или от одних проекций к другим, например, к аксонометрической проекции. Значит, главное, чтобы существовали эти процедуры переходов между различными представлениями, а это будет означать также и существование связей между ними. Но процедуры «синтеза», как нетрудно заметить, соотносительны с процедурами абстракции, они могут быть применены только к специально приспособленным для этого, специально выработанным проекциям. Мы можем переходить от одних чертежных проекций к другим и строить по проекциям объекты только потому, что сами эти проекции получены особым образом, именно так, как этого требуют последующие процедуры связи. Иначе можно сказать, что процедуры абстракции и процедуры синтеза представлений, полученных посредством их, должны быть органически связаны между собой, должны образовывать единый познавательный механизм. 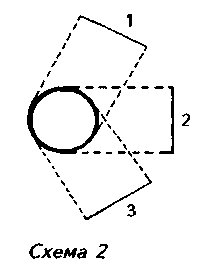 Этот принцип должен быть применен к любым теоретическим представлениям, которые мы хотим объединить. И прежде всего он заставляет нас сделать вывод, что, имея какое-то количество теоретических представлений, полученных независимо друг от друга для решения разных задач, мы не можем еще достаточно оправданно ставить вопрос о возможной связи их. Этот тезис легко пояснить на простой графической модели. Представим себе, что наш объект — это круг (см. схему 2) и мы снимаем его проекции с различных сторон, не придерживаясь никаких строгих правил, которые определялись бы «природой» объекта и процедурами последующего синтеза полученных проекций. При этих условиях одни части и элементы объекта могут отражаться по нескольку раз в разных проекциях, и это приведет к «удвоению сущностей»; другие части и элементы вообще не будут воспроизведены, и это приведет к существенным «пустотам» в наших представлениях. Совершенно очевидно, что при таком анализе и описании объекта по сути дела никакая процедура объединения не даст нам необходимых результатов. Но что делать, если нам все же необходимо осуществить синтез представлений, полученных «хаотично», вне связи друг с другом и вне всякой ориентировки на последующий синтез? Очевидно, для этого необходимо перестроить сами эти представления, освободить их от одинаковых многократно повторяющихся содержаний, дополнить другими представлениями, необходимыми для осуществления нужных синтезов и т. п. Но тогда снова возникает вопрос: а как это можно сделать? Ведь для этого нужно уже иметь представление о действительной структуре объекта и соотнести с нею существующие «односторонние» представления-проекции. Никакого другого способа решить эту задачу не существует. Такой вывод означает очень многое. Он задает линию того движения, которое мы должны осуществить для синтеза существующих представлений одного объекта. Он показывает, что в это движение обязательно должен будет войти анализ тех абстракций, посредством которых были получены эти представления. Он показывает также, что нужно будет — и это непременное условие осуществления предыдущего требования — проделать особую работу по воссозданию структуры того объекта, «проекциями» которого являются имеющиеся представления. 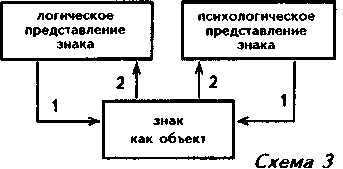 Идея, определяющая этот ход движения мысли, изображена на схеме 3 (группа движений 1 изображает здесь определение структуры объекта, а группа движений 2 — характеристику существующих представлений как «проекций»). Схема наглядно показывает, что вместо того, чтобы искать какие-то связи между уже существующими знаниями об объекте в плоскости самих этих знаний, нужно каким-то образом воспроизвести структуру объекта, а затем, исходя из нее, восстановить те «повороты абстракции», которые привели к имеющимся знаниям. И только таким путем можно будет получить необходимую связь между разными представлениями одного объекта. Но что значит воспроизвести структуру объекта в чем-то сверх уже имеющихся знаний о нем и в дополнение к ним? На наш взгляд, это значит ввести в систему совокупного знания особое образование — структурную модель объекта. Такая модель имеет совершенно особую функцию в системе теории. Она является изображением объекта, созданным специально для того, чтобы объединить уже существующие знания. (Исходя из этого, можно говорить, что именно набор объединяемых представлений реально задает и определяет характер вводимой модели.) Вместе с тем эта модель объясняет существующие представления и служит (наряду с логическим описанием произведенных абстракций) обоснованием их. В. А. Лефевр, выделивший эти логические функции, назвал соответствующий класс моделей «конфигураторами» [Лефевр, 1962]. Соотнесение существующих представлений с вновь построенным конфингуратором ведет к перестройке их, часто очень существенной, и это является, как мы уже выяснили, одной из важнейших целей всей работы, ибо дает возможность объединить затем существующие представления и непосредственно — в рамках единого теоретического (формального) представления. Когда подобное объединение осуществлено, конфигуратор становится ненужным и сама модель может быть опущена в системе теории. Но чаще созданные таким образом структурные модели объектов и все связанные с ними построения остаются, начинают жить и развиваться по своей собственной «логике» и становятся особым слоем теории или даже особой научной дисциплиной. После этих методологических соображений мы можем вернуться к вопросу о задачах семиотики и уточнить то, что мы говорили раньше. На наш взгляд, семиотика и является той наукой, которая должна создать и разрабатывать новую структурную модель знака и знаковых систем, необходимую для синтеза логических, лингвистических и психологических представлений о знаке. 6 По своему смыслу соображения, изложенные в предшествующем пункте, равносильны гипотезе, что во всех существующих представлениях о знаках не было схвачено какое-то объективное свойство их, которое по сути дела является решающим: оно объединяет другие, уже выявленные свойства и задает их место в системе целого. Очевидно, чтобы построить особое семиотическое представление, его нужно выделить. До сих пор, показывая методологическую функцию модели объекта, мы ничего не говорили о том, как она строится. И это естественно, так как вряд ли существуют и могут существовать какие-либо общие правила на этот счет. Но один момент совершенно ясен: условием и предпосылкой выделения не схваченного до сих пор свойства и построения единой синтетической модели должен быть тщательный анализ всех уже наметившихся линий и методов исследования знака — анализ, направленный на выяснение тех пунктов, с которыми они не могли «справиться». Настоящая работа представляет собой попытку выделить эти линии. Она, естественно, не может претендовать на изложение деталей; речь будет идти только о принципиальных линиях и даже, скорее, о принципиальных тенденциях в исследовании знака. II. О методе историко-критической реконструкции понятия знака1. В предыдущем разделе мы говорили о том, что практические потребности производства сделали необходимой разработку нового семиотического понятия о знаке, которое должно объединить или, по крайней мере, связать между собой все существующие уже в разных науках частные понятия. При этом, естественно, должно быть учтено все истинное и отброшено все ложное. Но как разделить их? При первом эмпирическом подходе всякое знание о сложном объекте выступает как множество никак не организованных положений, высказанных в разное время и в разных условиях многочисленными учеными. Эти положения отнюдь не равноценны: действительные познавательные достижения, необходимые для дальнейшего продуктивного развития соответствующих отраслей производства и науки, переплетены с иллюзорными представлениями, с внешними наслоениями, обусловленными преходящими социальными ситуациями и просто ложными ходами мысли. В этом множестве положений не так-то просто выделить те, которые являются действительно истинными и должны составить «современное понятие». Им не может быть какое-либо одно или несколько последних представлений, ибо они, как правило, отнюдь не включают в себя всего рационального содержания предшествующих; известно, что некоторые стороны и аспекты ранних теорий, правильно отражающие объект, не могут быть постигнуты в понятиях других, в общем более высоких и развитых теорий; в истории познания нет абсолютного и автоматического прогресса и прямой преемственности: углубление в одном отношении часто достигается ценой искажения или вообще утраты других моментов [Мамардашвили, 1959]. Поэтому характеристика и конструирование «современного понятия», выделение основных его составляющих, предполагают оценку всех накопленных в историческом движении положений, отделение истинных и «необходимых» для «современного» знания от «случайных», ложных, исторически уже преодоленных. Но как может быть осуществлена подобная обработка эмпирической истории знания? Какими методами нужно здесь воспользоваться? К каким критериям прибегать? Оказывается — и осознание этого факта пришло к нам с работами Гегеля и Маркса, — что единственная возможность и единственный путь теоретического решения этих проблем идет через исследование закономерностей познания соответствующих объектов, или, что то же самое, закономерностей формирования понятий об этих объектах. Только соответствие процедур, посредством которых мы получаем те или иные характеристики «знака» или какого-либо другого понятия, общим механизмам и закономерностям познания может служить действительным (и единственным) критерием для включения этих характеристик в «современное» понятие. Но это значит, что, только поставив и решив вторую, вспомогательную задачу — выявить и воспроизвести закономерный ход познания знака (или какого-либо иного объекта), мы можем надеяться решить и ту задачу, которая нас непосредственно интересует, — воспроизвести «необходимую» структуру современного понятия о нем. Иначе, и, наверное, точнее, это можно выразить так: мы должны осуществить такую обработку истории развития знаний о знаке, чтобы в итоге получить двоякий продукт: с одной стороны — изображение развития понятия как некоторого закономерного движения, а с другой — систему «современного» понятия. Здесь возможны две линии анализа. Первая опирается на описание эмпирической истории употреблений понятий знака в разных науках; она может установить задачи, ради которых вводилось каждое понятие, и способ самого введения, она может показать переходы одной проблематики в другую в ходе реального движения науки и соответствующие им смены понятий. Вторая линия предполагает специальный логико-методологический аппарат понятий, основывающийся на анализе закономерностей самого познания, его средств и механизмов, его «углубления» в объекты такого типа, какими являются знаки и знаковые системы. Первая линия анализа по необходимости будет описательной; фиксируя то, что было, она никогда не даст нам ответа на вопрос, как должно быть. Вторая линия будет теоретически-обобщенной, устанавливающей необходимые стороны процесса познания; она всегда будет отвечать на вопрос, как должно быть (с точки зрения общих логических принципов), но при этом будет содержать неизбежно все недостатки абстрактных теоретических построений. Параллельное применение и согласование обеих линий анализа должно дать наилучший результат; это будет вместе с тем научная история понятия знака (ср. [Мамардашвили, 1959]). 2. Основным средством этой работы должны стать, очевидно, общие логические представления о механизмах и закономерностях развития знаний и систем знания. Из них мы хотим выделить и кратко разобрать четыре основных принципа. 1) Принцип операциональной реконструкции содержания знаний. Смысл его можно пояснить на примере работ А. Эйнштейна. Чтобы выяснить содержание понятия времени, он обратился к анализу тех познавательных (или мыслительных) процедур, которые создало человечество, введя это понятие. На этом пути ему удалось выявить в системе понятия и противопоставить друг другу, во-первых, те объекты, которые непосредственно изучаются, во-вторых, те объекты, с помощью которых или через посредство которых идет познание (это — объекты-эталоны и объекты-индикаторы), в-третьих, те процессы и отношения сопоставления, которые при этом устанавливаются [Эйнштейн, 1955; Кузнецов, 1960]. Теперь мы уже достаточно хорошо знаем, что всякое понятие образуется именно так и его содержание — это не что иное, как устанавливаемая при этом система отношений сопоставления [1957 b; 1958 а*, b*]. Но это значит, что, исследуя историю развития какого-либо конкретного понятия, мы должны выделить (и изобразить) ту простейшую систему сопоставлений, на основе которой оно впервые возникло, а затем проследить те изменения и наращивания в этих сопоставлениях, которые характеризовали его дальнейшее развитие. В этом процессе существуют свои строго определенные закономерности, свои допустимые и недопустимые линии развертывания, а следовательно, и своя необходимая линия «движения». Определив ее, мы сможем оценивать все существующие варианты в понятии и все нововведения в его структуре как «истинные» или «ложные». 2) Принцип развития знаний и мыслительных операций по «уровням». Он конкретизирует первый принцип и задает одно из тех направлений, по которым идет развертывание структуры понятий. В самом схематическом виде суть этого принципа может быть описана так. Изучая какой-либо объект (обозначим его как Ои— «исходный»), мы ставим его в разнообразные отношения к другим объектам («индикаторам», «эталонам», «заместителям»). До определенного момента эти отношения нас не интересуют; они являются чисто вспомогательными образованиями, своего рода «лесами», необходимыми для создания знания об исходном объекте; и хотя именно эти отношения создают и задают содержание вырабатываемого знания, но в самом знании, в его знаковой форме, они никак не фиксируются и не должны фиксироваться, если мы хотим иметь понятие об объекте [1957 b; 1958 b*; 1962 а*]. Но в дальнейшем эти отношения — и др. — сами становятся объектами изучения: для них подыскиваются свои особые объекты-эталоны (тоже «отношения» или «взаимосвязи») и объекты-индикаторы, вырабатываются новые процедуры сопоставления и устанавливаются новые отношения, если можно так сказать, — второго порядка. На основе всего этого появляется новое знание об отношении как особом объекте и фиксируются новые познавательные задачи, которые могут быть названы рефлективно-выделенными[1959; 1962 а*; Ладенко, 1958 а, b}. 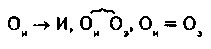 Хотя после описанного генетического процесса новая рефлективно выделенная познавательная задача выступает как лежащая в одном ряду с исходной задачей, а новая операция мышления, назовем ее (3, — как лежащая в одном ряду с исходной операцией, скажем, а, однако в действительности ни эти задачи, ни решающие их операции не являются равноправными и однородными. Отношение, ставшее объектом изучения во второй операции, как мы уже говорили, возникает первоначально как некоторое вспомогательное образование, как средство познания исходного объекта. Точно так же и рефлективно выделенная задача является, как правило, вспомогательной, и ее решение первоначально необходимо лишь для решения исходной. Взятая сама по себе, она не имеет никакого смысла и значения. То же самое можно сказать и относительно новой операции мышления. Она возникает лишь как часть деятельности, необходимой для решения исходной познавательной задачи, и при своем формировании «опирается» на знания, являющиеся результатом первого процесса. Поэтому новую рефлективно-выделенную познавательную задачу и соответствующую ей операцию мышления надо рассматривать как образования другого уровня по сравнению с исходной задачей и исходной операцией, как образования, в своем появлении и отношении к действительности опосредованные задачами, мыслительными операциями и знаниями нижележащего уровня. В процессе исторического развития новый объект — отношение, новая познавательная задача и средства ее решения — мыслительные операции и входящие в нее отношения сопоставления — отделяются от исходных задач и операций и приобретают относительную самостоятельность. Но, несмотря на это, они сохраняют с исходными задачами и операциями внутреннюю органическую связь и образуют вместе с ними как бы некоторую целостную структуру знания. Иными словами, знания, лежащие на разных уровнях, образуют целостные структуры, охватывающие сразу несколько уровней, и не могут быть поняты отдельно друг от друга. Понятие уровня мышления, основанное на принципе рефлективного выделения нового предмета и новой познавательной задачи, впервые дает объективное основание для построения «рядов развития» или «рядов усложнения» содержания знания. Оно объясняет, почему существуют строго определенная зависимость и строго определенный порядок в появлении различных типов знаний и операций мысли, и показывает, что они должны располагаться не рядом друг с другом и не один над другим, а как бы по ступенькам лестницы, причем знания и операции, лежащие на высшей ступеньке, возникают и могут быть сформированы лишь после и на основе определенных знаний и операций, лежащих на низших ступеньках [1959; 1962 а*; Ладенко, 1958 а, b]. 3) Идея замещения и принцип «слоистого» строения знания. Они характеризуют второе направление развертывания структур понятий. После того как в объектах изучения путем сопоставления выделено определенное содержание и зафиксировано в знаковой форме знаний, эта знаковая форма сама становится объектом рассмотрения, ее элементы сами определенным образом сопоставляются как объекты, и выделенное таким образом в них содержание фиксируется в новой знаковой форме. В зависимости от того, какое отношение существует между исходными объектами и их знаковой формой, — отношение модели или символа, — вторичная знаковая форма может или, соответственно, не может быть непосредственно отнесена к исходным объектам. В первом случае новое вторичное знание располагается как бы непосредственно над первичным, исходным, по схеме 4, во втором случае — как бы рядом с исходным, по схеме 5, и требует обратных преобразований к форме, допускающей непосредственное отнесение к исходному объекту. Но в обоих случаях мы получаем сложную целостную структуру знания, в которой все части и плоскости органически связаны между собой и зависят друг от друга. На схемах мы привели самые простые случаи. А большинство научных понятий содержит целый ряд надстраивающихся друг над другом замещений. Анализируя их, мы будем выделять четыре, пять или даже еще большее число знаковых плоскостей замещения и должны будем говорить о слоях структуры понятия, каждый из которых включает две связанные между собой плоскости [1960 а*; 1964 с*]. 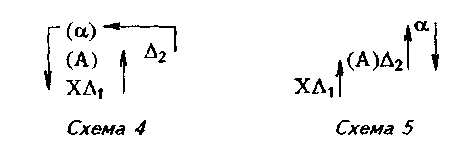 Из сказанного выше уже ясно, что в процессе развертывания понятия знаковые формы, замещающие исходные объекты, рассматриваются как объекты особого рода (функциональные объекты в системе слоя) и к ним применяется деятельность, внешне напоминающая содержательные преобразования самих объектов. Но по сути дела она остается знаковой деятельностью, применяемой к знакам. Непонимание этого момента приводило ко многим затруднениям и ошибкам в истории науки. 4) Различение в знании «предмета» и «объекта». Этот принцип является в каком-то смысле выводом из предшествующих; он выступает в роли методического правила, регулирующего нашу работу по анализу уже сложившихся знаний. «Объект» и «предмет» являются двумя принципиально разными образованиями, входящими в структуру знания и определяющими его развитие, но по разным линиям. Объект знания может существовать независимо от самого знания и до его появления. Предмет знания, напротив, формируется наукой и вне того или иного знания существовать не может. Приступая к изучению какого-либо объекта, мы ставим его в определенные отношения сопоставления и таким образом выделяем (или создаем) некоторое содержание. Оно фиксируется (выражается или замещается) в какой-то знаковой форме. Таким образом, появляется «связка» (или взаимосвязь) определенного объективного содержания со знаковой формой. Эта связка и есть «предмет» в его реальном существовании. В человеческом обществе «предметы» являются не менее действительными, реально существующими, чем «объекты»; на них точно так же направляется дальнейший анализ, и при этом происходит своеобразное «уплощение» самой связки замещения: знаковая форма «видится» и рассматривается не сама по себе, не как объект с определенными материальными свойствами, а как выражение определенных свойств исходного объекта, как выражение некоторого объективного содержания, и поэтому к ней применяются действия, соответствующие не ее собственной «материальной» логике, а логике выражаемого в ней содержания. В этом аспекте «предмет» может быть определен как знаковая форма, выражающая определенные стороны объекта, определенное содержание. С другой стороны, и объект, включенный в связку предмета, видится не как таковой, а сквозь призму той его стороны или того свойства, которое выделено посредством сопоставления и зафиксировано в определенной знаковой форме. Иначе можно сказать, что содержание, выраженное в знаковой форме, выносится на объект, онтологизируется и, следовательно, сам объект рассматривается не как таковой, а в логике оперирования со знаковой формой, а «предмет» может быть определен как объект, взятый с некоторых сторон и замещенный знаковой формой [1964 а*]. Для человеческого общества, как мы уже сказали, предметы знания являются ничуть не меньшей реальностью, чем сами объекты. Наверное, даже наоборот — большей реальностью. Нам важно подчеркнуть, что и тот и другой входят в структуру знання и что они имеют разные законы «жизни»; это касается и функционирования (употребления) и развития: объекты живут и развиваются по законам природы, предметы — по законам производства и познания. Одному и тому же объекту, как правило, соответствует несколько различных предметов. Это объясняется тем, что характер предмета зависит не только (и даже не столько) от того, какой объект он отражает, сколько от того, зачем этот предмет сформирован, для решения каких производственных и познавательных задач. Каждый из таких предметов развертывается в особую цепь (или ансамбль) связанных друг с другом замещений. Затем, естественно, встает вопрос об отношении их друг к другу и ставится задача объединения, синтеза их в одном, более «многостороннем» предмете. Как средство решения этой задачи вводится структурная модель объекта в функции «конфигуратора». (Эта сторона дела была подробно разобрана нами в предшествующем разделе.) При этом обязательно происходит «уплощение» предметов: их многочисленные слои замещения как бы «снимаются» в одноплоскостной структурной модели, которая становится основанием для развертывания ряда новых предметов изучения. 3. Важнейший момент всех изложенных выше принципов может быть выражен в утверждении, что всякое понятие является особым структурным «организмом», имеющим свои специфические законы развития. Понятия — такие же объективные, сами по себе существующие явления, как орудия труда или картины. Их нельзя рассматривать как зеркальные копии, простые слепки с объектов, так как в этом случае бессмысленно будет говорить о каких-то законах их развития, о собственной истории понятий. Подход к понятиям как к определенным объективным структурам, как к некоторым «организмам», напротив, позволяет говорить о развитии понятий, об их развертывании, и выявлять закономерности этого процесса, обусловленные объективной структурностью понятий. Но этот вывод является, по сути дела, ответом на поставленные, выше вопросы о методах и средствах научного анализа эмпирической истории развития знаний. Чтобы выявить законы (а вместе с тем и необходимость) в развитии какого-либо понятия, нужно представить его как некоторую объективную органическую структуру, как некоторый объективный «организм», а затем рассмотреть эмпирическую историю развития знаний с точки зрения тех возможностей, которые открывает эта структура в плане своего внутреннего, имманентного развертывания. Такой путь анализа даст нам основную «скелетную схему» для объяснения эмпирической истории знаний, хотя, конечно, не сможет охватить ее всю. III. Понятие знака как органическая система1. В предшествующем разделе мы поставили задачу выделить и описать то, что может быть названо «современным» понятием знака. Для этого, как выяснилось, нужно особым образом обработать эмпирическую историю науки — отделить все «истинное» и «необходимое» в накопленных к настоящему времени знаниях от случайного, привнесенного извне, «ложного». Одним из важнейших условий и средств этой процедуры, как было показано, является представление самого понятия знака в виде определенной органической системы, имеющей объективное существование, свою специфическую структуру и особые законы развития. Представить понятие в виде органической системы — это значит ввести и описать, во-первых, входящие в него элементы, а во-вторых, связи и взаимодействия между ними, приводящие к изменению и развитию всей структуры.[241] 2. Приступая к решению этой задачи, необходимо, прежде всего, разграничить и правильно «развести» два связанных между собой «подразделения» исследования: 1) анализ различных (естественно сложившихся или сознательно сконструированных) знаковых систем, в первую очередь — человеческой речи (или языка), и 2) формулирование понятия знака как такового, выявление различных сторон и свойств, характеризующих его специфику. Эти два подразделения исследования образуют как бы два основных блока в знаниях о знаках; между ними устанавливаются многообразные связи и зависимости и происходит своеобразное «взаимодействие». Чтобы понять механизмы и закономерности «движения», возникающего при этом в структуре понятия, нужно выделить и проанализировать составляющие этих связей и «взаимодействий». Попробуем наметить их, двигаясь по методу восхождения от абстрактного к конкретному. (А) В каких-то пределах исследование объективно существующих знаковых систем возможно без общего понятия знака как такового; и так оно, по-видимому, и шло на первых этапах. Полученные при этом знания фиксировали какие-то частные особенности исследуемых объектов, например, системы лексических и синтаксических соответствий в разных языках, схемы логических выводов, стилистические приемы и т. п. Затем в ходе этих исследований появилась необходимость ввести понятие «знака вообще». Мы не обсуждаем сейчас вопроса, в связи с какими задачами и в каких ситуациях оно было введено, хотя это очень важно; нас пока интересует результат: возникла сложная система «взаимодействий» между частными описаниями знаковых текстов, общим понятием знака и самими знаковыми текстами (схема 6). 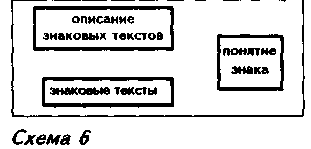 Теперь возникает вопрос о количестве и характере связей между выделенными блоками. (1) Можно утверждать, что блок «описания знаковых текстов» отражает определенные стороны реальных знаковых текстов. При этом, как следует из общего философского учения об относительности истины, всегда существует известная неадекватность, или расхождение между объективными свойствами знаковых текстов и тем представлением (или знанием) о них, которое фиксируется в описаниях. (2) Существуют две полярные точки зрения на условия и механизмы возникновения понятий такого типа, как «знак». Одни считают, что они появляются в качестве средств, обеспечивающих организацию и осуществление деятельности, и в этом плане подобны алгоритмам. В этом случае они не должны отражать или изображать какие-либо объекты, а служат лишь предписаниями, как бы планирующими этапы деятельности с объектами. Другие, наоборот, полагают, что понятия этого типа с самого начала появляются как изображения объектов, как продукты выделения и описания некоторых сторон объектов (по поводу различия этих двух точек зрения см. [Москаева, 1965; Розин, 1964 а]). Но, как бы ни возникали эти понятия, потом они всегда начинают употребляться также и в качестве описаний или изображений объектов. Выражая эту связь, мы говорим обычно, что в понятии знака отражаются или фиксируются какие-то стороны реальных знаковых текстов, а также схемы нашей познавательной деятельности, направленной на них и создающей их частные описания. Уже в этом компоненте, как легко видеть, переплетается ряд отношений и связей, существенно различающихся между собой: во-первых, связь общего понятия знака со знаковыми текстами как таковыми (обозначим ее индексом 2. 1), во-вторых, связь с процедурами анализа и описания этих текстов (обозначим ее индексом 2. 2), в третьих, связь с частными описаниями текстов (обозначим ее индексом 2. 3); в понятии знака вообще эти моменты могут быть слиты, переплетены друг с другом, но их нужно различить и развести. Из-за этого переплетения различных содержаний в одном понятии, а также в силу общего принципа ограниченности и относительности знаний, общее понятие о знаке мало соответствует как реальным знаковым текстам, так и их частным описаниям: оно не учитывает многих очень существенных сторон их и одновременно содержит такие моменты, которых в них нет, которые мы им приписываем (эти обстоятельства особенно проявляются в других составляющих структуры понятия знака). 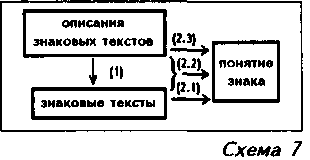 Описанные выше связи и зависимости представлены на схеме 7. (Б) После того как понятие знака сложилось, оно в свою очередь начинает определять направление и способы исследования реальных знаковых текстов. При этом неадекватность понятия знака часто обусловливает многолетние неудачные попытки исследования знаковых систем или появление обширных рядов, казалось бы, «эмпирических» понятий, которые совершенно неверно представляют строение своего объекта. Поэтому так важно разделить названные в начале вопросы, с тем чтобы всегда можно было знать, чем определяется та или иная гипотеза или линия исследования — содержанием и формой нашего понятия о знаке или «давлением» самого изучаемого объекта — реальных знаковых систем. Чтобы зафиксировать эту новую компоненту, мы должны ввести в схему еще одно изображение связи «влияния», идущей от понятия знака к описаниям знаковых текстов; при еще большей детализации она может быть представлена в виде двух связей, идущих, соответственно, к процедурам анализа, т. е. к связи (1), и к самим описаниям (обозначим эти связи индексами 3. 1 и 3. 2 — см. схему 8). (В) Положение усложняется еще более из-за множественности отношений такого рода, какие были указаны выше. Анализ реальных знаковых систем отражается в понятии знака, оно определяет характер дальнейших исследований самих знаковых систем, результаты, полученные здесь, вновь отражаются в понятии знака, ведут к его изменению и перестройке, измененное понятие обусловливает новый цикл исследования самих знаков, но при этом очень часто взаимодействует с прежним понятием, и это создает дополнительные коллизии разного рода. Поэтому нужно постоянно иметь в виду это наращивание и усложнение взаимоотношений, их постоянное взаимодействие друг с другом и находить методы для того, чтобы сначала отделять одни отношения и связи от других, а затем учитывать их взаимосвязь и взаимовлияние. По-видимому, эта задача может быть решена только на пути генетического анализа, когда изображенная выше схема как бы «прокручивается» несколько раз и каждый «круг» движения вносит свои изменения в строение соответствующих блоков схемы. (Этот метод анализа был детально разработан В. М. Розиным при исследовании развития знаний и знаковых средств математики и в принципе может быть перенесен на другие виды знаний.) (Г) Дальнейший анализ показывает, что не только исследование, но и реальное производство и реальная жизнь знаковых систем в обществе оказываются зависимыми от тех понятий о знаке и знаковых текстах, которые имеет человечество. В естественноисторических процессах появления и развития знаковых систем, как и при развитии многих других социальных образований, действует, безотносительно к тому, что хотят и желают отдельные индивиды, особый механизм управления. Понятия такого вида, как «знак» или «знаковая система», принятые учеными, определяют направление их исследовательской работы и тем самым производство более частных лингвистических понятий о языке и правил речи, фиксируемых в грамматиках, а также логических понятий и правил, относящихся к языкам науки. Эти понятия, в свою очередь, усваиваются индивидами и определяют как их повседневную речевую деятельность, — а тем самым и характер живого разговорного «языка», — так и специальную деятельность по созданию языков науки (более подробное изложение вопроса о системах и механизмах семиотического управления см. в [1965 е; 1964 i]). Очевидно, что, выпустив из поля зрения эту зависимость, мы получим совершенно превратное представление об отношении между знаковыми системами и общими понятиями о знаке, в особенности в том, что касается языков науки. 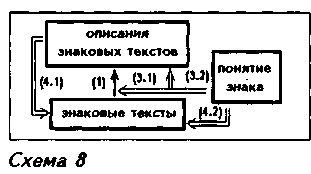 Очевидно, чтобы учесть и эту сторону дела, мы должны ввести в схему две связи «влияния»: одна будет идти от частных описаний знаковых текстов к самим знаковым текстам (обозначим ее индексом 4. 1), а вторая — от общего понятия о знаке к знаковым текстам (обозначим ее индексом 4. 2). Суммируя сказанное в пунктах (Б) и (Г), можно ввести схему 8. 3. На указанную выше систему связей и зависимостей накладывается еще одна, обусловленная тем своеобразным отношением между «объективными» и «субъективными» моментами в познании, которое мы имеем при исследовании знаков. Если мы возьмем, к примеру, объекты, изучаемые в физике и химии, то они всегда как целое противостоят исследователям; с ними можно оперировать, приводить их во взаимодействие с другими объектами, разлагать, соединять в комплексы и т. д.; подобное оперирование составляет основу познания этих объектов. На первый взгляд может показаться, что знаки в этом отношении ничем не отличаются от объектов физики и химии: представленные в текстах разного рода, в особенности как последовательности графических значков, они вроде бы тоже противостоят исследователю как чисто объективные образования и поэтому с ними тоже можно оперировать как с объектами. Но это только видимость. Графические значки, фиксируемые в виде текстов, не являются еще целостными знаками; они составляют лишь одну часть знаков, именно — материал их знаковой формы, а самое главное для знаков — их значение — лежит вне материала, в чем-то другом. В этом легко убедиться на очень простом примере. Если, скажем, мы имеем графему «коса», то взятая таким образом — вне контекста употребления, вне связи с другими знаками, — она не может трактоваться как определенный знак, ибо мы не можем даже восстановить, что именно она обозначает. У этой графемы, при таком задании ее, нет определенного значения, а поэтому она не может «пониматься» и не может рассматриваться как знак. Но эта графема получит значение и станет знаком, если мы сможем отнести ее к какому-либо определенному объекту или классу объектов. Достаточно, например, сказать: «русая коса», чтобы такое отнесение стало уже возможным. Пример с этой графемой благодаря ее многозначности отчетливо демонстрирует, что сам по себе материал знаковой формы не образует еще знака как такового, что в знаке обязательно должно быть еще что-то, что обеспечивает незатрудненное безошибочное понимание. В приведенном примере из-за особых условий (омонимия) это что-то выпало и знаковая форма потеряла обычно обнаруживаемые у нее свойства знака. К тому же самому выводу мы приходим и в тех случаях, когда сопоставляем между собой отношение к графемам какого-либо языка двух людей — одного, «знающего» этот язык, и другого, не знающего его. Первый может употреблять эти графемы и, в частности, понимать их, потому что за ними для него стоит еще нечто — значения. Фактически эти два человека имеют дело с совершенно разными образованиями; перед ними, если можно так выразиться, разные действительности. Но из этого, естественно, вытекает вопрос, важнейший в этом контексте: а можно ли рассматривать знак как объект, целиком противостоящий исследователю, как объект (повторяем, взятый в целом), которым можно оперировать и который как целое можно познавать на основе этого оперирования. То, что мы уже выяснили, дает нам право ответить на этот вопрос отрицательно: знаки не являются объектами, подобными объектам физики и химии, они не противостоят исследователям как чисто субстанциальные образования, и поэтому с ними нельзя оперировать как с объектами. Не может выступить в качестве таких объектов и звуковой или графический материал знаков: в человеческом обществе он «живет» не по своим собственным законам, а по законам значений. Поэтому оперирование с материалом знаков как с объектами ничего не даст для познания самих знаков. Эта особенность объективной природы знаков проявляется и в процессах их исследования. Анализ отдельных знаковых выражений и знаковых систем всегда опирается прежде всего на понимание их значения или смысла. Только понимание делает возможным расчленение знаковых выражений на отдельные значащие единицы, выделение связей между ними и вообще воспроизведение структуры выражений. Именно таким образом исследователь восстанавливает ту «часть» каждого знака, которой должен быть дополнен материал знаковой формы, именно таким образом он учитывает его значения и содержание, так он получает полный знак. Но это дополнение и восстановление происходят не в объективном плане, не в отчужденной объективной форме, а в его индивидуальном сознании. Здесь, таким образом, нет объективной исследовательской процедуры, направленной на содержание и значение знаков как на отчужденные предметы рассмотрения. Материал знаков понимается, а затем понимаемая знаковая форма сопоставляется и анализируется с новых точек зрения, например, с точки зрения механизма силлогистического вывода, и при этом в ней выделяются различные функциональные элементы, такие, как «субъект», «предикат», «связка» и т. п. Но этот «объективный» анализ уже включает в себя работу понимания, и более того — он «подлажен» к ней и возможен только на ее основе. Приступая к анализу текстов, исследователь, работающий этим способом, не ставит вопроса о том, как он понимает текст и как на основе этого понимания производит смысловое расчленение знаковой формы; он берет эту структуру смысла, а вместе с ней и смысловую расчлененность формы как уже понятое и знаемое, как данное и исходный пункт своей собственной специфической работы ученого. Важно подчеркнуть, что в дальнейшем осознание этой процедуры и осуществляемого в ней противопоставления отношений к значениям и к материалу знаков привело к отождествлению деятельности понимания знаковых выражений с самими значениями и содержаниями, с той человеческой деятельностью, которая их создает. Сложилось мнение, что значения и содержания знаков имеют исключительно «субъективную» психическую природу, что они привносятся к материалу знаков понимающим их субъектом. В действительности же материал знаков объективно имеет значения и содержания; и эти значения понимаются людьми. Именно в том, что люди строго определенным образом понимают материал знаков, обнаруживается и доказывается объективное существование значений и содержаний, независимое от деятельности понимания. Итак, правильная, на наш взгляд, трактовка всех этих явлений может быть выражена в тезисе: существуют объективные значения знаков, независимые от деятельности понимания индивидов; эти объективные значения обнаруживаются в деятельности понимания и приобретают новое существование и новую форму в сознании индивидов. Отношение между объективным значением и пониманием его можно сравнить с отношением между руслом и водой реки: объективное значение — это русло, определяющее течение понимания. Таким образом, в знак, кроме материала знаковой формы, входят еще значения, они являются действительностью совсем особого рода, принципиально отличной от материала знаков, и лежат где-то в связях или отношениях этого материала, с одной стороны, к человеку, а с другой — к целому ряду различных объективных образований; если говорить еще точнее, они заключены в способах деятельности человечества с материалом знаков; эта особая и необычная форма их существования приводит к тому, что они выступают какими-то мистическими образованиями (см. [1960 с*, II; 1964g]). Но из этого следует второй, еще более общий вывод, важный для нас в данном контексте: знаки как объекты принципиально отличны от обычных объектов-вещей, и исследователь в ходе анализа не может оперировать ими так, как он это делает с объектами физики и химии. 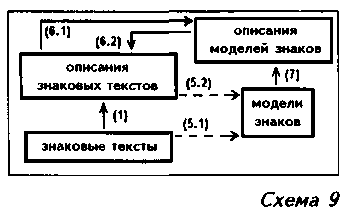 Но значит ли это, что объективный анализ знаков вообще невозможен и должен всегда строиться на одном лишь понимании значений и смысла их? Отнюдь нет. Существует путь преодоления всех этих трудностей. Чтобы сделать возможным объективное изучение знаков, опирающееся на оперирование с ними как с объектами, нужно построить модели этих знаков и производить все познавательные операции на них. Но это, в свою очередь, означает, что в этих моделях знаков нужно воспроизвести все необходимые значения и содержания соответствующих знаков, а также деятельность «понимания» их. И на этот путь встала, по существу, уже античная наука. Но таким образом мы приходим к очень важному методологическому выводу. Оказывается, что знание о знаке, если мы хотим, чтобы оно было объективно-научным, должно быть, по меньшей мере, двухслойным, а все мыслительные, исследовательские процедуры, посредством которых оно образуется и развивается, должны содержать операции двоякого рода: во-первых, с материалом самих знаковых систем, во-вторых, с моделями знаков — и, кроме того, должны включать еще соотнесение результатов тех и других. В самом простом виде это представлено на схеме 9. Связи с индексами 5. 1 и 5. 2 обозначают здесь те зависимости, которые существуют между моделью, с одной стороны, и изучаемыми знаковыми текстами и их описаниями — с другой; связи с индексами 6. 1 и 6. 2 обозначают упомянутое выше соотнесение описаний моделей знаков с описаниями конкретных знаковых текстов, их взаимное влияние друг на друга; связь с индексом 7 подобна связи отражения 1, и к ней поэтому применимо все то, что мы говорили по этому поводу выше. Структура из двух правых блоков, как нетрудно заметить, соответствует тому, что мы обозначали выше как блок «понятие знака». 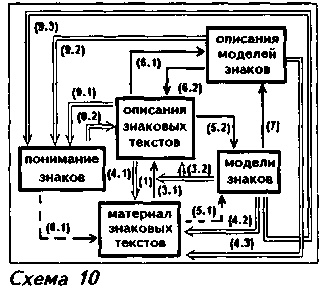 Появление объективного анализа знаков с помощью моделей не устраняет обычного понимания знаков. Эти два момента постоянно сосуществуют, постоянно соотносятся и взаимодействуют друг с другом, и это обстоятельство определяет многое в истории исследований знака, порождая массу специфических коллизий и противоречий. Обычное понимание знаковых выражений учитывает всегда всю совокупность связей и отношений, в которых находится и может находиться рассматриваемое выражение во всевозможных контекстах употребления его. А любая модель знака, напротив, всегда одностороння и абстрактна, всегда стремится свести входящие в нее связи и отношения к минимуму. Поскольку оба эти процесса направлены на один объект, мы постоянно стремимся отождествить понимаемые нами значения знаковых выражений с теми или иными образованиями в модели знака. Таким образом, возникает и развертывается противоречие между схватываемым в понимании значением знаковых выражений, по своей объективной природе очень богатым и многосторонним, и его моделью в науке, всегда более бедной, односторонней, часто — просто неадекватной (см., например, обсуждение одного из аспектов этой проблемы в [1960 с*. III; 1964 g]). 4. Если теперь свести воедино и представить в одной схеме все отношения, связи и зависимости, намеченные в предшествующем описании, то получится довольно сложная структура (схема 10). Сравнительно с приведенными уже схемами 7, 8 и 9 в ней будет новый блок «понимания» и ряд новых связей. Связь 8. 1 будет выражать привнесение значений в тексты «понимающими» их людьми; связь 8. 2 — влияние «понимания» на характер описания знаковых текстов. Связи 9. 1, 9. 2, 9. 3 будут выражать управляющее влияние различных видов знаний о знаках на понимание текстов; по своему характеру они подобны связям 3. 1, 3. 2 и 4. 1, разобранным выше. Вместо связи управляющего влияния 4. 2, введенной на схеме 8, мы получим благодаря разделению блока «понятие знака» две такие же управляющие связи, которые мы обозначим индексами 4. 2 и 4. 3. Приведенная схема изображает минимальную единицу (возможно, и неполную) органической системы понятия о знаке. Все входящие в нее связи и зависимости обязательно должны быть учтены при воспроизведении истории этого понятия. Именно эта структура задает собственно познавательный механизм, во многом определяющий характер фиксируемого в понятии содержания. Что значит рассматривать «язык» как знаковую систему?[242] 1. Попытки рассмотреть «язык» как знаковую систему представляют собой одно из направлений поиска собственно научного предмета для языкознания. До сих пор деятельность языковеда оставалась по преимуществу «искусством» и конструированием норм речевой деятельности. От уже развитых естественных наук языкознание отличалось прежде всего отсутствием идеального объекта, к которому могли бы быть отнесены «необходимые» законы и закономерности. Проявляется это в частности в том, что до сих пор не найдено какого-либо ответа на вопрос, что такое «язык». Более того, до сих пор не определено, в каком виде надо и можно было бы дать ответ на этот вопрос. Но по сути дела речь идет не только о создании онтологической картины объекта изучения; нужно создать принципиально новый тип науки, которая бы соединяла моменты искусственного конструктивного нормирования и социального управления с традиционными естественнонаучными подходами и представлениями. С такой постановкой задач теснейшим образом связаны современные дискуссии о природе языковедческих универсалий. Но чтобы решить эти задачи, нужно кардинальным образом перестроить традиционные представления и понятия о «речевой деятельности», «речи» и «языке». По сути дела нужно так построить понятия «речи-языка», «знака» и «знаковой системы», чтобы стало возможным исследование «речи» как знаковой системы в виде идеального объекта. 2. Дискуссии 50-х годов о знаковой природе языка были малопродуктивными, ибо исходили из слишком упрощенных представлений о знаке и знаковых системах. Естественно поэтому, что все утверждения о том, что речь-язык есть знаковая система, не могли быть эмпирически подтверждены, ибо не имели соответствующих и специфических процедур обработки эмпирического материала. Но и противоположные утверждения, что речь-язык не является знаковой системой, доказывали лишь то, что реальность речи и языка не похожа на те вульгарные представления о знаке и знаковой системе, которыми в то время широко пользовались. Вопрос должен быть поставлен иначе: сами понятия знака и знаковой системы должны быть построены так, чтобы в них был дан идеальный объект для речи-языка и чтобы речь-язык можно было изучать как знаковую систему особого рода. Это значит, что понятия «языка», «знака» и «знаковой системы» должны быть подвергнуты одновременному сопоставительному анализу и обсуждению. 3. Соссюровское разделение речи и языка не дало действительного теоретического решения, а лишь эмпирически более точно поставило проблемы. Реальное различие двух разнородных элементов речевой деятельности не может вызывать сомнений и возражений. Но оно еще должно быть теоретически объяснено в рамках того идеального объекта, который предстоит сконструировать. В дискуссии 1957 г. столкнулись два подхода при объяснении природы и статуса языка: формально-онтологический и гносеологический. Во втором подходе язык выступал лишь как знание или, в лучшем случае, как «предмет изучения», выделяющий в речи «языковой аспект». Представители первого подхода настаивали на том, что язык должен иметь реальный и объективный статус. Но тогда приходилось либо сводить язык к грамматикам языков, либо же рассматривать его погруженным в речь. С нашей сегодняшней точки зрения гносеологический подход, который мы защищали в 1957 г., при многих своих преимуществах был неправомерным, ибо не учитывал деятельностной, социальной и «искусственной» природы языка. А если учесть специфику объектов такого рода, то два по видимости противоположных определения языка: 1) как знания и 2) как реальности — оказываются совместимыми и даже необходимо дополняющими друг друга. В структуре деятельности язык выступает в роли системы средств, обеспечивающих воспроизводство и трансляцию речевой деятельности. Одновременно эти средства являются знаниями об определенных сторонах продуктов речевой деятельности — текстов. В целом «язык» оказывается элементом сложного структурного объекта, а значит, может анализироваться и быть понят только как элемент этой структуры. 4. Подход к «речи-языку» как к знаковой системе по сути своей направлен на выявление указанных выше структур деятельности, но является весьма частичной и недостаточно отрефлектированной попыткой. Сегодня между семиотическим и теоретико-деятельностным подходами сохраняется разрыв, хотя специальные исследования по семиотике показывают, что ни знак как таковой, ни знаковые системы не могут быть поняты вне анализа социальной человеческой деятельности и механизмов ее воспроизводства. 5. В настоящее время можно считать уже общепризнанным положение о том, что суть знака составляют его значения. Вместе с тем потерпели крах все попытки субстанциалистской трактовки значения и все шире распространяется взгляд, что значения есть не что иное, как формы употребления материала знаков. Но, несмотря на это, в большинстве работ знак по-прежнему рассматривается как объект, стоящий в отношении обозначения к другим объектам. И хотя отношение здесь фиксируется в качестве конституирующего элемента знака, оно рассматривается как нечто побочное, лишь придающее знаку определенное свойство. По сути дела все равно происходит сведение знака к его материалу. В этом заключен важнейший парадокс современных семиотических исследований. Человечество уже пришло к изучению объектов принципиально нового типа — «употреблений» материала, или деятельности, но по-прежнему пользуется старыми категориями вещи, неадекватными новым объектам. В этом плане представление о знаке как находящемся в отношении обозначения к объектам, прогрессивное еще 20 лет назад, сегодня стало неадекватным и даже вредным. Чтобы понять знак, нужно рассматривать его не в отнесении к объектам, а в отношении к деятельности, элементом которой он является и благодаря которой он получает смысл и значение. Это утверждение не отрицает факта отнесенности знаков к объектам и того, что они обозначают объекты; но эти отношения создаются деятельностью, являются продуктами и элементами деятельности и могут быть поняты только с этой точки зрения. 6. Другая трудность в изучении знака состоит в том, что он является средоточием многих разнородных отношений и связей, объединяет в одну целостную систему элементы разного рода и сам, следовательно, существует только на пересечении этих разнородных отношений. Общеизвестно и часто фиксируется, что знак существует в своем качестве знака лишь благодаря тому, что люди относятся к нему как к знаку, благодаря тому, что они понимают его как знак и приписывают ему определенный смысл. Знак, следовательно, оказывается включенным в сферу человеческого сознания и вне ее, казалось бы, не может оставаться таковым. С другой стороны, столь же признанно, что условием понимания знака и отношения к нему как к знаку являются системы культуры и, в частности, те или иные системы грамматик. Общность систем грамматик является непременным условием адекватного понимания знаковых текстов разными людьми. Таким образом, знак как таковой существует лишь постольку, поскольку существует понимающее его сознание и обеспечивающие это понимание системы культурных средств. Но, сказав это, мы фактически оказываемся приведенными к вопросу, что же представляет собой это существование знака. Как правило, мы стремимся мыслить его по аналогии с существованием других вещей нашего обихода — столов и стульев, хотя уже достаточно очевидно, что знак имеет какое-то принципиально иное существование — в деятельности, социальное, собственно знаковое. Эти формы существования мы и должны прежде всего определить, причем определить в категориальном плане, чтобы иметь возможность обсуждать, что такое знак, знаковая система и речь-знак как знаковая система. Формулируя это в виде собственно научных задач, мы должны сказать, что нужно определить вид и форму существования знака как объекта принципиально нового, особого типа и найти особые графические средства для изображения и моделирования особой сущности таких объектов. В качестве таких средств предлагаются средства системно-структурных изображений. В настоящее время создание и обработка категорий системно-структурного исследования представляет одну из важнейших задач всей науки. Суррогаты этих категорий, широко используемые сейчас в разных науках, неудовлетворительны; но в языкознании они употребляются больше всего и, наверное, самым неточным образом. Поэтому одна из важнейших задач развития языкознания в ближайшем будущем — детальное и тщательное обсуждение принципов и методов системно-структурного и структурно-функционального анализа. 7. Поскольку знак выступает как средоточие многих разнородных связей и отношений и является по сути дела связкой этих связей и отношений на одном материальном носителе, важнейшей методологической проблемой становится определение порядка выделения и исследования этих связей и отношений в зависимости друг от друга. Иными словами, нужно определить весь набор и строение предметов исследования, которые могут и должны быть созданы на таком объекте, каким является знак. 8. По традиции систему знаков понимают обычно как конструктивную организацию из отдельных знаков; иными словами, знаковая система в современном смысле — это совокупность знаков-атомов. В противоположность этому мы считаем, что определить знаковую систему значит задать всю ту совокупность отношений и связей внутри человеческой социальной деятельности, которые превращают ее, с одной стороны, в особую «организованность» внутри деятельности, а с другой стороны — в органическую целостность и особый организм внутри социального целого. Именно на этом пути мы впервые получаем возможность соединить развитые в лингвистике представления о речевой деятельности, речи и языке с семиотическими понятиями знака и знаковой системы. Иными словами, главное в исследовании знаковых систем — не «внутренние» связи между знаками, а «внешние» связи знаковой системы с другими составляющими социального целого. Уже затем «внутренние» связи должны быть введены в соответствии с «внешними». В этом плане знаковая система должна рассматриваться как удовлетворяющая (1) теоретико-деятельностному принципу структурного противопоставления средств, процессов и продуктов, (2) социологическому принципу структурного противопоставления «нормы» и «социального объекта» как реализации нормы, (3) социально-психологическому принципу формирования сознания индивидов путем усвоения средств и норм культуры. Подобный подход к знаковым системам и речи-языку как к знаковой системе особого рода представляется нам наиболее перспективным именно потому, что он включает речь-язык в широкую систему социальных явлений и позволяет рассматривать все одновременно в двух планах — как естественно развивающееся социальное явление и как искусственно конструируемое и нормируемое социальное образование. На этом пути мы можем надеяться определить как специфику социального объекта изучения, так и специфику изучающей его науки. Чтобы определить внутреннюю структуру знаковых систем вообще и речи-языка как особой знаковой системы, мы должны рассматривать их сквозь призму основных процессов, протекающих в социальном целом: 1) воспроизводства и трансляции, 2) функционирования и 3) развития. 9. Многообразие средств деятельности, каналов трансляции, обеспечивающих воспроизводство, и норм культуры ставит перед нами в качестве важнейшего вопрос о взаимодействии и соединении различных средств при создании тех или иных продуктов деятельности, в частности, речевых текстов. Определение статуса языковых грамматик и языка невозможно без учета этого многообразия средств и их взаимодействия в деятельности. При этом обнаруживается, что если сохранять соссюровское противопоставление речи и языка внутри речевой деятельности, то «язык» не может быть знаковой системой, а является системой знаний (тот факт, что эти знания тоже выражаются в знаках, не имеет никакого значения). В этом плане «язык» как выраженный в системах грамматик оказывается сопоставимым с «мышлением» как выраженным в системах логики (логического синтаксиса). Если же пытаться определять «язык» как знаковую систему, то придется ввести принципиально новый структурный объект и определять его искусственно, как бы внутри заданной таким образом системы: язык — это речевые тексты, нормируемые в одном из своих аспектов системами семиотических знаний. Здесь отчетливо выступает различие между знаковым существованием речи и языка и знаковым нормированием «речи-языка» как особой социальной системы. Становится ясным, что современные попытки построить теорию «речи-языка» как знаковой системы связаны с новыми направлениями проектирования и нормирования «речи-языка» как социального образования. 10. Эти результаты ставят перед нами вопрос об отношении традиционного объекта лингвистики и объекта языкознания как семиотической дисциплины. Решение его невозможно, по-видимому, без учета развития рефлексивных отношений в современном познании и проектировании и без учета различий в непрерывно сменяющихся позициях человека как исследователя и проектировщика. Смысл и значение[243] I. Введение в проблему: лингвистический и семиотический подход в семантике1. Специальный методологический анализ развитых естественных наук показывает, что работа в них характеризуется постоянным вниманием и интересом не только к объекту изучения, но и к тем средствам анализа, которые дают возможность этот объект «ухватить» и воспроизвести в знании [1958 а*; 1964 а*, {с. 157–165}]. В силу этого мысль исследователя поляризуется и как бы фокусируется в двух разных «точках» — на объекте, фиксированном в знании, и на понятии, которое задает схему знания и реализуется в ней. В абстрактном плане этот тезис принимается как достаточно очевидный. И точно так же не вызывает особых затруднений чисто теоретическое различение и противопоставление объекта изучения и средств анализа. Но в реальной практике работы исследователь всегда имеет дело не с объектами изучения как таковыми и не со средствами их анализа в чистом виде, а с конкретными знаниями, фиксирующими то или иное объективное содержание, и в знании эти два аспекта — аспект объекта и аспект средств — не просто теснейшим образом связаны между собой, а можно даже сказать — склеены, существуют как нечто одно, и разделить их как в вопросах, так и в ответах очень трудно, а без специальной техники анализа и просто невозможно. Поэтому в развитых естественных науках противопоставление объектов изучения и средств анализа может существовать и существует только благодаря сложной иерархированной организации этих наук {1964 а*, {с. 157–170, 172–179, 187–195}; 1965 b; 1968е; 1966а, {с. 211–227}; Пробл. иссл. структуры… с. 116–189] и специальной логической культуре самих исследователей. 2. Склеенность и неразделенность аспектов объекта и аспектов средств, характеризующая знание, отчетливо проявляется и в языковедении. Когда, к примеру, мы спрашиваем, что представляет собой лексическая система того или иного языка, каковы лексические значения одной или другой группы слов и как эти значения относятся к смыслу этих же слов в тексте, то это всегда вопросы не только по поводу объекта — каков он есть, но вместе с тем и вопросы по поводу используемых нами средств-понятий — что они собой представляют и могут ли они употребляться в анализе и описании этих объектов. Можно сказать, что в каждом из подобных вопросов содержится, по сути дела, два разных вопроса: один относится к этой лексической системе, а другой — к понятию лексической системы, один — к значению этого слова, а другой — к понятиям значения и смысла, ибо в языковедческом исследовании именно общие понятия значения, смысла, лексической системы и т. п. являются теми средствами, которые дают нам возможность получать конкретные лингвистические знания. Но эта двойственность всякого подобного вопроса и необходимых на него ответов отнюдь не всегда осознается и учитывается. Более того, на практике очень часто получается, что в своем стремлении «как можно скорее» познать и описать объект мы отодвигаем на второй план или вовсе не учитываем все, что касается наших собственных средств. Стремясь получить ответы на вопросы о строении лексической системы выбранного нами языка или лексическом значении определенного слова, мы мало размышляем над тем, откуда взялись сами понятия «лексическая система», «значение» и «лексическое значение», каково их содержание и непременная категориальная форма, забывая, что именно эти моменты предопределили наши вопросы в отношении изучаемых объектов и характер возможных на них ответов. В итоге мы слишком часто обращаем наши вопросы непосредственно на объекты, в то время как их нужно было бы сначала направить на наши средства, на используемые нами понятия и лишь после этого обратиться к испытаниям самих объектов. 3. Другая типичная ошибка, обусловленная той же самой наивно-онтологической ориентацией, состоит в том, что даже свои обращения к средствам, к чистым понятийным конструкциям, когда такое случается, мы часто осознаем и трактуем как эмпирическое изучение объекта. Очень характерен в этом плане упрек, брошенный Л. Вайсгербером в адрес традиционной семантики: она, по его мнению, изучала изменения значений отдельных слов, но не изучала значения как такового [WeiSgerber, 1930, с. 18–19]. Само по себе это — неоспоримое суждение, и оно заставляет задуматься, но выводы из него должны быть, на наш взгляд, значительно более радикальными, нежели те, которые сделал Л. Вайсгербер (во всяком случае в методологическом плане): если мы в определенной ситуации «изучаем» изменения значений отдельных слов, то не можем «изучать» значение вообще, значение как таковое; последнее выступает в этой ситуации как общий шаблон, как средство, которое нужно нам, чтобы единообразным способом организовать изучение значений отдельных слов (и именно в этой функции должно осознаваться и присваиваться исследователем). Если же ставить вопрос о происхождении подобных «общих шаблонов» и средств исследования, то придется сказать, что чаще всего они возникают в качестве методологических схем млн методологических понятий, создаваемых нами в совсем ином слое мыслительной работы и по иным логическим нормам, нежели те, которые характерны для описания конкретных значений. В ряде работ мы обсуждали, используя разнообразный материал, различные аспекты отношения между «знанием» и «методологической схемой», превращающейся в «понятие-средство»: в уже названной выше работе [1958 а*} было показано, как ситуация парадокса, т. е. противоречия между двумя знаниями об одном и том же объекте, заставляет исследователя обращаться к понятиям, на основе которых были получены эти знания, и трансформировать их таким образом, чтобы снять и преодолеть зафиксированную парадоксальность; в работе [1966а*} мы рассматривали, с одной стороны, условия образования собственно методических положений и инженерных средств (см. также [Разин, 1967 b, с. 78–92]), а с другой стороны — условия и механизмы инженерной и естественнонаучной объективации этих средств (во многих случаях связанные также с «оестествлением», или «натурализацией» соответствующих предметов мысли); наконец, в работе [1967 d] были проанализированы связи методических средств с научными и историческими знаниями в системе кооперации методологической работы.[244] 4. Столь резкое и бескомпромиссное противопоставление знаний, всегда отнесенных к тем или иным объектам (конкретно-эмпирическим или идеальным), и средств исследования, в частности методологических схем, организующих нашу исследовательскую деятельность, но не имеющих непосредственной связи с объектами изучения, с необходимостью приводит к вопросу: за счет каких мыслительных процедур получаются или вырабатываются эти средства, методологические схемы и относящиеся к ним методологические знания, например в языковедении, и каким образом обеспечивается их познавательная мощь и эффективность. Если оставаться в рамках указанных выше ситуаций предметной исследовательской деятельности (ср. [1964 а*, {с. 163, 165–170}; Пробл. иссл. структуры… с. 116–173]), то ответ может быть только один: все эти схемы конструируются в языковедении соответственно их функции быть средствами получения знаний о конкретных рече-языковых явлениях. Следовательно, нельзя говорить, что методологические схемы, а дальше понятия, к примеру «смысл» и «значения», не связаны с эмпирическим материалом, характеризующим отдельные смыслы и значения; такое утверждение было бы неверным. Но точно так же нельзя говорить, что понятия «смысл» и «значение», выступающие в этой ситуации в роли средств, позволяющих строить конкретные знания об отдельных смыслах и значениях, получаются путем абстрагирования или обобщения чего-то заключенного в эмпирическом материале, характеризующем эти смыслы и значения. Связь схем и понятий «смысл» и «значение» с этим материалом является телеологической, она подобна той связи с материалом, которая имеется у всех орудий: колесо является круглым не потому, что оно выражает свойство, абстрагированное у какого-либо предмета, а для того, чтобы оно могло катиться по дороге. И точно таким же образом детерминируются свойства всех инженерных конструкций; вопрос «почему» является для них вторичным, а главными и определяющими являются вопросы «зачем» и «для чего». Именно в этом плане мы можем говорить, что методологические понятия «смысл» и «значение» являются конструктами, что они нами конструируются в соответствии с их функцией в познавательной деятельности. 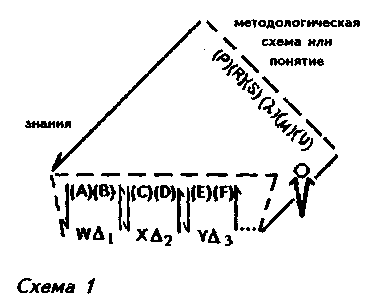 В наглядной форме это отношение между методологическими схемами, знаниями и эмпирическим материалом, характеризующим жизнь отдельных значений, представлено на схеме 1. Самым важным здесь является то, что знания о конкретных смыслах или значениях определяются не только и не столько эмпирическим материалом лингвистики, сколько методологическими схемами анализа этого материала: можно сказать, что эти схемы-средства (а дальше понятия) «смысл» и «значение» управляют образованием знаний о конкретных смыслах и значениях. 5. Другим не менее важным моментом является то, что изучение и описание конкретных смыслов и значений на базе и с помощью методологических схем (а затем понятий) «смысл» и «значение» само по себе не делает и не может сделать каких-либо вкладов в развитие и совершенствование самих этих схем и понятий. Единственное, чего мы здесь можем достичь, это опровержения используемых нами схем и понятий, если значительная часть наших конкретных описаний окажется неудовлетворительной и если к тому же мы сами будем настолько прозорливыми, что увидим за этим неудовлетворительность используемых нами средств (ср. [1958 а*, (с. 582–589}]).[245] Именно в этой (и именно таким образом понимаемой) ситуации в полной мере действует принцип фальсификации К. Поппера (см. [Popper, 1959], а также [Criticism… 1970; Лакатос, 1967]). Но нам сейчас важен другой поворот, другое, чуть ли не обратное употребление этого принципа: что бы мы ни делали в анализе конкретных смыслов и значений (повторяем, именно в такой упрощенной ситуации), это ровно ничего не прибавит к нашим понятиям «смысл» и «значение». 6. Все сказанное выше ни в коем случае нельзя понимать так, что конструктивное происхождение понятий «смысл» и «значение» обрекает их и дальше всегда быть безобъектными и совершенно исключает возможность собственно научного изучения смысла и значения вообще и их эмпирического изучения в частности. Утверждается лишь, что смысл вообще и значение вообще не могут выявляться и изучаться на том самом эмпирическом материале и в той самой действительности, в которой существуют и изучаются отдельные конкретные смыслы и значения. Нельзя забывать, что понятие средства является функциональным и характеризует лишь способ существования каких-то содержательных выражений в более широкой системе. Поэтому понятия «смысл» и «значение» могут рассматриваться в качестве средств анализа лишь в отношении к конкретным смыслам и значениям, и точно так же лишь на этом этапе конструктивного порождения их содержание задается употреблениями их как средств, т. е. инструментальным отношением к эмпирическому материалу и к знаниям, характеризующим конкретные смыслы и значения. Но затем, когда понятия «смысл» и «значение» уже созданы как методологические схемы, когда они начинают употребляться и в связи с этим употреблением конструктивно развертываются в логике средств описания конкретных смыслов и значений, неизбежно встает вопрос об их онтологическом статусе, о форме и способе объектного существования того содержания, которое в них зафиксировано и непрерывно подтверждается и умножается в каждом новом употреблении схемы или понятия при образовании знания. Так, к примеру, «скорость движения тела» первоначально — лишь отношение численных значений пути и времени, средство сравнить между собой два движения, совершавшихся в разных местах и в разное время (см, [1958 а*]), но затем мы ставим вопрос, в чем сущность «скорости», что именно в объекте она фиксирует и выражает. И точно так же «масса тела» возникает первоначально как отношение численных значений силы и ускорения тела, вызванного действием этой силы, как средство сравнения «сопротивления» разных тел действию силы, но затем мы ставим вопрос об объективной сущности этой характеристики и находим ее в таком свойстве тел, как их «инерциальность» (см. [Мах, 1909; Овчинников, 1957; Джеммер, 1967, с. 56–65]). Но нечто подобное происходит и со всеми другими средствами-понятиями: эффективное употребление их в какой-то определенной предметной области вызывает соблазн — и он вполне оправдывается успехами существующих наук — объективировать их, сделать моделями, найти или на худой конец сконструировать для них идеальные объекты и этим объектам приписать «естественные» (или «псевдоестественные») законы жизни, чтобы они могли существовать подобно эмпирическим объектам нашей практики, и таким образом превратить методологические схемы и предписания в описания и тем самым в знания (в прямом и точном смысле этого слова). И если это удалось сделать естественным наукам с понятиями «движение», «работа», «теплота», «энергия» и т. д., то почему, спрашивается, нельзя надеяться на успех этой же процедуры с понятиями «смысл» и «значение». Важно только уяснить, что этими объектами будут идеальные объекты и их действительность первоначально будет лежать совсем в ином плане, нежели действительность конкретных смыслов и значений — на нашей схеме (схема 2) она лежит перпендикулярно к последней — и эта новая действительность потребует для своего описания совсем особого научного предмета (ср. [1969 b, с. 84–92]), характеризующегося среди прочего также и своим особым эмпирическим материалом. 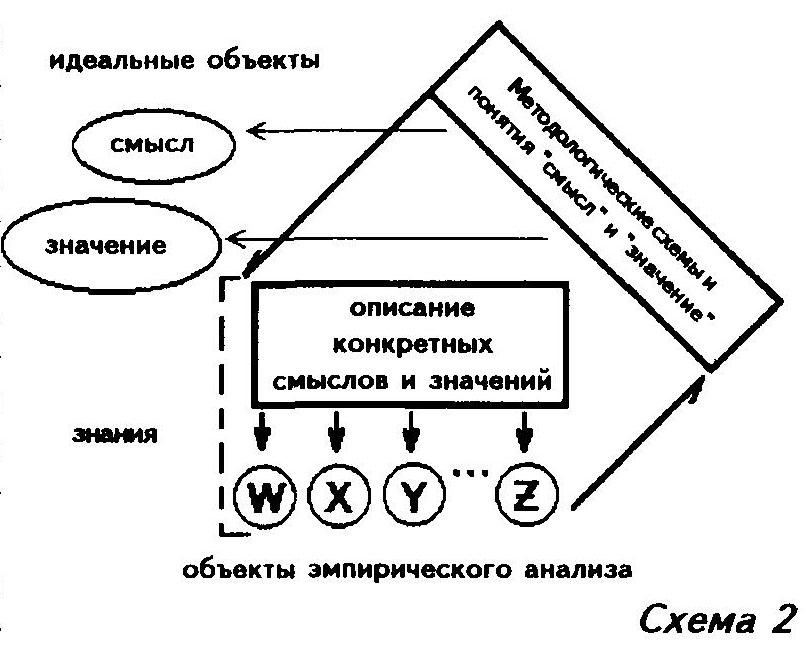 7. В этом месте мы подошли к одному из наших важнейших утверждений. Задание особой идеальной действительности, в которой существуют смыслы и значения вообще, конструирование модельных изображений этих сущностей, трактуемых теперь в качестве объектов особого рода, установка на эмпирическую проверку этих изображений, а значит, и на исследование самих этих объектов — все это, как и в других областях инженерии и науки, приводит к тому, что средства языковедческого анализа конкретных смыслов и значений выделяются из исходного языковедческого предмета и начинают развертываться (теперь уже как знания) в рамках другого (методологического или собственно научного) предмета. Непосредственным стимулом к выделению и оформлению новых предметов такого рода служат «метафизические» вопросы: что такое смысл вообще и что такое значение вообще, где и по каким законам они существуют, — к ним в конце концов приводит всякое языковедческое изучение семантики различных языков независимо от рамок выбранной концепции. Но так как все эти вопросы встают непосредственно в контексте лексикографического и синтаксического анализа и ответы на них, как представляется, могли бы оказать существенную помощь в организации и проведении этой работы, то обычно не выделяют того момента, что по своему характеру эти вопросы таковы, что выталкивают исследование, отвечающее на них, далеко за пределы не только лексикографии, лексикологии и синтаксиса, но и вообще за пределы лингвистики. Но положение именно таково: все эти вопросы могут быть поставлены в рамках традиционной языковедческой, и в частности лексикографической или синтаксической, работы, и они там были поставлены, но получить на них ответ в предмете лингвистики в принципе невозможно; Для этого нужна другая дисциплина, с иным подходом к предмету, с иными средствами и методами анализа. Так в области того, что традиционно называлось «семантикой», появляются две существенно разные дисциплины — «лингвистическая семантика» и «семиотическая семантика», — которые жестко разделены между собой если не китайской стеной, то, во всяком случае, весьма отчетливой границей, и всякий переход через эту границу должен четко фиксироваться и осознаваться, ибо жизнь и работа каждой из этих дисциплин требуют своих особых средств и особых методов.[246] И до тех пор, пока это не будет понято, нам не удастся организовать эффективных разработок, отвечающих на вопросы общего порядка: что такое «смысл», «значение», «знак», каковы основные типы значений, как они функционируют в речевой деятельности людей и каким законам подчинено их развитие. Именно по этому пути разделения и иерархизации своих научных дисциплин идет сейчас или, во всяком случае, пытается идти наука о речи-языке. Но ее развитие затрудняется и во многом сковывается тем, что в идеологии и методологии самого языковедения до сих пор не было выработано и не сформировалось отчетливого понимания различия между действительностью знаний и действительностью средств-понятий. До сих пор ведущие лингвисты — как теоретики, так и методологи — не понимают и не хотят признать того, что если мы хотим строго научно исследовать системы лексических значений различных языков, если мы хотим разделить, к примеру, семантические и синтаксические компоненты лексических значений, если мы хотим провести какой угодно анализ смысла или значения какого-либо слова, то во всех этих случаях должны предварительно сконструировать — именно сконструировать, а не исследовать — методологические схемы и понятия «смысл», «значение», «семантическое значение» и т. п., а это значит также (и притом в первую очередь) построить и задать те онтологические картины и модели, в рамках которых могут быть развернуты эти схемы и понятия. Именно этой установкой, осознанной и возведенной в принцип, отличается наш подход к проблеме смысла и значения; если в других семиотических и собственно лингвистических работах ставится задача исследовать на эмпирическом материале разнообразные лексические и синтактико-морфологические значения, то мы, наоборот, подчеркиваем необходимость предварительно сконструировать понятия смысла и значения, причем сконструировать их так, чтобы они могли служить средствами при анализе и описании конкретных смыслов и значений, а из этого следует, что на передний план мы выдвигаем саму конструктивную процедуру, составляющую ядро научного исследования, и настаиваем на правильном и последовательном осуществлении ее.[247] II. Две ориентации в анализе смысла и значений знаковых выражений — «натуралистическая» и «деятельностная»1. Изложенная выше установка, критическая и весьма радикальная по отношению к языковедческой традиции, не является чем-то совершенно новым для философии и логики. «Логос» Аристотеля, «лекта» стоиков, «интенции» и «суппозиции» средневековых схоластов, «концепт» Абеляра и «понятие» Гегеля — все это, по сути дела, разные попытки ввести ту идеальную действительность, в которой могли бы существовать, изменяться и преобразовываться «смыслы» и «значения». И позднее многие исследователи, в рамках этих действительностей и вне их, пытались создать такую рациональную конструкцию «смысла» и «значений», которая представила бы их в виде особых идеальных объектов и позволила бы нам изучать их строго научно. Но ни одному из них (в том числе Г. Фреге, Д. Гильберту и Ч. Моррису) не удалось решить этой проблемы, и поэтому до сих пор ни в логике, ни в эпистемологии, ни в семиотике не существует понятий смысла и значения, несмотря на то, что все признают их исключительную важность и даже ключевую роль во всех названных дисциплинах (ср. [WeiSgerber, 1930, с. 43]).[248] 2. Такой результат вряд ли можно считать случайным. Но если он, наоборот, закономерен, нужно перевернуть всю проблему и искать основные причины и источники столь устойчивых, постоянно повторяющихся злоключений анализа, нужно найти тот слой мыслительных средств, которые их вызывают и изменение которых, напротив, могло бы сдвинуть дело с мертвой точки. На наш взгляд, эта причина и источник заключены прежде всего в бедности того категориального аппарата, с которым мы подходим к исследованию знаков. А она, в свою очередь, обусловлена той онтологией и теми формами видения мира, которые принято называть «натурализмом», и недостаточной разработанностью альтернативной, «деятельностной» картины мира. В других словах, основной недостаток всех предложенных до сих пор подходов в исследовании знаков (в частности, их смыслов, значений, значимостей и «содержаний») заключается, по нашему убеждению, в том, что не учитывается принципиальное отличие их как объектов и предметов изучения от всех других предметов, в исследовании которых естественные науки достигли к настоящему времени известных успехов; в результате все существующие концепции знака и речи-языка как знаковой системы дают недопустимо переупрощенное представление о них и делают невозможной разработку новых эффективных методов исследования. 3. В частности, во всех теоретических подходах к знаку до сих пор совершенно отсутствовал анализ конструктивно-нормативной работы, порожденной специфическими условиями и механизмами воспроизводства деятельности, и ее влияния на различные аспекты существования знака.[249] Этот момент может казаться удивительным, так как в самом языковедении конструктивно-нормативная работа всегда преобладала над другими. Но такова уж сила теоретических предрассудков: гипноз естественнонаучного подхода, возобладавшего с начала XIX столетия, с его представлениями объекта изучения как объекта созерцания и общим невниманием к процессам и механизмам деятельности,[250] заставлял и заставляет языковедов закрывать глаза на практику собственной работы, на то бесспорное обстоятельство, что они сами строят и преобразуют язык, стремясь управлять его развитием (см. [1969 b]). 4. Одним из существенных следствий неуместного употребления «натуралистической идеологии» в лингвистике, логике и семиотике явилось смешение «значений» либо со «смыслами» знаковых выражений (и далее — с их психологическими производными), либо с «содержаниями» знаний, зафиксированных в знаковых выражениях, — с означаемыми, денотатами, десигнатами, операциями и т. п. Напротив, анализ разных видов деятельности, внутри которых создается и живет язык, в том числе конструктивных видов деятельности, впервые дает основание для анализа знаков объективными методами и позволяет различить и четко определить их «смыслы» и «значения», противопоставив их «содержаниям» знаний. III. Структура знака с деятельностной точки зрения — смыслы, значения, знания Понимание сообщения и смысл1. Рассмотреть «смыслы» и «значения» с деятельностной точки зрения — это значит, прежде всего, ввести и изобразить в соответствующих схемах такие системы деятельности (или системы, принадлежащие к деятельности), относительно которых «смыслы» и «значения» являются элементами и частичными организованностями; это даст возможность выводить затем функции и основные характеристики строения этих элементов, исходя из наших представлений о процессах и механизмах функционирования и развития систем деятельности. Действуя согласно этому принципу, предположим на первом этапе анализа, что для «смысла» такой системой, принадлежащей к деятельности, является система акта коммуникаций (схема 3), включающая: (1) действия первого индивида в некоторой «практической» ситуации, (2) целевую установку, делающую необходимой передачу определенного сообщения второму индивиду, (3) осмысление ситуации с точки зрения этой целевой установки и построение соответствующего высказывания-сообщения-текста, (4) передачу текста-сообщения второму индивиду, (5) понимание текста-сообщения вторым индивидом и воссоздание на основе этого некоторой ситуации возможного действования, (6) действия в воссоздаваемой ситуации, соответствующие исходным целевым установкам второго индивида и содержанию полученного им сообщения. 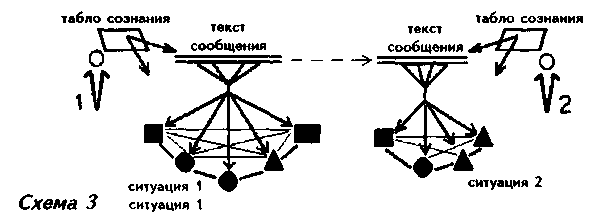 Все перечисленные моменты достаточно очевидны и вряд ли кто-нибудь скажет, что они не должны входить в акт коммуникации; другое дело — являются ли они основными в интересующем нас плане и дают ли достаточно полное представление об акте коммуникации в целом? Но вводимая нами схема и не претендует на это; она призвана лишь указать на рассматриваемую объектную область, примерно очертить ее границы, а сама система и структура акта коммуникации остаются пока открытыми и могут развертываться как интенсивно, так и экстенсивно. Для нас существенно лишь то, что пока эта схема не включает «смыслы» — ведь они не являются непосредственно фиксируемыми «со стороны» моментами акта коммуникации, — и, следовательно, мы должны будем проделать еще специальную работу, чтобы, исходя из уже перечисленных или вновь добавляемых моментов, ввести их изображения. При этом, естественно, нам придется затронуть и обсуждать вопрос, что есть «смысл» и как он существует в деятельности. 2. Обыденное употребление слов «понимает» и «смысл» наталкивает на то, чтобы определить «смысл» как то, что понимается нами при прочтении текста; и многие исследователи прямо переносят это представление из обихода в науку;[251] тогда оно мыслится в ряду подобных же определений: «то, что воспринимается», «то, что преобразуется», «то, что получается» и т. д., и «смысл» в силу этого выступает либо как предмет понимания, либо как его продукт. Однако такое определение «смысла», совершенно естественное, само собой разумеющееся и, как представляется, схватывающее суть, на деле оказывается мнимым: оно не имеет ни операционального, ни онтологического содержания. Это становится совершенно очевидным как только мы задаем вопрос: что же понято нами в том или ином тексте? Когда пытаются ответить на него, то строят новый текст или какое-либо изображение, которые должны выразить «то же самое», что было выражено в исходном тексте. И нам остается одно из двух: либо объявить эти вторичные тексты и изображения самим смыслом (игнорируя при этом совершенно очевидные соображения, показывающие, что это не так[252]), либо же признать «смысл» такой сущностью, которая может только пониматься и никогда не может быть представлена в специальных, моделирующих и понятийно фиксирующих ее знаниях. Эти затруднения, возникающие при попытках научно зафиксировать и описать «смысл» исходя из актов понимания, объясняются в первую очередь тем, что понимание как таковое не является продуктивной деятельностью и поэтому «смысл» не может рассматриваться и трактоваться по схеме предметов и продуктов понимания. Не снимает всех этих затруднений и попытка рассмотреть понимание как переход от текста к ситуации: ведь ситуацию, взятую в наборе ее основных вещественных элементов, никак нельзя считать продуктом понимания; и даже если предположить, что ситуация является мысленной и потому — идеальной, то все равно мы должны будем рассматривать ее как порождение мышления, а отнюдь не как порождение чистого понимания (см. [1973е*]). И точно так же, если определять процесс понимания как переход от ситуации к тексту, то опять-таки текст будет продуктом мышления и речевой деятельности, а не понимания как такового, хотя понимание, бесспорно, будет участвовать на каких-то ролях в образовании текста. Итак, «действительность» ситуации, которую мы восстанавливаем по тексту, является продуктом практической деятельности и мышления (вместе со всем тем, что в них входит и их обслуживает); эта «действительность» фиксируется в знаниях, вплетенных в деятельность, и может рассматриваться в качестве их содержания; более узко и более точно — эта действительность выступает в качестве «содержания» того знания, которое обеспечивает связь мышления с практической деятельностью и которое как бы снимает их в себе. Когда мы понимаем текст, то параллельно и одновременно мы мыслим и вырабатываем знания, которые переводят то, что мы понимаем, в форму «содержания»,[253] а затем, когда мы начинаем действовать, — в форму «действительности» нашей деятельности. Но из того, что мыслительная деятельность и понимание развертываются одновременно, параллельно и в тесной связи друг с другом, нельзя делать вывода, что они совпадают или что понимание производит то, что на деле является продуктом мыслительной деятельности; повторяем, понимание, пока оно не стало особым видом деятельности, непродуктивно и само по себе не порождает и не может породить «смыслы». Но тогда, спрашивается, что такое «смысл», как он получается (или создается) и как связан с актами понимания. 3. Основная гипотеза, которую мы выдвигаем, отвечая на эти вопросы, состоит в том, что на уровне «простой коммуникации»,[254] представленной на схеме 3, не существует никакого «смысла», отличного от самих процессов понимания, соотносящих и связывающих элементы текста-сообщения друг с другом и с элементами восстанавливаемой ситуации. То, что соотносится и связывается в процессе понимания, то и понимается; поэтому, характеризуя «простую коммуникацию», можно сказать, что мы понимаем какие-то элементы текста или текст в целом, можно сказать, что мы понимаем место и роль тех или иных элементов ситуации или же ситуацию в целом, но нельзя сказать, что мы понимаем смысл текста или смысл ситуации; все выражения такого рода для индивидов, объединяемых актом «простой коммуникации», либо являются неправильными, либо несут совершенно иное содержание. По сути дела то, что мы сказали, равносильно утверждению, что «смысла» не существует, а существуют лишь процессы понимания. И мы настаиваем на том, что это утверждение истинно, но не вообще (как это трактовалось бы при натуралистическом подходе), а только для мест, связанных «простым» актом коммуникации. В рамках деятельностного подхода, следовательно, сделанное нами утверждение по сути дела содержит в себе указание на то, что «смысл» появляется или должен появиться дальше — в более сложных системах деятельности и на каких-то других местах.[255] Таким местом, на наш взгляд, является место исследователя, находящегося вне исходного акта коммуникации и вынужденного каким-то образом оперировать с процессами понимания при структурном или морфологическом описании других моментов акта коммуникации — мышления, деятельности, речи, текстов, языка и т. п. (схема 4). И хотя ему в акте коммуникации противостоят процессы понимания и нет ничего такого, что мы привыкли понимать под словом «смысл», этот исследователь говорит именно о «смысле», а не о процессах понимания, ибо он вынужден (для того, чтобы решить стоящие перед ним исследовательские задачи) представить эти процессы соотнесения и связывания разных элементов текста друг с другом и с элементами ситуации в виде соотнесенности и связности этих элементов, в виде сети статических отношений между ними, в виде структуры. 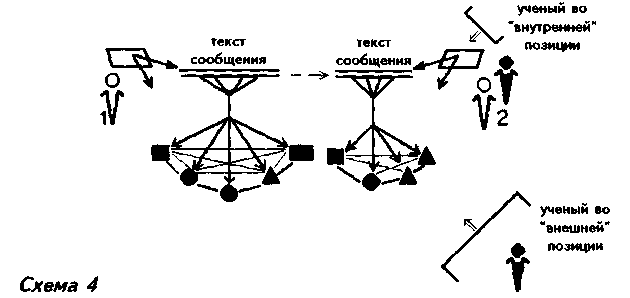 В методическом плане этот прием изображения и фиксации процессов отработан уже давно: когда античная физика столкнулась с проблемами описания и моделирования движения, то она обратилась прежде всего к «следам» этих движений; когда в контексте анализа этих «следов» были решены основные задачи соотнесения дискретных числовых характеристик с непрерывными графическими представлениями (см. [Аристотель, 1937 с]), появилась возможность фиксировать и изображать в виде линий и отрезков изменения любых параметров, характеризующих объекты, и на этой основе затем стала разрабатываться геометрия различных идеальных пространств. После этого продвижение в каждой содержательно-предметной области стало определяться в первую очередь успехами в разработке статических форм описания и фиксации характерных для этой области процессов.[256] 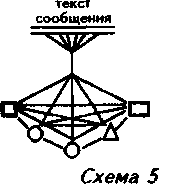 Следуя по этому же пути, исследователь актов коммуникации и, более узко, процессов понимания должен прежде всего выработать и ввести специальный язык для статической фиксации этих процессов. Здесь многое происходит подобно тому, как это происходило в естественных науках. Но есть и очень существенные отличия. Первое из них состоит в том, что сами процессы в акте коммуникации являются значительно более сложными, чем процессы в механическом движении, и это приводит к неимоверному усложнению самого языка описаний. Второе отличие связано с тем, что знания о деятельности и их содержание имеют в деятельности принципиально иное существование, нежели знания о природе, и это проявляется, в частности, в их отношении к своему объекту. Если, к примеру, в рамках натуралистического подхода, изобразив процессы понимания в структурных схемах, мы так бы и говорили, что это — изображения процессов понимания и их содержание не имеет никакого другого реального существования, кроме как в своем объекте, то в рамках деятельностного подхода, наоборот, мы должны сказать, что статические структурные изображения процессов понимания, созданные на определенном месте в системе кооперации, задают и фиксируют действительность совсем особого рода, которая, благодаря различию мест социальной кооперации, имеет свое собственное существование, отличное от существования процессов понимания.[257] Эта особая действительность, создаваемая исследователем при статической фиксации процессов понимания, и есть то, что называется «смыслом» (схема 5). 4. После того как структурное изображение процессов понимания сложилось и оформилось, оно начинает разнообразно употребляться — в разных отношениях к объекту и в разных позициях. Одно из этих употреблений — так называемая формальная онтологизация: структурная схема рассматривается как изображение самостоятельной структурной сущности, «смысла» как такового; при этом между изображением и тем, что изображается, устанавливается полное соответствие — и это совершенно естественно, ибо само изображаемое получилось путем простого удвоения изображения и приписывания одному из дубликатов статуса объективной сущности (ср. [1960 с*, 1-11; 1966 е; 1967 f; 1968 d]). Это употребление структурных схем приводит и к соответствующей трактовке самого «смысла»: он определяется как та конфигурация связей и отношений между разными элементами ситуации деятельности и коммуникации, которая создается или восстанавливается человеком, понимающим текст сообщения.[258] Весьма эффективные во многих практических и исследовательских ситуациях, эти определения, естественно, не годятся при исследовании процессов понимания; все, что может быть извлечено из них в отношении самого смысла, ограничивается формально-категориальными характеристиками использованных схем. Другие употребления этих схем предполагают уже четкое противопоставление и соотнесение статики «смысла» и кинетики понимания; во всех этих случаях понимание мыслится сквозь призму структуры «смысла», а «смысл» — сквозь призму процессов понимания, но конкретное представление того и другого зависит от того, какое из этих образований мы ставим во главу угла и каким образом соотносим и связываем одно с другим. Наиболее распространенный вариант решения этой проблемы заключается в том, что структурная схема онтологизируется уже в исходном пункте анализа и трактуется как выражение некоторых объективных, можно сказать «натуральных», условий процесса, а сам процесс привязывается затем к этим структурным схемам, как бы вписывается в них. Нередко структурные схемы такого рода рассматриваются как изображения каналов связи, по которым «текут» исследуемые процессы; в частности, на такой трактовке построены все современные системотехнические (кибернетические) концепции мышления и понимания (см. [Ньюэлл, Саймон, 1965; Гелернтер, Рочестер, 1965; Ньюэллидр., 1965], а также [1968 b; Дубровский, 1968]). Ясно, что при таком подходе отношения между реальными процессами в объекте и их изображениями в знании перевертываются на обратные — стратегия очень выгодная при реализации инженерно-конструктивных замыслов, но совершенно неприемлемая в научных исследованиях. Другой вариант решения этой проблемы зиждется на сознательном использовании приемов методологического мышления, в частности — приема многих знаний (см. [1964а*, {с. 155–178}; 1966 с*]). В этом случае мы с самого начала фиксируем принципиальное различие и расхождение между категориальными характеристиками используемых нами изображений и характеристиками того, что является объектом нашего анализа, но не отказываемся на этом основании от изображений, считая их необходимыми, а лишь располагаем то и другое как бы в один ряд и начинаем развертывать предмет изучения, работая сразу с несколькими разными изображениями и представлениями объекта; за счет этого появляются новые значительно более богатые возможности для анализа и конструирования. Методологические приемы мышления позволяют исследователю идти от описания процессов понимания к структурным схемам смысла и развивать последние в соответствии с характеристиками процессов; и эти же приемы позволяют ему идти от структур смысла к процессам понимания, членя и организуя последние соответственно возможностям структурных схем (см. [1973 е*; 1974 d]). Методы этих двусторонних исследований завершаются и оформляются в категории системы, устанавливающей необходимые формальные связи между описаниями процессов, функциональных структур, организованностей материала и морфологии сложных объектов (см. [1974 с*; Гущин и др., 1969]). Применение этой категории в исследовании интересующей нас области дает возможность объединить процессуальные характеристики понимания и структурные характеристики смысла в едином системном представлении актов понимания-осмысления [1974 d]. 5. Но кроме охарактеризованных таким образом употреблений схемы смысла и всех связанных с нею представлений во «внешних» исследовательских позициях возможны и существуют еще вторичные или неспецифические употребления их в позициях, заданных актом коммуникации.[259] При этом идет двойной процесс: с одной стороны, представления о смысле, выработанные во «внешних» позициях, изменяются, приспосабливаясь к особенностям деятельности и поведения на «внутренних» местах в акте коммуникации, с другой стороны, сама деятельность в этих «внутренних» позициях изменяется и перестраивается под влиянием этих представлений, задающих новое содержание и новую действительность. Если выше мы подчеркивали, что в «простом» акте коммуникации нет и не может быть «смысла» как такового, то теперь, рассматривая этот акт в кооперативной связи с более «высокими» исследовательскими позициями, мы можем сказать, что «смысл» там появляется, но не как таковой, а в форме особого представления, в форме знания о смысле, которое выступает в качестве средства, организующего процессы понимания. Теперь участники акта коммуникации могут понимать не только ситуацию и текст, но также «смысл ситуации» и «смысл текста», поскольку они знают об их существовании и знают, что «смысл» — это общая соотнесенность и связь всех относящихся к ситуации явлений. Позиции, объединяемые актом коммуникации, перестают быть «простыми» и непосредственными и превращаются в сложные, объединяющие в себе, по сути дела, ряд разных позиций (см. схему 4). Когда происходит передача представлений смысла из более «высоких» позиций в более «низкие», то сами эти представления, как мы уже отметили, деформируются и изменяются, приспосабливаясь к действительности этих позиций; при этом происходит очень своеобразное взаимодействие схем смысла и знаний о смысле с непосредственными процессами понимания текстов и процедурами выявления их содержания; одним из самых характерных результатов этого взаимодействия является фокусировка и как бы усечение структуры смысла на отдельных материальных узлах всей системы; при этом связи и отношения структуры переводятся в функциональные характеристики «захваченных» ею материальных элементов.[260] В силу этого и сам «смысл» в этих позициях представляется уже не в виде структуры, задающей всю ситуацию в целом, а в виде отдельных функциональных характеристик элементов ситуации, указывающих на их соотнесенность с другими элементами или на принадлежность к целому.[261] Именно это имеют в виду, когда говорят обычно, что текст сообщения осмыслен, что мы уловили смысл того или иного явления, что в нашем сознании появился соответствующий смысл и т. п. И в каком-то плане все эти употребления слова «смысл» оправданны, ибо в процессах понимания, оснащенных соответствующими представлениями и знаниями, действительно происходит фокусировка и центрация структуры смысла на отдельных материальных элементах, захваченных этой структурой. Но, с другой стороны, во всех подобных выражениях и оборотах проявляется характерное для обыденного сознания смешение разных категориальных слоев системного объекта; ведь во всех этих случаях речь идет уже не о структуре смысла в целом, а лишь о проекциях этой структуры на материал элементов, захваченных ею, следовательно, не о структуре смысла, а о смысловых организованностях текста, ситуации, сознания и т. п.; но эти различия являются уже весьма тонкими и обсуждение их должно быть вынесено за рамки этой статьи. «Языковая инженерия» и конструкции значений1. Чтобы теперь ввести в качестве особых сущностей «значения», трансформируем исходно заданную ситуацию общения и превратим ее в ситуацию трансляции (см. [1966 а*; 1967 а, g*; 1970; Генисаретский, 1970]), где главной является побочно сложившаяся связь между позициями 1 и 3 (схема 6). 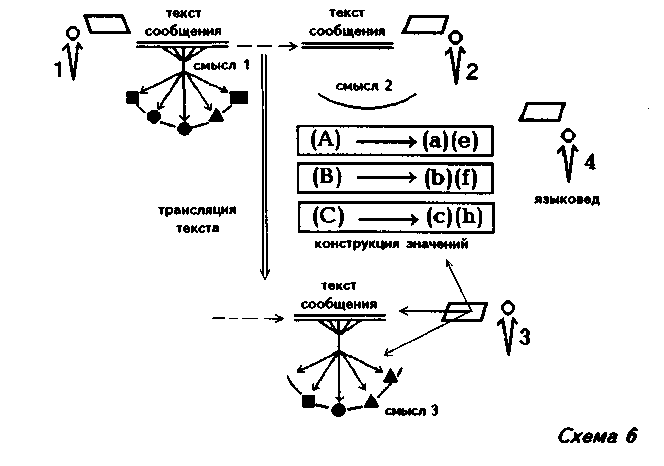 Предположим, что текст сообщения, направленного из позиции 1 в позицию 2, поступает в позицию 3 и здесь либо вообще не понимается, либо понимается неадекватно. Такое положение заставляет систему, обслуживающую процессы общения, создавать специальные знаковые конструкции, которые, будучи «вложенными» в индивида 3 (или «усвоенными» им), выступают в качестве дополнительных средств, обеспечивающих необходимое понимание текста сообщения. Эти конструкции, создаваемые инженерами-языковедами (позиция 4), мы и будем называть «значениями». Конструкции значений весьма разнообразны. Их характер и способ фиксации зависят прежде всего от того, (1) чем вызвано непонимание текста сообщения, (2) кто выступает в роли коммуниканта 3 — ребенок, еще не освоивший основных средств речевого мышления, студент, не овладевший чужим для него языком, или, скажем, ЭВМ, не имеющая необходимых программ анализа текстов, и, наконец, от того, (3) как организованы остальные элементы ситуации. Кроме того, существенное влияние на характер и форму фиксации значений оказывают методические и теоретические ответы на вопрос «что такое значение», вырабатываемые в аналитических и собственно исследовательских позициях, обслуживающих конструктивно-нормативную работу языковеда. Но во всех случаях конструкции значений выделяют, фиксируют и закрепляют те или иные из соотнесений и связываний, производимых процессами понимания текста (или текстов) сообщения. Иногда они выступают непосредственно в виде связок знаковых выражений с теми или иными элементами ситуации, — такое бывает при непосредственном обучении языку, — но чаще эти связки устанавливаются опосредованным путем — за счет связи одних знаковых выражений с другими. Например, конструкции значений «a table — стол» и «кислота — вещество, окрашивающее лакмус в красный цвет», несмотря на все свои логические различия, служат, по сути дела, для одного и того же — установления связи между именами и объектами (см. [1958 b*, VI, {с. 622–628}]).[262] 2. Конструкции значений, подобно всем другим знаковым выражениям, должны пониматься; в контексте нашего рассуждения это будут «вторичные понимания» и, соответственно, «вторичные смыслы» (схема 7); от «первичного понимания» и «первичного смысла» они отличаются прежде всего тем, что связаны с четко фиксированными, можно сказать, «искусственными» ситуациями деятельности и все объекты, включенные в них, выступают, по сути дела, в роли эталонов (см. [1967 е, с. 98–106]). 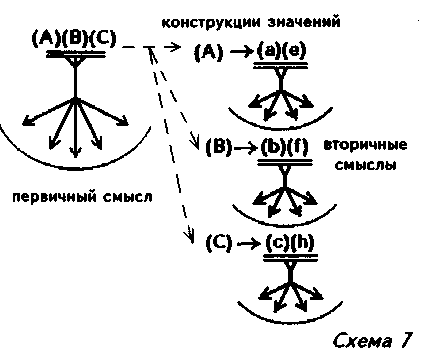 То обстоятельство, что конструкции значений, подобно исходным текстам сообщений, тоже понимаются (и осмысливаются), не меняет их отличия от смысла, существующего и устанавливаемого благодаря функциональному противопоставлению фиксированных, средств, обеспечивающих понимание, исходным текстам, включенным в естественно развертывающиеся, а потому всегда достаточно неопределенные ситуации общения и деятельности (см. схему 6). 3. Обращаясь к деятельности языковеда-инженера (позиция 4), нужно отметить, что в процессе ее он должен еще каким-то образом учитывать и совмещать позиции 2 и 3. Это значит, что он должен, во-первых, понимать смысл исходного сообщения так, как его понимает индивид 2, во-вторых, понимать (или не понимать) смысл этого сообщения так, как его понимает (не понимает) индивид 3, в-третьих, знать, почему индивид 3 понимает (не понимает) именно таким образом, и, наконец, в-четвертых, исходя из всего этого, он должен создать конструкции значений, которые бы позволили индивиду 3 адекватно понять исходное сообщение.[263] Проделывая всю эту работу, языковед-инженер представляет процессы понимания и одновременно то, что понимается, в совокупности создаваемых им конструкций значений. Если мы будем описывать все это из внешней исследовательской позиции, в которой разрешено пользоваться понятием смысла, то сможем сказать, что языковед-инженер сводит понимаемый им смысл исходных знаковых выражений и их элементов к создаваемым им конструкциям значений, что он выражает множество разных ситуативных смыслов через наборы специально выделенных элементарных значений и последующую организацию их в структуры.[264] Затем полученные таким образом конструкции значений и принципы соотнесения и совмещения их друг с другом используются получившими их индивидами (находящимися в позиции 3) в качестве «строительных лесов» при понимании разнообразных сообщений; опять-таки, если мы будем описывать все это, находясь во внешней исследовательской позиции, то должны будем сказать, что эти конструкции значений и принципы организации их в сложные структуры используются индивидами в качестве средств при выделении смысла сообщений или даже в качестве основных компонентов его; имея наборы определенных значений, эти индивиды сначала, если пользоваться неточным, но очень наглядным образом, как бы разлагают по ним смысл сообщений, а затем собирают из них этот смысл как композицию, приноравливаясь при этом к ситуации как к целому.[265] 4. Чтобы теперь завершить характеристику «языковой инженерии» и влияния ее продуктов на существование и функционирование знаков, нужно сделать еще одно замечание, касающееся схемы нашего рассуждения. Вводя исходную ситуацию коммуникации (см. схему 3), мы начали с предположения, что индивид 2 понимал сообщение как бы совсем без опоры на значения. Это неявное допущение было введено потому, что рассуждение нужно было начать, не предполагая изначального существования значений; но после того как значения введены, мы можем отказаться от исходного допущения и распространить полученную нами позицию 3 ретроспективно в историю. Таким путем, естественно, не может быть решена проблема происхождения значений, но сама процедура ретроспективного оборачивания соответствует принципам структурного описания исторических ситуаций: сначала логически вторичное рассматривается как не существующее в реальности, затем оно вводится, как правило телеологически, в модель объекта, и полученная таким образом более развернутая и более сложная система трактуется как единственно существующая в реальности (конструктивный вариант метода восхождения от абстрактного к конкретному [1958 b*; 1967а,с. 30–38; Зиновьев, 1954; Zinovev, 1958; Грушин, 1961]). «Первичные смыслы» и «значения» — две разные формы существования знака1. Хотя для индивида 3 конструкции значений в процессе понимания выступают по сути дела в качестве образцов элементов ситуативного смысла текстов, хотя этому индивиду часто кажется, что он собирает смысл из данных ему значений и потому значения просто дубликаты или копии смысла, тем не менее (и это становится очевидным, как только мы переходим в позицию внешнего исследователя) конструкции значений являются не дубликатами и не копиями смыслов, а прежде всего иными функциональными элементами того же целого, в которое на правах особых частей и элементов входят в процессы понимания исходного текста (или, если говорить на формальном языке внешнего исследователя, структуры первичного смысла). Иначе говоря, значения и смыслы (или процессы понимания) связаны между собой деятельностью понимающего человека и являются разным и компонентами этой деятельности. Но в силу этого они оказываются также разными компонентами самого знака (как определенной организованности деятельности). В этом плане конструкции значений являются не чем иным, как новыми элементами ситуации общения и деятельности, расширяющими поле понимания (или, соответственно, объективную структуру смысла), и как таковые они могут рассматриваться наряду со всеми другими элементами ситуации, охватываемыми структурой смысла. Но, кроме того, у конструкций значений есть свое, совершенно специфическое назначение, и это обстоятельство ставит их как элементы смыслового поля в особое отношение ко всем другим элементам. Это специфическое назначение конструкций значения, как мы выше выяснили, состоит в том, чтобы служить средствами понимания исходного текста, и поэтому они создаются как своеобразные дубликаты и особые формы фиксации отдельных отношений и связей, устанавливаемых процессом понимания и представляемых нами в структуре первичного смысла. Но это значит, что конструкции значений и связанные с ними вторичные смыслы создают для процессов понимания (а вместе с тем для элементов первичного смысла) вторую и особую форму существования; вместе с тем они создают новую и особую форму существования для самого знака (см. схему 6). Мы получаем возможность сказать, что смыслы и значения — разные компоненты знака, придающие ему вместе с тем разные способы и формы существования, соответственно — в синтагматике и в парадигматике, в социэтальных ситуациях и в культуре, в реализации и в нормах (см. [1964 h*; 1971 d, e, f; Соссюр, 1933, с. 121–127; Генисаретский, 1970]). 2. Соединение двух указанных выше характеристик конструкций значений: (1) лежат наряду со смыслами и являются другими функциональными компонентами структуры деятельности и знака, (2) выражают и фиксируют отдельные компоненты смыслов, придавая им второе и особое существование — позволяет рассматривать и трактовать связь между значениями и смыслами как совершенно особое отношение конструктивного замещения, или, как мы его называем, имитации. Изучение специфики имитации — специальная задача; она исключительно важна и актуальна как в общеметодологическом, так и в специально семиотическом плане; в частности, именно смешения отношений имитации с отношениями моделирования приводят в лингвистике и в семиотике к смешению смысла со значениями и к принципиально неправильной трактовке структуры знака (ср. [1971 d]). Знак как предмет знанияКонструктивный характер значений кардинальным образом меняет практическое и познавательное отношение человека к знаку. Если в акте коммуникации между индивидами 1 и 2 знаковое выражение, как мы предположили, могло лишь пониматься (что позволяет нам при определенных условиях говорить о «смысле» этого знакового выражения) и таким образом впервые появился знак как целостный объект, в единстве его необходимых компонентов — материала знаковой формы и смысла, если при попытках научного исследования и описания знаков исследователь должен был прежде всего понять данное знаковое выражение и у него не было никакого другого пути, чтобы сделать знак объектом деятельности и присвоить его себе (см. [1964 h*; 1971 с}), то появление конструкций значений, образующих второй план существования знака, его парадигматику, предполагает кроме того еще подлинно познавательное отношение к знаку, отношение к нему знания как такового, ибо конструкции значений являются продуктами сознательной инженерной деятельности и как таковые должны не только пониматься, но и обязательно быть знаемы. Инженерно-конструктивная деятельность всегда опирается на знания создаваемой конструкции или ее прообразов и, следовательно, всегда должна сопровождаться и обслуживаться аналитической, исследовательской деятельностью того или иного типа (позиции 5–8 на схеме 8). Даже более того, знание природы значений, как уже говорилось выше, является условием и предпосылкой инженерии значений: та или иная конструкция значений всегда определяется предваряющими ее ответами на вопрос, что представляет собой значение как таковое. И хотя сам по себе этот ответ не устраняет необходимости понимания конструкций значений людьми, использующими их в качестве средств своей деятельности (уже упоминавшееся «вторичное понимание»), благодаря ему значения знаков, а следовательно, и сам знак в целом получают еще одно дополнительное существование в знании и через знание, ни в коем случае не сводимое к существованию их в понимании и через понимание. С этого момента можно говорить о существовании знака как предмета знания. 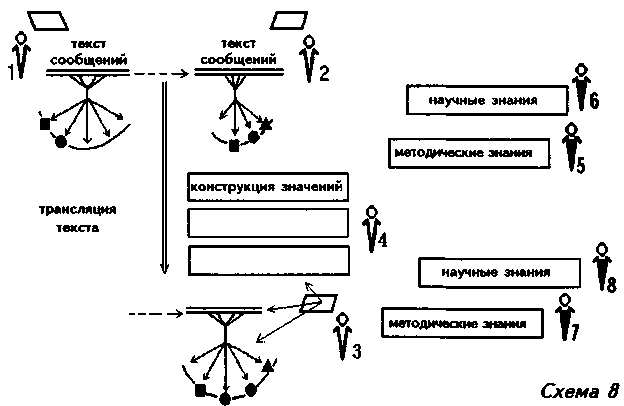 Но само знание, придающее знаку эту форму существования, а также функции знания еще должны быть теоретически введены и объяснены. Попробуем наметить план этой работы. Знания как компоненты и формы существования знака1. Благодаря деятельности языковедов-инженеров, создающих конструкции значений, знаки получают вторую сферу существования — парадигматическую. Синтагматические цепочки речи и конструкции значений, образующие парадигмы языка, связываются между собой деятельностью человека, осуществляющего речевое общение, но при этом они остаются существенно разными как по своим функциям, так и по внутренней организации, и ничто не делает составляющие их элементы и единицы одними и теми же или одинаковыми объектами, ничто не дает права говорить, что синтагматические цепочки и парадигматические организованности — лишь разные планы существования одних и тех же знаков, ибо таких объектов, как чего-то единого и лишь по-разному проявляющегося в синтагмах и парадигмах, пока нет. Каждая организованность знакового материала в какой-либо парадигме выражает нечто иное, нежели та же организованность знакового материала в какой-либо синтагматической цепочке, и в одной синтагматической цепочке — нечто иное, нежели в другой (несмотря на сходство или тождество самого знакового материала), ибо вокруг каждой цепочки создается свой особый смысл (ср. [1971 f]). Однако, если какие-то элементы синтагматических цепочек и парадигматические конструкции значений содержат одни и те же конструкции материала, мы рассматриваем их как разные манифестации одного и того же знака и, следовательно, и то и другое вместе, в конечном счете, — как один и единый знак в его разных проявлениях. Поэтому обсуждать здесь можно только одно: за счет каких специфических образований, за счет каких дополнительных средств деятельности достигается объединение и синтез всего этого (т. е. всех многообразных проявлений, существующих в огромном множестве разных синтагматических цепочек и в достаточно большом наборе разных парадигматических организованноcтей, отличающихся друг от друга как строением, так и условиями существования) в один и единый знак, что дает нам право и возможность собирать разные конструкции значений в одно целое и затем отождествлять полученную таким образом композицию с тем, что существует в контексте синтагматических цепочек. Этим средством является знание, обязательно сопровождающее всякую практическую, инженерную и собственно научную (теоретическую) деятельность человека. В соответствии со своими исконными функциями оно осуществляет обобщение и объединяет множество разрозненных и разных индивидуализированных явлений, событий и объектов в один предмет, в одну целостность (ср. [1971 g]). В нашем случае можно сказать, что это знание создает знак в единстве его синтагматических и парадигматических проявлений (например, слово), делает его единым и всегда одним и тем же предметом, независимо от разнообразия форм существования его в синтагматических цепочках и в парадигматических организованностях значений. Условно, исключая все различия этих знаний и создаваемых ими предметов, мы будем называть их «знаниями знаков». 2. «Знание знака» собирает другие формы существования знака — синтагматические и парадигматические — в целостность, объединяет и организует их (см. [1971 d, g; 1972а]). Но это объединение ни в коем случае нельзя понимать механически; оно осуществляется за счет того, что «знание знака» создает свою особую действительность — знак как идеальный объект, действительность, не сводимую к синтагматическим цепочкам и парадигматическим конструкциям значений и вместе с тем снимающую их и представляющую в виде единого объекта. Одновременно само знание выступает в виде особой, третьей формы существования знака. Эта форма существования знака является ничуть не менее объективной, чем две другие, и функционирует в деятельности наряду с синтагматическими цепочками и парадигматическими конструкциями значений. В этом плане «знание знака» является лишь одной из многих и частной формой существования самого знака. Но так как в своей действительности «знание знака» снимает другие формы существования знака — синтагматические и парадигматические, мы можем сказать, что оно является основной и всеобщей формой его существования. Именно «знания знаков» (а далее также и «знания о знаках» (ср. [Москаева, 1965, с. 140–142]) составляют основную и решающую часть систем языка, именно «знания знаков» выступают как проекты и принципы, определяющие существование знаков в инженерной деятельности языковедов и в духовной жизни всех говорящих людей, именно в знаниях свертывается и существует значительная часть речеязыковой способности людей. Поэтому неудивительно, что именно «знания знаков», а не сами по себе конструкции значений, составляют основную и решающую часть всех парадигматических систем, конституирующих семиотическую (в том числе и речевую) деятельность. Знание как система, рефлексивно объемлющая знак1. В принципе «знания знаков» могут быть и бывают весьма разнообразными [1971 d]. Между ними устанавливаются свои особые отношения и связи, которые меняются, во-первых, в зависимости от характера деятельности, которую они обслуживают, — практической, инженерной или собственно научной, а во-вторых, соответственно этапам развития языка и языковедения. Одни из этих знаний фиксируют и задают отдельные стороны существования знака в деятельности, например, только те или иные конструкции значений, другие знания как бы надстраиваются над первыми и охватывают сразу множество разных сторон знака и связи между ними. Кроме того, разные знания существуют в разных формах: одни из них получены научным путем и имеют строго объективный статус, другие, наоборот, предельно интуитивны и выступают скорее в виде чувственных представлений и субъективной речевой способности («чувство языка»). Анализ всех этих знаний и разных форм их существования в деятельности представляет собой особую и весьма сложную проблему, которую мы здесь не можем обсуждать. Нам важно подчеркнуть лишь сам факт разнообразия таких образований, как «знания знаков», их влияние на различие форм и способов существования самих знаков и выделить один вид этих знаний — конструктивно-технические (ср. [1966а*]). 2. С того момента, как утверждается языковедческая инженерия и начинается систематическое конструирование значений, «знания знаков» становятся по преимуществу конструктивно-техническими. Подобно математическим формулам и уравнениям, они фиксируют в себе процедуры сопоставления, разложения и сборки рядов разных явлений и объектов из мира знаков и представляют эти явления и объекты в качестве вариантов и проявлений единого объекта, поневоле (т. е. уже в силу формальных особенностей, самих процедур и соответствующего им строения знаний) конструктивного и структурного. При этом происходит трансформация и переработка исходного содержания, охваченного знанием: из совокупности объектов, возникших первоначально в разных ситуациях и во многом независимо друг от друга (к примеру — разные употребления знакового материала в синтагматических цепочках и разные конструкции значений) и лишь потом внешним образом связываемых друг с другом, оно превращается в сложный конструктивно развертываемый идеальный объект, как бы тиражируемый в разных частях своей структуры и в разных вариантах и приобретающий благодаря этому множественное существование. Но целостным и структурным объектом при всем этом знак остается только благодаря знанию и в знании. «Знак» как системное единство разных форм и типов существования. Идея деятельностиУказание на специфическую роль знаний в образовании и дальнейшем существовании знаков достаточно объясняет ту специфическую ситуацию, в которую попадает языковед-исследователь, когда он начинает свою работу и хочет либо проанализировать какие-то конкретные знаки, либо же ответить на вопросы, что такое «язык» или что такое «знак» и «знаковая система». Первое и основное, что предстает перед ним и с чем он преимущественно имеет дело, это — «знания знаков» (в частности, «знания речи-языка»). Осваивая их — понимая и анализируя, — он обнаруживает вскоре, по крайней мере, четыре (а на деле — большее число) разные формы существования знака (и речи-языка): 1) «знания знаков», 2) «действительность» этих знаний, 3) парадигматические конструкции значений и 4) синтагматические цепочки. И тогда он встает перед вопросом: какое же из этих существований знака является подлинным, реальным его существованием. Но тайна знака (и речи-языка) как элемента и организованности деятельности состоит как раз в том, что все эти четыре формы существования являются подлинными и одинаково реальными, а сам знак (или речь-язык) существует как системное единство всех этих форм. Но такая категориальная и онтологическая характеристика знака и речи-языка (основывающаяся на принципах теории деятельности) не может быть принята языковедом, ориентирующимся на эталоны и образцы объектов естественных наук: типологическое различие и несовместимость объекта, знания об этом объекте и содержания знания, а с другой стороны, внутренняя однородность и единственность объекта — все это является для него аксиомами. Имея интенцию на один внутренне не расчлененный объект, такой языковед приписывает характеристики и свойства «знаний знаков» знакам как действительности этих знаний, а характеристики того и другого — парадигматическим конструкциям значений или элементам синтагматических цепочек (ср. [1971 d]). Вместо четырех разных сущностей, живущих хотя и в связи друг с другом, но по разным законам и механизмам, он имеет в качестве предмета изучения одну сущность, в которой все перепутано и смешано в кучу. Именно это обстоятельство больше всего мешало оформлению позиции языковеда-ученого и появлению наряду со «знаниями знаков» (или «знаниями языка») также еще «знаний о знаках» (и «знаний о речи-языке»), которые могли бы представить и изобразить все разнообразные формы существования знака (и речи-языка) в виде единой сложной структуры. Поэтому столь значительным для всей истории языковедения был вклад В. Гумбольдта, впервые представившего речь-язык в категориях деятельности, и затем, в особенности, вклад Ф. де Соссюра, различившего внутри речевой деятельности (language) parole и langue; это были первые теоретические подходы к фиксации множественности разных форм существования знака. Но при этом Ф. де Соссюр не смог довести эту работу до конца и последовательно разделить существование языка в виде набора или системы знаний и существование языка как действительности этих знаний; кроме того, он не видел и не фиксировал различие между языком как действительностью инженерного языковедения и языком как действительностью научного языковедения (см. [1969 b]). Появление рядом со «знаниями знаков» или «знаниями языка» также еще «знаний о знаках» и «знаний о языке» приводит к оформлению наряду с действительностью инженерного языковедения также действительности научного языковедения. Развертываясь далее в полный научный предмет, эти знания порождают (или должны породить) онтологическую картину речи-языка, отделяющуюся от действительности первого и второго типа; в онтологических картинах научного предмета «речь-язык» получает новое существование — в виде идеального объекта изучения, обладающего «естественными законами жизни». Но это происходит лишь в той мере, в какой преодолеваются методологические и эпистемологические догмы натурализма и осуществляется переход на позиции научной семиотики и теории деятельности. Примечания:2 Отец, Петр Георгиевич Щедровицкий (1899–1972) — крупный инженер и организатор авиационной промышленности. Мать, Капитолина Николаевна Щедровицкая, в девичестве Баюкова (1904–1994) — врач-микробиолог. 23 В ходе разработки специализированных методологических средств и представлений о проектировании, интенсивных междисциплинарных исследований, обсуждения и уточнения их результатов к 1967 г. сотрудниками лаборатории было подготовлено два развернутых монографических исследования: «Дизайн в сфере проектирования. Методологическое исследование» и «Мышление дизайнера. Средства и методы исследования проектировочной деятельности». В них был затронут широкий круг вопросов: цели и программа создания теории дизайна, возможности «науки о дизайне», структура и функции деятельности проектирования, проектная картина дизайна, дизайнерское проектирование и художественное конструирование, и т. п. 24 Результаты исследования науки, научно-познавательной деятельности в Рамках ММК на этом этапе развития были в концентрированном виде представлены в работах «О специфических характеристиках логико-методологического исследования науки» [1967 г.] {с. 350–359 наст, изд. } и «Научное исследование в системе методологической работы» (совместно с В. Я. Дубровским) [1967 г]. 25 Сюда в первую очередь следует отнести работу «К характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании» (совместно с В. Н. Садовским) [1964 г.] {с. 515–539 наст, изд. }, посвященную анализу основных направлений изучения знака и возможностям выработки единого представления о нем. 26 В этот цикл входят такие работы Георгия Петровича, как «Методологические замечания к проблеме происхождения языка» [1963 г.] {с. 299–316 наст, изд. }, «Методологические замечания к проблеме типологической классификации языков» [1965 г], «Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий» [1969 г]. 239 В соавторстве с В. Н. Садовским. Источник: [1964 h]. 240 Этот перечень, конечно, не сможет исчерпать тех направлений, которые нужно было бы перечислить при систематическом исследовании нынешнего состояния проблемы; но для наших целей его пока вполне достаточно. 241 При этом, конечно, важное значение имеет вопрос о способах и средствах изображения системы понятия. Но мы его здесь опустим, так как обсуждение потребовало бы иного, более широкого контекста; мы будем пользоваться блок-схемами такого же типа, какие применяли в первом разделе (см. также [1964а*, i]). 242 Источник: [1967с]. 243 Источник: [1974а]. 244 Уже после того как эта статья была написана, мы познакомились с очень интересной и тонкой работой Б. С. Дынина, в которой демонстрируется специфически методологическая и конструктивная природа галилеевского закона инерции и показывается, что первоначально по своему происхождению этот закон не мог иметь никаких эмпирических референций [Дынин, 1972, с. 45–53]. 245 Ту объективную структурную связь всякого научного мышления и исследования, которую мы выражаем в оппозиции «знания» (всегда ориентированного на тот или иной объект) и «средства», Т. Кун частично схватил и выразил (к сожалению, в синкретической склейке со многими другими моментами социологического и психологического порядка) в понятии парадигмы, или образца [Kuhn, 1962]. Используя это понятие, Т. Кун различил научное исследование, осуществляемое при фиксируемой парадигме и не затрагивающее ее, — нормальная наука, и работу, приводящую к свержению существующей парадигмы, к замене ее новой, — революционная наука. Такая постановка вопроса привела к дискуссии: можно ли, не нарушая реальности исторических фактов, провести четкую грань между «нормальными» и «революционными» процессами в науке, «нормальной» и «революционной» исследовательской работой [Criticism… 1970]. Недостатком дискуссии, на наш взгляд, было то, что в ней не различались в достаточной мере (1) исторические процессы в науке, (2) ситуации отдельного научного исследования, и это привело к нечеткости в постановке исходной проблемы; кроме того, над многими исследователями по-прежнему довлела классическая схема линейного развертывания истории и они хотели упорядочить нормальные состояния и революции по этапам, или фазам исторического потока. Но даже если мы отвергнем возможность четкого разделения «нормальных» и «революционных» процессов в истории науки, это не помешает нам выделить две разные ориентации в организации и проведении конкретных научных исследоваваний: одну — направленную на получение знания об объекте при фиксированных средствах и другую — направленную на критику и изменение самих средств. Выбор той или иной ориентации будет определяться ценностями каждого отдельного ученого, его научной идеологией и философскими воззрениями. А в науке как целом эти два типа исследований будут развертываться и идти параллельно (часто на одном и том же материале, хотя и в разном историческом времени). 246 Возникая и складываясь первоначально как система методологических средств языковедческого предмета, семиотика и после того, как она оформляется в самостоятельный предмет, сохраняет по отношению к языковедению эту функцию средства и управляющей системы. Но то обстоятельство, что теперь она выступает в качестве особого научного или методологического предмета, ориентированного на определенный объект, ставит ее в один ряд с языковедением и заставляет соотносить эти два предмета не только через отношение управления, но также через их объекты и эмпирический материал. Вся проблема переводится в чисто онтологический план — отсюда вопрос, является ли речь-язык знаковой системой (см. [Язык как… 1967]), а после положительного решения ее, когда речь-язык объявляется особым видом знаковых систем, начинается работа по интегрированию и объединению обоих предметов в рамках одного, более широкого предмета, и происходит «сплющивание» понятий со знаниями (являвшимися первоначально лишь продуктами этих понятий) на базе единой онтологии и в рамках одной теоретической системы. 247 В этом, собственно, и состоит суть разногласий между двумя семиотическими направлениями, развивающимися в нашей стране (если принять членение на два направления, декларированное Ю. В. Рождественским (Рождественский, 1967)). Представители так называемого «структурального» направления (Симпозиум, 1962; Труды, 1965-73, II–VI) почти совсем не рефлектирует по поводу используемых ими понятий-средств и совсем в принципе не допускают того, что разработка и развитие средств могут вылиться в особое научное исследование и породить свои особые научные предметы. Именно поэтому в поиске средств и метода семиотических исследований они обращаются к тому единственному, что им хорошо известно и чем они владеют, — к лингвистике «Бесспорно, что всякая знаковая система (в том числе и вторичная) может рассматриваться как особого рода язык… Отсюда вытекает убеждение, что любая знаковая система в принципе может изучаться лингвистическими методами, а также особая роль современного языкознания как методологической дисциплины» [Труды… 1965, с. 6] и просто не могут понять методологической трактовки семиотики как конструктивно разрабатываемой системы средств «… каждое конкретное описание той или иной знаковой системы обогащает наше представление о сущности знаковости, — сказано в программном заявлении структуралистского направления. — В этом смысле можно высказать сомнение в плодотворности противопоставления некой «чистой» семиотики (мыслимой недостаточно конкретизированно как синтез лингво-логико-психологических представлений о знаке) — описаниям и изучениям знаковых систем, реально данных в истории человеческих взаимоотношений» (там же, с. 5). Нетрудно заметить, что возражения против «чистой» семиотики основываются на одном-единственном постулате: конкретные описания знаковых систем сами собой приводят к развитию средств описания («обогащают наше представление о сущности знаковости»), и поэтому достаточно усомниться в его очевидности, чтобы в корне подорвать подобный способ аргументации. 248 Конечно, чтобы сделать эти утверждения убедительными, нужно систематически изложить и детально проанализировать все основные попытки ввести понятия смысла и значения, зафиксированные в истории, описать приемы и схемы абстракции, лежащие в их основе, и далее — показать те парадоксы, к которым приводит пользование этими понятиями, и объяснить их, описав несоответствия между самим объектом и применяемыми к нему средствами анализа; весь этот материал оправдывал бы затем те принципы методологии и конкретные представления об объекте, которые мы выдвигаем взамен существующих. Но вместить все это в рамки одной статьи невозможно физически, и поэтому в этой части статьи мы ограничились предельно кратким и совершенно догматическим изложением некоторых основных идей и принципов нашего подхода, рассчитывая в дальнейшем, когда представится возможность, опубликовать и всю критическую часть нашего исследования. 249 Основные представления о деятельности и механизмах ее воспроизводства изложены в работах [1966а*; 1967a, g*; 1970; Генисаретский, 1970]. 250 Ср. это с исходными утверждениями К. Маркса в «Тезисах о Фейербахе»: «Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно…» [Маркс, 1955 b, с. 1]. 251 «Смысл — это то, что мы схватили, чтобы понять выражение, когда нам его сказали. С другой стороны, значение выражения нужно еще открывать посредством эмпирического исследования или каким-либо иным путем — и это необходимо помимо того, что у нас есть знание языка; можно — и это весьма вероятно — понимать выражение, но не знать его значения» [Church, 1943, с. 301] (ср. также | 1965с, с. 212–220, 244–252, 280–288; Jacobson, 1959, с. 62]). 252 В частности, при таком подходе почему-то не обращают внимания на то, что вторичные тексты и изображения сами должны быть поняты, и «смысл», по исходному определению, есть то, что мы понимаем, читая их, и поэтому правильно было бы говорить, что «смысл» исходного текста есть то, что мы понимаем при чтении второго текста или изображения (поскольку мы с самого начала постулировали, что смыслы их тождественны). Но эти теоретически очевидные соображения не принимаются во внимание, и на вопрос, в чем смысл исходного текста, просто отвечают вторым текстом или изображением. Во многих практических ситуациях, например при толковании текстов, переводе с одного языка на другой и т. п., этого вполне достаточно, как способ работы в определенных ситуациях такая практика, следовательно, вполне оправданна, но она ровно ничего не дает нам для выявления смыслов как таковых и задания понятия «смысл». Поэтому ошибка здесь состоит не в том, что так работают, а в том, что из этой практики работы пытаются выводить собственно научные представления. Такими же, лишь имитирующими форму научного знания, конструкциями являются и все определения следующего рефлексивного уровня, вводящие «смысл» в качестве инварианта синонимического перефразирования (см. [Jacobson, 1959, с. 62; Жолковский и др, 1961; Мельчук, 1974, с. 11]). 253 Нередко, когда говорят о «смысле», реально имеют в виду и подразумевают «содержание знаний»; в частности, именно так чаще всего употребляют слово «смысл» А. К. Жолковский и И. А. Мельчук. Конечно, если бы речь шла только о том, как назвать одинаково выделяемое всеми явление, то по этому поводу вообще не стоило бы спорить, но здесь, как это следует из всего изложенного выше, встает вопрос, затрагивающий само существо дела. И поэтому, в принципе, необходимо подробно описать и объяснить, как происходит и чем обусловлена такая подмена смысла содержанием. Не имея возможности обсуждать все это в деталях, мы отметим лишь два момента, на наш взгляд, наиболее существенных: во-первых, сами знания формируются на том же самом материале, который охватывается пониманием, и в силу этого нередко они заменяют понимание, а во-вторых, процессы понимания, в особенности у исследователей, организуются знаниями и идут так, как того требуют знания. Именно эти два момента в первую очередь приводят к тому, что в процессе понимания очень часто приходят к тому, что уже знают, а исследователи склонны отождествлять смысл с содержанием. 254 Выражение «простая коммуникация» обозначает в этом контексте особый идеальный объект, сконструированный в соответствии с принципами исследования сложных системных объектов методом генетического восхождения (см. [1958 b*; 1967а, с. 30–38; Зиновьев, 1954;Zinovev, 1958]). Этот идеальный объект ни в коем случае нельзя трактовать как результат простого вычленения некоторой структурной единицы из сложного целого; наряду с таким вычленением мы производим одновременно упрощение всех элементов и связей этой единицы, убирая в них все свойства, обязанные своим происхождением системному окружению этой единицы, и оставляя только те свойства, которые связаны с независимым ее функционированием и развитием. Характер абстракции, которую мы осуществляем, конструируя этот идеальный объект, делает совершенно бессмысленной проверку его путем сравнения с эмпирическими актами коммуникации, которые, в этой терминологии, все — «непростые». 255 Делая это утверждение в отношении «смысла», мы исходим из общего принципа деятельностного подхода: каждая организованность деятельности может быть порождена только строго определенной системой социально-производственной кооперации. 256 В исключительно тонком и глубоком исследовании по истории механики [Гуковский, 1947] М. А. Гуковский убедительно показал, что теория свободного падения тел стала возможной лишь после того, как Дунс Скотт, Ричард Суайнсхед и Орем нашли способ изображать отношения меняющихся характеристик движения в чертежах геометрических фигур (см. также [Юшкевич, 1961, с. 395–403]). 257 Здесь используются два принципа деятельностного подхода: (1) всякая чисто познавательная позиция должна рассматриваться как позиция в системе социально-производственной кооперации и (2) всякое знание задает особую Действительность деятельности — «практической» или мыслительной. 258 Вариантом такого представления является одно из представлений «смысла», предлагаемое И. А. Мельчуком: «Предварительно можно мыслить себе «смысл»… как некоторый сложный граф, вершины которого помечены символами "смысловых атомов" (некоторых порций смысла, выбранных в данном описании в качестве элементарных), а дуги — символами связей между ними» [Мельчук, 1974, с. 11]. Правда, это представление, наряду с собственно структурными моментами, указанными нами выше, содержит еще и морфологические моменты — «смысловые атомы», но это обусловлено и вполне объясняется, с одной стороны, практической установкой автора (см. ниже п. 5), а с другой стороны, характером используемого им понятия системы (см. [1974 с*]). 259 Здесь мы используем еще один принцип деятельностного подхода: после своего возникновения организованности деятельности могут передаваться в нижележащие места системы кооперации (хотя их использование там возможно лишь при условии соответствующих изменений деятельности, специфической для этих тест). 260 О методах анализа подобных сверток и фокусировок систем см. [1958 b*; 1965а; Генисаретский, 1965]. 261 Хорошей иллюстрацией этих положений могут служить некоторые из определений «смысла», даваемые А. К. Жолковским и И. А. Мельчуком, поскольку в них еще отчетливо видна связь с ядерным представлением «смысла» как структуры: «Смысл предстает как конструкт — пучок соответствий между реальными равнозначными высказываниями, фиксируемый с помощью специальной символики — семантической, или смысловой, записи; здесь имеется полная аналогия с реконструкцией праформ в сравнительно-историческом языкознании» [Жолковский, Мельчук, 1969, с. 7]; «владение смыслом… проявляется у говорящего в способности по-разному выразить одну и ту же мысль, а у слушающего — в понимании смыслового тождества или сходства внешне различных высказываний» [Жолковский, 1964, с. 4]. 262 Утверждение, что «значение» есть конструкция, носит принципиальный характер: если Г. Фреге [Frege, 1892] и др. искали значения в природе, или в мире «естественного», то мы, наоборот, обращаемся к миру культуры, к «искусственному», к созданному человеческой деятельностью. Могут возразить, что в этом тогда нет подлинной оппозиции: то, что Г. Фреге называл «значением», мы называем «объектом отнесения», «объектом оперирования», «объективным содержанием» и т. п., а слово «значение» употребляем для обозначения некоторой принципиально иной и, с точки зрения традиции, новой сущности — связки между словами и «объектами» (или «предметами», выраженными в других словах). Но в том-то и дело, что для нас существование этих связок является исходным и основным — именно они образуют первую реальность человеческой деятельности и для человеческой деятельности (см. [1964а*, {с. 165–170); Маркс, 1955 b, т. 3, с. 1]), именно они задают и определяют существование всего остального в деятельности. Это — первый важный момент. А второй — и это может служить уже непосредственным ответом на возражение — заключается в том, что «объекты» (денотаты) и «объективное содержание», т. е. «значение» по Г. Фреге, являются лишь моментами или элементами конструкций значения и, следовательно, точно так же существуют в деятельности и в культуре, а не «природно», хотя природа также присутствует в них в качестве материала или «морфологии» систем Деятельности и отдельных элементов в конструкциях значений (см. [1973 е*]). 263 В рамках деятельностного подхода такой тип совмещения разных позиций называется обычно «заимствованием» [1964h"; 1971 с]. 264 Принятый нами план расчленения изучаемого предмета и порядок изложения всего материала могли возбудить в читателе неправильное представление, что сначала вырабатываются структурные представления смысла, а уже потом создаются конструкции значений, разлагающие структуру смысла на компоненты и элементы. В реальной истории дело обстоит, по-видимому, как раз наоборот: именно конструкции значений дают первое структурное представление процессов понимания, во всяком случае — их отдельных моментов, и именно «значения» первоначально рассматриваются как то, что порождается процессами понимания. Но затем постепенно выявляются специфические моменты деятельности, в первую очередь — различие парадигматических и синтагматических систем и необходимость одновременного различения и отождествления их элементов (см. [1971 d; Соссюр, 1933]), — и это заставляет рассматривать конструкции значений в качестве особых сущностей, имеющих самостоятельное существование в речевой деятельности помимо процессов понимания и всего того, что они создают. Таким образом, конструкции значений приобретают две разные интерпретации: одна, автонимная, задает «значение» как таковое, а другая — «смысл» как то, что создается самими процессами понимания и существует в них; а дальше, чтобы окончательно развести «значения» и «смыслы», представить их в качестве разных элементов и компонентов речемыслительной деятельности, нужно сделать всего один шаг — создать для «смыслов» особые изображения, отличающиеся от изображений «значений». 265 Слова «разлагают» и «собирают» относятся лишь к тому условному плану описания, который мы принимаем для внешней исследовательской позиции; их ни в коем случае нельзя понимать как характеристику механизмов понимания. |
|
|||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
