|
||||
ЧАСТЬ 1КОСМОЛОГИЯ И КАББАЛА ГЛАВА 1ВЕЛИКАЯ ПИРАМИДОЛОГИЯ Не так давно один из израильских журналов познакомил русскоязычный читающий мир с увлекательной теорией нашего соотечественника, недавнего репатрианта Григория Айзенберга. Согласно этой теории, великая египетская пирамида Хеопса, построенная в XXVII веке до нашей эры, хранит в себе проход к некоему «золотому шару», содержащему на своих стенах «закодированную» историю исчезнувших цивилизаций и даже пророческие детали технических открытий будущих времен. Айзенбергу, скромному врачу из Винницы, как рассказывает журнал, было «видение», в котором вся эта сияющая истина явилась ему сразу, целиком, как Афина из головы Зевса, после чего он стал страстным глашатаем новой идеи и даже сумел заручиться солидной поддержкой для ее проверки. Отдавая должное оригинальности вышеизложенной гипотезы, я, тем не менее, считаю, что ее автор, а также интервьюировавший его журналист допустили определенный просчет, хотя бы вкратце не познакомив читателей с современным состоянием той науки, в которую таким ярким метеором вторгся наш соотечественник. Я имею в виду великую пирамидологию, имеющую за собой долгую и славную историю. Думается, такое знакомство позволило бы читателям лучше оценить научное значение излагаемой теории и ее место в ряду других ей подобных. Поэтому я счел необходимым восполнить это досадное упущение. К сожалению, не всем и не каждому известно, что первые смутные догадки о наличии в египетских пирамидах закодированных тайн и пророчеств возникли еще в темные средневековые времена среди розенкрейцеров и других тогдашних оккультистов. Но становление великой науки пирамидологии как подлинной науки произошло только в середине XIX века и связано с именем некоего английского издателя Джона Тэйлора, который в 1859 году выпустил книгу «Великая пирамида: кто ее построил и зачем?». Как видно из названия, именно здесь был впервые поставлен ребром тот мучительный вопрос, который волновал затем все прогрессивное человечество на протяжении полутора последующих веков вплоть до явления Айзенберга народам. Конечно, сегодня благодаря Айзенбергу нам уже известно, что строителями пирамид были люди, произошедшие от зеленых человечков из, летающих тарелок, то бишь от космических пришельцев. Но в середине XIX века о пришельцах еще ничего не знали, и поэтому Тэйлору пришлось искать иной ответ на поставленный им вопрос. Ход рассуждений этого родоначальника пирамидологии был весьма поучителен. Тэйлор тоже догадывался, что великая пирамида Хеопса не простых египетских рук дело, но, в отличие от Айзенберга, утверждал, что ее строителем был… праотец Ной. Этому предположению нельзя отказать в логичности. Ведь однажды Ной уже построил ковчег. Так что построить после этого пирамиду было для него раз плюнуть. Тем более что он был доверенным лицом самого Господа. А Тэйлор был убежден, что никто, кроме самого Господа, не мог бы «закодировать» в пирамиде те поразительные сведения, которые он, Тэйлор, открыл, изучая ее геометрические особенности. Так, он нашел, что если разделить высоту пирамиды Хеопса на удвоенную длину ее основания, то получится число, очень близкое к знаменитому «пи» (отношение длины окружности к ее диаметру). А если разделить радиус Земли на 400 000, то получится в точности та библейская мера длины, «локоть», которая лежит в основе всех геометрических размеров пирамиды. Одновременно этот «локоть» — та самая мера, которую, согласно Библии, Ной использовал при конструировании ковчега, а Соломон — при создании Храма. Этот «локоть», по Тэйлору, равен примерно 25 дюймам. Для тех, кого даже эти поразительные совпадения не убеждали в сверхъестественном происхождении пирамид, Тэйлор припас другие неопровержимые доводы. Так, у Исайи сказано: «И в те дни будет алтарь Господу в середине Египта». А у Иова говорится: «Кто же положил те основания, если не Ты, о Господи, и задал те меры, если не Ты, о Господи?» Но убедительней всего — цитата апостола Павла: «Сам Иисус положил тот краеугольный камень, дабы сложить храм Господу». Хотя ни в одной из этих цитат ничего не говорится о пирамидах, но неутомимый и проницательный Тэйлор сообразил, что речь идет именно о них, а из этого следует, помимо всего прочего, что пирамида Хеопса была задумана как прообраз иерусалимского Храма и будущей христианской Церкви. Так что наш Айзенберг не одинок, когда утверждает, что в пирамидах хранятся тайны будущих технических свершений. Апостол Павел утверждал то же самое. Дело Тэйлора получило развитие в трудах профессора астрономии Эдинбургского университета Чарлза Смита, который в 1864 г. опубликовал 664-страничную книгу «Наше наследие в Великой Пирамиде», где тоже предвосхитил некоторые будущие прозрения Айзенберга. Прежде всего Смит занялся прямоугольником, лежащим в основании пирамиды. Правда, о существовании под ним «золотого шара» он не догадался, но зато, разделив ширину этого основания на размер тех камней, которыми в старину была облицована пирамида, он получил 365, то есть точное число дней в году. Значение этого открытия и его точность представляются особенно поразительными, если вспомнить, что сами камни тогда еще не были найдены и поэтому Смит в своей оценке их размеров был вынужден опираться на смутные воспоминания египетских феллахов. Тем не менее отсутствие камней не остановило пытливого исследователя. Продолжая вникать в тайны Великой Пирамиды, Смит догадался разделить длину облицовочного камня (тоже приблизительно показанную одним из феллахов) на число 25 и с помощью этой гениально простой догадки нашел величину так называемого «Божественного дюйма», который Ной по научению Господа положил в основу своих инженерно-технических расчетов. Оказалось, что этот спущенный сверху дюйм в точности равен одной десятимиллионной земного радиуса. К сожалению, Смит не указал, какого именно радиуса (Земля, как известно, не вполне сферична, и потому различные радиусы имеют разные длины), но эта мелочь нисколько не уменьшает значения других открытий, совершенных неутомимым пирамидоведом с помощью найденного им «Божественного дюйма». Прилагая его ко всем мыслимым размерам пирамиды, Смит обнаружил огромное множество поразительных совпадений. Так, высота пирамиды, умноженная на десять в девятой степени, оказалась равной расстоянию от Земли до Солнца. Другие расчеты позволили установить плотность Земли, период колебаний земной оси, среднюю температуру земной поверхности и многое-многое другое. Как видим, пытливый ум Смита извлек из одной-единственной пирамиды куда больше откровений, чем иной ленивый ум мог бы извлечь даже из Британской энциклопедии. Но самое удивительное вскрылось, когда Смит приступил к внутренним проходам пирамиды. Тщательно измерив длину каждого прохода в «Божественных дюймах» и приняв один дюйм за год, он показал, что в этих размерах закодированы все важнейшие даты прошлой и даже будущей истории Земли. А также всей Вселенной! Выяснилось, что Вселенная была создана ровно за 4004 года до рождества Христова; были установлены точные даты потопа, исхода евреев из Египта и постройки самой пирамиды; были найдены закодированные в заднем (извините!) проходе пирамиды даты рождения Иисуса Христа, его казни, нисхождения в ад и воскресения; а при подъеме вверх по тому же заднему (извините опять) проходу удалось предугадать и дату его Второго Пришествия — между 1882-м и 1911 годами нашей эры. Внимательно присмотревшись к пирамиде, Смит и Тэйлор пришли к выдающемуся выводу, что она (с учетом) основания пятигранна. Этот поразительный факт неизбежно привел их к выводу, что — число пять имеет в пирамидологии огромное символическое значение. Мало того, что пяти граням пирамиды отвечает пять углов, но ее «Божественный дюйм» также заложен в пирамиду Тем, кто дал нам пять пальцев на каждой руке и ноге, пять органов чувств, пять книг Моисеевых и дважды пять его заповедей. С этим нельзя не согласиться. Отчасти это даже ставит под сомнение гипотезу пришельцев. Пришельцы, у которых, как известно, вместо пальцев сплошные щупальца, всего этого дать людям не могли. Если бы человечество рассчитывало только на этих безобразных зеленых человечков, оно, скорее всего, не получило бы ни Пятикнижия, ни заповедей, ни даже органов чувств. Под влиянием всех этих замечательных открытий Тэйлора и Смита в 1879 году в Америке, в городе Бостоне, был основан специальный «Институт точных пирамидологических измерений», призванный периодически уточнять все размеры пирамид с помощью наиновейших методов исследования. Второй задачей Института была объявлена борьба за низвержение принятой на европейском континенте «безбожной метрической системы» и замену ее системой, основанной на «Божественном дюйме». Книги Тэйлора и Смита дали также толчок многим другим исследованиям. Так, полковник Карнье сумел установить, что уточненные размеры пирамиды дают основание ожидать Второго Пришествия не в 1911-м, а в 1920 году. Как известно, оно в тот год почему-то не состоялось, и тогда Уолтер Уинн предпринял новые расчеты, которые показали, что в расчеты Карнье вкралась досадная ошибка и в действительности Второе Пришествие состоится в 1933 году. Однако пастор Чарлз Рассел опроверг это утверждение, заявив, что более детальные пирамидологические расчеты приводят к намного более удивительным выводам. Оказывается, Второе Пришествие на самом деле уже состоялось! Произошло это в 1874 году, «незримо» для всех, кроме самого пастора, который тут же вычислил, что вслед за этим начнется некий 40-летний цикл, к исходу которого, в 1914 году, все истинные праведники будут спасены, а грешники — подвергнуты каре. Как мы помним, в 1914 году указанные 40 лет действительно истекли, но завершились не столько спасением, сколько умерщвлением множества праведников в ходе первой мировой войны. На этом основании очередной глава секты «расселитов», судья Резерфорд, выдвинул радикально новую теорию, согласно которой Великая Пирамида на самом деле — вовсе не творение Господа, а наваждение Сатаны. Разочарованные «расселить!» отошли от занятий пирамидологией, но их идеи были почти тотчас подхвачены новой сектой — англо-израэлитов, которая утверждала, что англо саксонские и кельтские народы ведут прямое происхождение от десяти исчезнувших колен Израиля и потому унаследуют все те обетования, которые Господь дал Аврааму. Основатель секты, инженер Дэвидсон, опубликовал очередное пирамидоведческое сочинение «Великая Пирамида и ее Божественное Послание», в котором заявлял, что спасение потомков Авраама в Великобритании начнется в 1928 году и протянется до 1936 года, после чего этот «истинный» Израиль соберет армии народов всего мира против Гога и Магога, и настанет Армаггедон, за которым и последует долгожданное Второе Пришествие. В Соединенных Штатах эту благую весть подхватил некто Джордж Рифферт. Однако когда суматоха прошла, а Второе Пришествие опять не наступило, Рифферт выпустил новую книгу, в которой писал, что нужно подождать еще немного — и тогда «вавилонская блудница капитализма окончательно исчезнет, уступив место духовному Израилю англосаксонских наций с его новым экономическим порядком». Поскольку это предсказание основано на точных данных великой пирамидологии, стоит, думается, все-таки подождать. Может быть, и России, и нашему Израилю найдется место под солнцем нового англосаксонского экономического порядка. Если, конечно, открытие Айзенберга еще раньше не выведет всех нас в первые ряды преемников великих пирамидных обетований. Я не умещусь в рамках данной книги, если начну, в дополнение к уже сказанному, пересказывать еще и те тайны Великой Пирамиды, которые открылись разным оккультистам, начиная с мадам Блаватской, согласно которой пирамида Хеопса была местом ритуала, изложенного в египетской «Книге мертвых», и, кончая неким Рандольфом Скиннером, который утверждал, что в пирамиде якобы закодированы тайны еврейской Каббалы. Лучше я посвящу оставшееся место краткому ответу на вопрос: что же все это означает? Краткий ответ состоит в том, что все сказанное свидетельствует о пользе неполного среднего образования. Получив такое образование, любой любознательный человек научается неполно читать, неполно считать и получает смутные сведения о существовании великой пирамиды Хеопса. Посчитав пальцы на руках и ногах и обнаружив, что их там дважды пять, он во всеоружии этих познаний приступает к решению мировых проблем посредством упомянутой пирамиды. Все дальнейшее зависит исключительно от его изобретательности. Комбинируя размеры пирамиды с мировыми константами, он подгоняет одно к другому и находит желаемые ответы. Поскольку размеры эти весьма приблизительны, четырех правил арифметики вполне хватает, чтобы сотворить истинные чудеса. Скажем, упомянутые выше облицовочные камни существуют в десятках разновидностей. Каждый пирамидолог-любитель может выбрать нужный по вкусу и желанию. Если же и это не, поможет, можно взять любое число наугад, помножить его на какое-нибудь другое, вычесть что-нибудь подходящее, возвести в требуемую степень и затем добавить лаврового листа и маринованного винограда, а также соли и перца по вкусу. На самый худой конец к желаемому результату всегда удается прийти методом одного американского пирамидоведа, которого известный археолог Петри как-то застукал возле пирамиды Хеопса в тот самый момент, когда тот подтесывал найденный в песке облицовочный камень, чтобы получить очередную точную дату Второго Пришествия. Очень помогают также откровения, пророческие сны, всевозможные сведения из брошюр об Атлантиде и упоминание пришельцев. Пирамидология открыта всем и каждому, нужно только знать, с какой стороны к ней подойти. Так что смело за работу, господа. Сорок веков, как говаривал Наполеон, смотрят на вас с вершины пирамид, храня тайны праотцев, атлантов и зеленых человечков! Не говоря уже о Золотом шаре, в котором, как в Торе, закодировано вообще все! Если, конечно, верить господину Айзенбергу. А почему бы, собственно, ему не верить? Особенно если очень хочется. ГЛАВА 2МЕМУАРЫ СПЕРМАТОЗОИДА Книга эта называется «Дианетика». Ее втором является некто Лафайетт Рональд Хаббард, в прошлом моряк, ветеран и инвалид второй мировой войны, пламенно-рыжий и столь же. пламенно темпераментный американец, немного инженер, немного летчик, немного музыкант, немного яхтсмен, не успевший по причине всех своих многочисленных увлечений получить никакого законченного образования. Что не помешало ему, написать толстую книгу и, как вы увидите, еще несколько таких же книг, выдержавших в одной только Америке несколько десятков изданий. Любителям фантастики Хаббард известен как необычно плодовитый автор множества научно-фантастических рассказов и повестей. Собственно, фантастика и была отчасти виновницей того, что Хаббард написал свою эпохальную книгу, положившую начало одному из самых странных, долгих и шумных увлечений нашего века. Дело было в конце 1940-х годов, когда Хаббард принес свои первые рассказы в журнал «Поразительная научная фантастика». Редактор журнала, Джон Кемпбелл-младший, страдал хроническим синуситом, и Хаббард взялся его лечить. Лечение оказалось настолько успешным, что Кемпбелл тут же предложил Хаббарду опубликовать в журнале краткое изложение его медицинских методов. Публикация вызвала огромный интерес, и вдохновленный этим Хаббард тут же сел за более подробное изложение, из которого ровно через три недели образовалась объемистая книга под названием «Дианетика, или современная наука ментального исцеления». Первое издание расхватали, издатели тут же выпустили второе, третье и так далее; дианетика стала бешено модной в Голливуде и университетских кампусах всей Америки, и вскоре в Нью-Джерси был заложен специальный Исследовательский институт дианетики с ответвлениями в сотнях городов и со своим журналом, который назывался «Дианетический бюллетень». Распространению нового метода весьма способствовала его простота и доступность. Всего за 500 долларов каждый мог пройти в институте шестинедельный курс инструктажа и получить сертификат «врача-дианетика». Что же такое дианетика? И какое, собственно, отношение она имеет к упомянутым в нашем заглавии воспоминаниям? В основе дианетики лежит утверждение, что наш мозг функционирует как гигантский компьютер. Компьютер этот состоит из двух частей — сознательной, или «аналитической», и бессознательной, или, в терминологии Хаббарда, «реактивной». Аналитический мозг управляет нами, когда мы находимся в сознательном состоянии, и управляет в общем-то безупречно. Но он может дать сбой, когда «реактивный» мозг подаст ему неверные данные. А это происходит каждый раз, когда мы на время теряем сознательный контроль над собой — например, когда спим. Или когда нам очень больно. Хаббард утверждает, что есть много состояний, когда реактивный мозг захватывает власть над аналитическим. На нашу беду. Дело в том, что реактивный мозг — это дебил, как говорит Хаббард. Программы, которые он выдает сознанию, — ошибочные программы. Они запечатлеваются в реактивном мозгу под влиянием восприятий, поступающих от наших органов чувств, когда мы находимся в бессознательном состоянии. Вот, — например (цитирую Хаббарда): «Женщина сбита машиной. Ее окружают прохожие, водитель кричит, что она сама виновата, в ее глазах мелькают вспышки света, она ощущает запах бензина и асфальта, вкус крови во рту. Реактивный мозг запечатлевает все эти ощущения в виде «энграммы» — целостной записи происшествия со всеми сопровождающими его ощущениями». Ключевое слово произнесено. Энграммы, по Хаббарду, это и есть те ошибочные, неправильно отражающие реальность «записи», которые реактивный мозг будет позднее выдавать аналитическому, вызывая всевозможные неврозы, психозы и психосоматические болезни, вплоть до рака и диабета (рак и диабет, по Хаббарду, именно психосоматические болезни, они возникают, грубо говоря, от «психа»). А самый вредный вид таких «записей» — это утробные энграммы. То есть те, которые запечатлелись в нашем реактивном мозгу, когда мы еще пребывали в материнской утробе. Как, утверждает дианетика Хаббарда, именно эти энграммы вызывают большинство наших неврозов и болезней. Вот как Хаббард объясняет образование утробных энграмм: «Мама чихает — плод содрогается в конвульсиях; мама натыкается на стол в кухне — у ребенка ощущение жуткого удара по голове; мама икает — ребенку кажется, что он попал в нутро грохочущей стиральной машины. Папа ночью вошел в азарт — ребенку кажется, что он попал под паровой молот. Мама зашлась в истерике — у ребенка образуется энграмма. И так без конца». Мы и не подозревали, что в матке царит такая чудовищная какофония. «Стуки, лязги, грохот, скрежет, чваканье, бурленье, оглушительный шум текущих вод, громыханье прорывающихся газов…» Бедное дитя! «В его ушах стоит непрерывный шум. Ему душно, больно, тесно и страшно». И вдобавок ко всему в его крохотном мозгу запечатлеваются все произносимые снаружи слова. Папа кричит маме: «Возьми это! Возьми!!» — а позже, уже во взрослом возрасте, реактивный мозг истолковывает эту энграмму с буквализмом идиота, и вы становитесь клептоманом. Мама кричит папе: «Ты ни на что не способен!» — ребенок вырастает с комплексом неполноценности. Мама жалуется подруге: «На черта мне эта беременность!» — и ребенок вырастает с сознанием своей ненужности в семье. Но есть еще более ужасная ловушка, куда мы все неизбежно попадаем, даже если в матке нам было хорошо и уютно. Эта ловушка — энграммы, возникшие на доутробной стадии! «Почти каждый мой пациент, — утверждает Хаббард, — признавался во время сеанса, что не раз переживал во сне ощущение, будто он стремительно плывет по какому-то узкому каналу или лежит у какой-то стены в ожидании пронизывающей боли чьего-то проникновения». Поначалу Хаббард не придавал особого значения этим снам. Но потом его осенило. Он понял, какие переживания они отражают. Это, провозгласил он, не что иное, как «реальные переживания, которые мы испытывали на стадии сперматозоида или яйцеклетки». Эти «воспоминания сперматозоида» ужасны тем, утверждает Хаббард, что они являются самыми ранними, самыми глубинными, самыми базовыми из всех наших энграмм. А согласно дианетике, для излечения человека от неврозов и прочих недугов нужно прежде всего «стереть» его базовые энграммы. Тогда более поздние сотрутся легче. Воспоминания сперматозоида уж такие базовые, что дальше буквально некуда. Поэтому их следует стирать в самую первую очередь. Методы дианетики очень просты, Пациент ложится на кушетку, а врач-дианетик соответствующими, фразами погружает его в «дианетический транс». Наступление этого транса опознается по частому трепетанию век. Доведя пациента до трепета, врач начинает задавать ему серию вопросов, понуждая его «вернуться вспять» по его «временной траектории», чтобы вспомнить все прежние энграммоформирующие переживания. Стоит пациенту припомнить какую-нибудь энграмму, как она тут же теряет свою силу. Ослабление энграммы сопровождается беспричинной зевотой и потягиванием, а ее полное «стирание» — столь же беспричинным приступом смеха. За пять-шесть таких сеансов все энграммы стираются, и пациент выходит от врача, излеченный от всех неврозов и недугов. Включая рак и диабет. Излеченные пациенты становятся «абсолютно чистыми». Они настолько здоровее всех остальных людей, что Хаббард даже опасается, не станут ли они «аристократией будущего». Впрочем, он тут же оговаривается, что это не так уж страшно — ведь «абсолютно чистые» вместе с энграммами утрачивают и все свои дурные помыслы и даже способность к ним. Дианетика оказывается также способом совершенствования общества и культуры. Но это уже проблемы метафизического свойства. Им Хаббард посвятил другую свою не менее толстую книгу — «Наука выживания», написанную уже не за три недели, а всего за три дня. Кроме того, он опубликовал также «Детскую дианетику», посвященную методам лечения детей. Еще одна его книга, «Превентивная дианетика», излагает приемы предотвращения энграммобразования. Приемов, собственно, немного. Строго говоря — всего один. Нужно поменьше разговаривать вблизи беременной женщины. «Всякая речь, любое громко произнесенное слово угрожает душевному здоровью плода. Молчите!» Если ваши родители не воспользовались этим мудрым советом, пока вы пребываете в материнской утробе, вам не миновать образования энграмм и всех неприятностей, с ними связанных. А значит, вам не миновать и кушетки врача-дианетика. Не пугайтесь. Вас не будут допытывать, хотели вы обладать своей мамой или прикончить своего папу. Ассистент Хаббарда и пламенный энтузиаст дианетики (позднее, впрочем, в ней разуверившийся) доктор Винтер так описывает свой предварительный разговор с пациентом. «Что вы чувствуете сейчас? — Мне хочется почесать глаз. — Чем, по-вашему, вызвано это желание? — Наверно, пылинка попала. — Подумайте еще. — Ну, не знаю. — Я могу подсказать вам несколько предположений, которые вы, конечно, не обязаны принимать. Не чешется ли ваш глаз потому, что у вас наворачиваются слезы? — Пожалуй. — В таком случае постарайтесь вспомнить, когда у Вас впервые в жизни было такое ощущение. Не чесался ли у Вас глаз в момент вашего рождения?» Как не вспомнить двух предприимчивых евреев, в голодные годы отправившихся на село зарабатывать фокусами: «Хаим, отгадай, в какой руке у меня монета. — В левой. — А подумав? — В правой. — (Селянам, торжествующе): Вот видите!» Тем, кому врач не по карману, Хаббард предлагает домашнее руководство под названием «Излечись сам!». К этой книге прилагаются специальные картонные диски двух цветов с соответствующими надписями. Поворачивая диск, вы можете сами получить дианетические ответы на все свои медицинские вопросы, а также стереть все свои вредные энграммы. Эффективное, быстрое и полное исцеление гарантируется. Еще за 100 долларов можно приобрести специальный «электропсихометр», который позволит вам «объективно» измерять стресс в процессе своего дианетического самоисцеления. Прибор градуирован в специальной «хаббардовской шкале» и «немедленно выявляет особо прочные энграммы». Прибор выпускается и в упрощенном варианте, который называется «миниметр» и стоит всего 40 долларов, но с этой дешевкой вам в такую глубь своей биографии проникнуть не удастся. Дианетика возникла около полувека назад. Хаббард уже умер. Но его дело живет и продолжает распространяться по всему земному шару, находя миллионы новых адептов. Учение Хаббарда всесильно, потому что оно вульгарно. Когда-то Ильф и Петров подметили: стоит в «большом мире» начаться, скажем, штурму Северного полюса, как в «малом мире» тотчас рождается шлягер: «Нам с милкой и на полюсе тепло». Стоит в большом мире начаться штурму подсознания, как в малом рождается дианетика и прочие «современные науки ментального исцеления». Сразу от всех недугов. Включая рак и диабет. Да, чуть не забыл. Вскоре после выхода «Дианетики» Джон Кемпбелл-младший снова заболел синуситом, от которого уже не избавился до самой своей смерти. ГЛАВА 3ГЛАШАТАИ КАТАСТРОФ Все астрономы сегодня согласны, что Земля возникла миллиарды лет назад и с тех пор продолжает с невозмутимой регулярностью вращаться вокруг Солнца. Но для некоторых рядовых граждан все, что вызывает единодушное согласие ученых, тотчас становится подозрительным. Им это кажется догмой или — того хуже — преступным сговором. Такие граждане, если они наделены достаточным воображением и хотя бы обрывками школьных знаний, немедленно принимаются за работу и создают собственные теории, разоблачающие этот сговор и открывающие миру «подлинную истину». Чаще всего такие теории остаются достоянием узкого круга знакомых и друзей. Но иногда они выходят за его пределы и захватывают воображение множества других рядовых граждан. Почему это происходит с одними теориями и не происходит с другими, не очень понятно. Может быть, стоит рассмотреть некоторые из таких случаев, чтобы лучше понять, что же способно увлечь массы. Среди теорий, опровергающих общепринятые среди астрономов взгляды на историю Солнечной системы, наибольшая популярность в новом времени выпала на долю четырех. Об одной их них, принадлежащей Иммануилу Великовскому, я уже рассказывал в своей предыдущей книге «Загадки, тайны и коды Библии». Великовский был родом из Москвы, сыном известного еврейского купца и сиониста, который позднее эмигрировал в Палестину. Великовский и сам некоторое время жил в Палестине, где имел врачебную практику и занимался психоанализом. Позже он переехал в США, где и создал свои прославленные книги. Первая из них, «Миры в столкновении», вышла в свет в 1950 году. Она сразу же стала бестселлером среди широких читательских масс вроде нынешнего «Кода да Винчи», хотя и на другой манер. Среди ученых она вызвала бурное возмущение. Великовский утверждал, что не в столь далеком прошлом некая гигантская комета, исторгнутая из недр Юпитера, дважды прошла вблизи Земли, после чего была заторможена Марсом и превратилась в нынешнюю планету Венеру. Первая встреча, или «столкновение», этой кометы с нашей планетой произошло, по Великовскому, в 1500 году до н. э. и заставило Землю замедлить свое вращение или даже полностью остановиться, что вызвало катастрофические последствия: горы стали рушиться, моря расступились, метеоры посыпались с неба, реки окрасились кровью и огненный столб огромной молнии соединил Землю с кометой. Все это, утверждал Великовский, и было запечатлено в библейской книге Исхода в виде явлений, сопровождавших исход евреев из Египта. Воздействием кометы он объяснял и последующие события еврейской истории, как они описаны в той же Библии. Например, извержения, землетрясения и прочие жуткие явления в ходе получения Моисеем Торы на горе Синай были, по его мнению, следствием краткого возвращения кометы к Земле; манна небесная, кормившая евреев все 40 лет странствий в пустыне, образовалась из углеводородов, составлявших хвост кометы (из них же позднее образовались земные залежи нефти); а та знаменитая остановка Солнца над долиной Айялон по приказу Иисуса Навина, что произошла 52 года спустя, была вызвана повторным «столкновением» Земли с кометой. Одно из вызванных этим столкновением землетрясений обрушило и знаменитые стены Иерихона. А вот катастрофические события, произошедшие семь столетий спустя, в восьмом веке до н. э., когда Сеннахериб осаждал Иерусалим и отступил от него, напуганный землетрясениями, имели причиной уже не саму эту комету, а планету Марс, который под воздействием всё той же неприкаянно блуждавшей по Солнечной системе кометы вдруг резко приблизился к Земле и вызвал все эти катаклизмы. Кстати, этим же приближением Марса Великовский объяснял и знаменитую «загадку Свифта». Дело в том, что автор «Путешествий Гулливера», описывая вымышленную им страну Лапуту, походя заметил, что у Марса есть два спутника. А земные астрономы открыли эти спутники только через 156 лет после написания Свифтом этих строк! Более того, в этом же своем рассказе Свифт совершенно точно указал, что один из этих спутников движется вокруг Марса быстрее, чем вращается сама планета. Откуда он мог это знать? Великовский утверждает, что Свифт вычитал все это в манускриптах древних астрономов, которые разглядели эти спутники невооруженным глазом во время вышеупомянутого приближения Марса к Земле. Представляете, как близко он подошел?! Великовский вообще имел привычку обосновывать свою теорию «космических катастроф» ссылками на всевозможные древние рукописи, легенды и сказания самых разных народов. Обилие использованных им фольклорных источников изумляет. Столь же изумляет непредвзятого читателя способ их использования. Автор «Миров в столкновениях» привлекал себе в поддержку те материалы, которые ему подходили, и совершенно спокойно игнорировал все те, которые противоречили его теории. Точно так же он игнорировал все те научные факты и законы, которым эта теория сама противоречила. Как закон тяготения Ньютона, так и открытые им законы движения не допускают такой эквилибристики небесных тел, какую постулировал Великовский. Остановка или даже приостановка вращения Земли должны были вызвать куда более трагические последствия, вплоть до уничтожения всего живого. Нефть образовалась на Земле совершенно иным путем. Геологические данные начисто отрицают наличие тех следов, которые должны были оставить на лике планеты «катастрофы Великовского». Но автора теории «столкновений» все это нисколько не смущало. Как не смущало его, например, то простое обстоятельство, что «кометная манна» должна была выпадать на евреев непрерывно, а не с теми перерывами на субботу, которые описываются в Библии. Для Великовского всё, что было написано в Библии, сомнению не подлежало, — оно подлежало «объяснению». И он последовательно находил такие «объяснения» каждой фразе, каждому слову Библии. К своей «теории катастроф» он пришел как раз движимый жгучим стремлением «научно» объяснить библейское описание чудес еврейского исхода из Египта. Все остальное в этой теории было попросту придумыванием таких псевдонаучных «объяснений». Если бы Великовский был первым, придумавшим такую теорию, ему хоть принадлежал бы приоритет открытия новой области псевдонауки. Увы, даже этого приоритета он не заслужил. У него были по меньшей мере два примечательных предшественника. Каждый из них подкреплял свою теорию теми же мифами и легендами, и каждый придумал ее для объяснения того же библейского текста. Первым из них был Уильям Уинстон, британский священник и математик, опубликовавший свою книгу «Новая теория Земли» еще в 1696 году. К тому времени уже было известно, что Земля кругла, и многие священники стали искать в библейских текстах доказательства того, что именно это в них и говорилось. Уинстон использовал в качестве такого доказательства слова пророка Исайи: «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли». Где круг — там шар, рассудил Уинстон и, ободренный этим первым успехом, взялся выводить из той же Библии все остальные факты современной ему науки. Написано, что земля была безвидна и пуста — значит, она находилась в хвосте огромной кометы (и тут комета!), и этот хвост поглощал весь солнечный свет. Не написано, что она вращалась вокруг своей оси — значит, поначалу и не вращалась. Поэтому каждый день был тогда равен году, и погода все время стояла ровная, теплая и приятная. А испортилась она лишь тогда, когда Земля — под воздействием все той же кометы — начала вращаться. А начала она делать это в наказание первым людям, Адаму и Еве, которые польстились на запретное яблоко. Но люди не вняли этому первому предостережению высшей силы и продолжали, как известно, грешить. Тогда в один злосчастный день, а точнее, по расчетам Уинстона, 28 ноября 2349 г. до н. э., Господь наслал на Землю вторую комету, водяной пар которой, придя в соприкосновение с земной атмосферой, обратился в дождь и вызвал потоп. Из-за выпадения на Землю большой массы воды ее собственная масса возросла, и вращение вокруг оси замедлилось — так сутки получили свою нынешнюю длительность. И так далее. Отличие от Великовского — только в том, что тут комет было две, не одна. Кроме того, у Уинстона — опять же в отличие от Великовского — всё это было разработано до мельчайших деталей и доказывалось с помощью математических формул. Возможно, именно наличие этих формул заставило великого Ньютона с большим энтузиазмом встретить книгу «ученого коллеги». Уинстон удостоился также похвал философа Джона Локка. В оправдание их обоих, следует сказать, что в те времена геологические и астрономические сведения были еще довольно скудны и проверить гипотезы Уинстона было практически невозможно. Брошенная Уистоном идея, что Земля переживала периоды больших катастроф и ответственны за них были кометы, воспламенила воображение многих последователей, и в 1822 году американец Игнациус Доннелли подхватил и использовал ее в своей нашумевшей книге «Рагнарок». Доннелли был очень колоритной политической фигурой. Благодаря выдающимся ораторским способностям и своей программе аграрных реформ он уже в 28 лет стал вице-губернатором штата Миннесота. Позднее он стал конгрессменом и сенатором. Кроме того, он был незаурядным писателем, автором двух увлекательных романов, второй из которых, «Колонна Цезаря», можно было бы по праву назвать предшественником всех современных антиутопий: в нем изображалась Америка XXI века, в которой восторжествовало что-то вроде фашизма. И вдобавок ко всему Доннелли был буквально помешан сразу на трех псевдонаучных идеях — на существовании Атлантиды, на тайном шифре, которым якобы написаны пьесы Шекспира, и на былых катастрофах в истории Земли, вызванными столкновениями с кометами. Первой он посвятил книгу «Атлантида», второй — сразу две книги: «Великая криптограмма» и «Шифр пьес», а третью изложил в «Рагнароке». Слово «Рагнарок» Доннелли заимствовал из древней скандинавской мифологии, где оно означало гибель богов и всего мира. В древнескандинавском «Прорицании вельвы» рассказывается о почерневшем солнце, испепеляющем жаре, падении звезд с неба, землетрясениях и земле, погружающейся в море. Двести страниц книги Доннелли посвящены пересказу этих и всевозможных других мифов и легенд, которые, по мнению автора, доказывали, что последнему ледниковому периоду предшествовала гигантская катастрофа, вызванная приблизившейся к Земле огромной кометой. Эти описания крайне похожи на соответствующие места в книге Великоватого: те же землетрясения, обрушивание и подъем гор, наводнения и метеорные дожди, бури и чудовищная жара. Доннелли утверждал, что остатком этой великой катастрофы являются те гравийные породы, которые там и сям обнаруживаются на планете. Он отвергал мнение геологов, будто эти породы являются следом прохождения ледников. Напротив, говорил он, ледники появились как раз в результате кометной катастрофы. Пыль настолько затмила солнечный свет, что на Земле наступила Эра Мрака, сопровождавшаяся резким похолоданием и образованием ледников. Доннелли предвосхитил Великовского даже в том, что связывал с кометой «остановку Солнца», описанную в библейском рассказе об Йегошуа бин-Нуне (Иисусе Навине). Трудно сказать, верил ли сам Доннелли в то, что написал в своей книге. Астрономические и геологические познания в его время были уже вполне достаточны, а сам он был вполне образованным человеком, чтобы быть с ними знакомым. Как бы то ни было, ученые-современники обошли его «Рагнарок» полным молчанием, отнеся его к разряду фантастических повестей, хотя широкая публика жадно расхватывала экземпляры в книжных лавках. Книга еще более укрепила популярность автора, и незадолго до смерти в 1901 году Доннелли был даже выдвинут кандидатом в вице-президенты Соединенных Штатов. Через 12 лет после его смерти венский горный инженер Ганс Хербигер выпустил в свет монументальный, 790-страничный том под названием «Тлациальная космогония», в которой излагал еще более причудливую космогоническую теорию, со временем завоевавшую еще более широкую, а главное — куда более влиятельную аудиторию. «Космогония» Хербигера стала особенно популярной во времена подъема нацизма с его антиинтеллектуальной, мистической духовной атмосферой. Именно тогда она пришлась особенно ко двору и была подхвачена миллионами фанатичных последователей, включая самого Гитлера и многих его приближенных. Она превратилась в своеобразный культ, получивший, наименование WEL (сокращение немецкого слова «Welt-eis-lehre», или «Учение о мировом льде»). История этого культа описана во многих книгах. Бывший немецкий ракетный инженер Вилли Лей посвятил ей подробную статью «Псевдонаука в стране нацистов», в которой рассказывал, что школа Хербигера функционировала как настоящее политическое движение, к тому же крайне тоталитарное. Она выпускала сотни тысяч листовок, брошюр и плакатов, публиковала специальный журнал «Ключ к мировым событиям» и созывала регулярные митинги сторонников, проходившие под лозунгами «Долой астрономические догмы, да здравствует Хербигер!». Сам автор писал тому же Лею: «Либо вы примете мою доктрину, либо будете объявлены изменником родины и врагом народа…» В список таких «врагов» у Хербигера попали, разумеется, все ведущие астрофизики и астрономы мира, поскольку они не хотели признать его «доктрину». В чем же она состояла? В отличие от предшественников, Хербигер считал виновниками земных катастроф не кометы, а спутники Земли. До нынешней Луны Земля, по его утверждению, уже имела шесть таких спутников. Все они. один за другим последовательно падали на Землю, что и вызывало-известные нам катаклизмы в ее геологической истории. Причины этих падений были те же, по которым со временем и все планеты упадут на Солнце. Дело в том, говорит Хербигер, что так называемая «Вселенная» — в действительности всего лишь огромная пустота в еще более огромной глыбе космического льда, наполненная разреженным водородом, который тормозит движение планет! Сами планеты — это оторвавшиеся от глыбы обломки, которые по спиралям приближаются к находящемуся в центре Солнцу. Более мелкие обломки могут захватываться более крупными и становиться их спутниками. Вот так у Земли и появились все ее предыдущие спутники-луны. Больше всех из них Хербигера интересовал предпоследний, потому что его существование, как он считал, совпало с появлением на Земле человечества и потому могло быть зафиксировано в мифах и легендах народов мира. Эти фольклорные свидетельства он называл «окаменевшей историей предлунной культуры». Собрав такие свидетельства воедино, Хербигер вывел из них связную «картину» тех давних событий. По мере того как предпоследний спутник приближался к Земле, он все больше притягивал к себе ее океаны и моря, и вода повсюду поднималась. Чтобы избежать потопа, люди мигрировали на возвышенности в Тибет, на Боливийское плато, в Мексику и тому подобные места. Под конец спутник опоясывал Землю по шесть раз в день, затмевая собой даже солнечный свет, а его изъеденная кратерами поверхность нависала над планетой так низко, что люди стали считать его живым существом; отсюда взялись легенды о драконах и прочих летающих чудовищах, а в иудео-христианской мифологии — представление о Сатане. Затем под влиянием Земли ледяной спутник распался на части, которые стали выпадать на Землю сначала в виде водяного потопа, а затем — в виде града огромных осколков. Земля тоже претерпела влияние спутника — она вытянулась в виде эллипсоида, а потом вернулась к сферической форме, и поднятый притяжением спутника водяной вал растекся по всей планете, вызвав «Ноев потоп». После этой катастрофы наступило великое затишье, которое и отразилось в мифах о рае. Но это состояние кончилось, когда Земля захватила нынешнюю Луну. Появление спутника опять сопровождалось катаклизмами, в ходе которых погибла Атлантида и наступил четвертичный период. Это произошло примерно 13 500 лет назад, то есть так недавно, что память об этом событии сохранилась не только в мифах, но и в коллективном подсознании человечества, в виде страха перед падением Луны на Землю. По Хербигеру, страх этот вполне обоснован: наша Луна тоже должна рухнуть, и человечеству грозят неслыханные беды. Теория «космического льда» была, конечно, безумной, но последовательной в своем безумии. Не только планеты, но и Млечный путь, говорил Хербигер, — это куски льда в пустоте. Трещины в ледяной поверхности Марса — это как раз и есть знаменитые «каналы». Ледяные глыбы заслоняют от нас поверхность Солнца — это т. н. «солнечные пятна». А когда Хербигеру показывали сделанные астрономами фотографии планет и звезд, он просто отшвыривал их со словами: «Еврейская фальшивка!» Зарубежные астрономы могли посмеиваться над этим истерическим и безумным культом; немецким было не до смеха: министерство пропаганды Геббельса объявило, что «нельзя стать хорошим национал-социалистом, если не веришь в теорию космического льда». В брошюре министерства заявлялось, что «наши нордические предки выросли сильными благодаря льду и снегу; вера в космический лед — это историческое наследие подлинного арийца; и подобно тому, как сын Австрии Гитлер покончил с еврейским засильем в политике, так сын Австрии Хербигер покончил с еврейским засильем в науке». Сам Хербигер умер в 1931 году. Но его доктрина еще долго продолжала воодушевлять соотечественников. Гитлер твердо верил, что призван очистить Землю от «карликовых рас», заполонивших ее в период предыдущей космической катастрофы, и приготовить планету для владычества «арийских гигантов» к моменту наступления следующего катаклизма — падения Луны. Так что его посланцы далеко не случайно организовывали «научные» экспедиции в Тибет. Приверженцы теории Хербигера и поныне существуют в Германии и других странах. Существуют и миллионы приверженцев теории Великовского. Видимо, псевдонауку легче разоблачить, чем вытравить из сознания людей. И чем грандиознее ее «теории», тем вернее они удостаиваются успеха. Рядовые граждане упорно продолжают подозревать ученых в преступном сговоре против человечества. Величественные и прекрасные в своей грандиозности катастрофы возбуждают их воображение куда сильней, чем прозаические и сложные научные теории. Но, может быть, в этом тоже сказывается наша человеческая сущность. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман…» Вот уж у этой истины всегда будут миллионы последователей. ГЛАВА 4ПУПОК АДАМА Откуда взялись ископаемые окаменелости? Как образовались различные геологические слои? Любой современный ученый ответит, что это — памятники древнего прошлого Земли. Но не всякий верующий человек с ним согласится. Многие верующие до сих пор цепко держатся за доктрину Божественного Творения, произошедшего пять тысяч и сколько-то там еще лет тому назад и занявшего ровно шесть дней с последующим отдыхом в субботу. Чтобы объяснить происхождение окаменелостей, этим людям приходится пускаться во все тяжкие и проявлять недюжинную изобретательность. Они утверждают, например, что окаменелости — это остатки Ноева потопа, а то и дело «рук» самого Всевышнего, который нарочно насовал их в землю, чтобы задать нам неразрешимую загадку. (Некоторые, правда, утверждают, что это сделал Сатана.) Одним из самых ревностных глашатаев Божественного происхождения окаменелостей был немецкий ученый XVIII века Иоганн Берингер. В своей монографии он привел множество рисунков с изображениями найденных им в окрестностях Вюрцбурга окаменелостей, украшенных изображениями Луны и Солнца, а то даже и краткими надписями на древнееврейском. Борьба Берингера в защиту доктрины Божественного Творения завершилась в тот несчастливый день, когда он нашел окаменелость, на которой было написано его собственное имя! Оказалось, что и эту, и все прежние находки подсовывали ему его же студенты. Рассказывают, что в течение еще многих лет Берингер повсюду скупал уцелевшие экземпляры своей монографии и беспощадно их уничтожал. Однако история борьбы «креационистов» (верящих в акт Творения) с эволюционистами знавала и более забавные моменты. Особо яростный характер приняла эта борьба после опубликования в 1859 году дарвиновского «Происхождения видов», и одним из самых оригинальных ответов на эту книгу стала появившаяся вскоре многосотстраничная монография британского зоолога Филиппа Госсе «Омфалос». Омфалос — греческое слово, означающее «пупок», и пупок действительно играл ключевую роль в этой попытке доказать, что наличие окаменелостей и прочих аргументов в пользу эволюции нисколько не подрывает доктрину Божественного Творения. Доказательство Госсе было исключительным в своем роде: он призвал на помощь… пупок Адама. В самом деле, говорил он, мог же Господь сотворить Адама с пупком, как будто Адам родился от женщины, хотя на самом деле он был сотворен Всевышним. С таким же успехом мог сотворить Господь и все окаменелости разом. Всё это — такие же «следы никогда не имевшей места эволюции», как пупок Адама — «след» никогда не имевшего места биологического рождения первого человека. Предвидя возможные возражения, Госсе далее писал: «Кое-кто может сказать, что, создавая Землю вместе с помещенными в ней изначально окаменелыми остатками никогда на деле не существовавших организмов, Всевышний обманывал человека. Но разве, давая Адаму пупок, он ставил своей задачей обмануть нас и внушить, что Адам имел родителей?» Этот пресловутый пупок еще долго после книги Госсе не сходил с арены борьбы креационистов с эволюционистами. Уже в 50-е годы нашего века почтенный председатель комиссии по обороне Палаты представителей американского конгресса Карл Дурхэм сурово затребовал у одной газеты разъяснения: на каком основании она в одной из своих карикатур изобразила Адама и Еву с пупками? По мнению почтенного председателя уважаемой комиссии, эти пупки свидетельствовали о том, что сотрудники газеты — скрытые коммунисты: своей карикатурой пытаются подорвать основы христианской веры. Конгрессмен Дурхэм успокоился лишь после того, как газета разъяснила ему, что уже Микеланджело изобразил наших прародителей с пупками — и где (?!) — на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане… Другой поворотный пункт в полемике креационистов обозначила книга американского профессора геологии из небольшого религиозного университета в штате Небраска, некого Джорджа Прайса, под названием «Новая геология». Геология, излагавшаяся Прайсом, действительно была «новой» — он начисто отрицал то мнение, будто расположение окаменелостей в геологических слоях свидетельствует о древности этих самых окаменелостей. «Ничего подобного!» — восклицал Прайс. Все геологи вертятся в порочном кругу: они определяют возраст слоев по окаменелостям, а возраст окаменелостей — по слоям. Но даже если принять их выводы, то остается фактом, что множество «якобы древних» ископаемых останков обнаруживается в более верхних (то есть более молодых) слоях, а множество окаменелостей более молоды — в слоях пониже, то есть более старых. Прайс, разумеется, жульничал. Никакого такого «множества» не было. Было несколько сотен случаев обнаружения «обратной последовательности» (на миллионы случаев правильного расположения ископаемых останков), и он это прекрасно знал. Не мог он не знать и того, что все эти «неправильные» случаи давно уже объяснены произошедшими в более поздние времена переворотами пластов в результате сдвигов, сбросов и других геологических подвижек. И во всех этих случаях следы таких сдвигов и сбросов прекрасно видны на самих слоях. И, наконец, у геологов к тому времени давно уже были способы независимого определения возраста слоев, так что «порочный круг», о котором говорил Прайс, существовал только в его воображении. Тем не менее на верующих читателей книга Прайса произвела сильное впечатление. Еще бы — профессор геологии! Это впечатление лишь усиливалось тем, что Прайс предлагал и свое оригинальное объяснение сходству человека с обезьяной — сходству, которое так подрывало основы веры в Творение и укрепляло идею эволюции. Согласно Прайсу, это сходство вовсе не доказывает, будто человек произошел от обезьяны. Это обезьяна возникла из человека! «Нет никаких доказательств, — писал Прайс, — будто так называемые человекоподобные обезьяны существовали до Ноева потопа. Эти обезьяны — продукт скрещения человека с другими животными, уцелевшими в Ноевом ковчеге, точно так же, как такими гибридами являются негроидные и монголоидные расы. Если бы мне пришлось выбирать между утверждениями, что человек — это эволюционировавшая обезьяна и что обезьяна — это дегенерировавший человек, я бы, не колеблясь, выбрал второе». Это было написано в том же году, когда Гитлер в далекой Баварии создавал первый вариант «Майн кампф» и писал, что все неарийские расы возникли в результате «дегенеративного скрещения» праарийцев с обезьянами. Из второго издания своей книги Гитлер этот тезис изъял, но Прайс и в переизданиях оставался на прежних позициях. (Он только добавил к ним собственное толкование причин потопа: Землю, оказывается, в древности окружало кольцо мелких спутников, как у Сатурна; падение этих спутников на поверхность планеты и вызвало потоп.) В Англии главным пропагандистом теории Прайса были Арнольд Лунн (в своей книге «Бегство от разума» он доказывал, что ни один биологический вид не имеет никакой генеалогической связи с другими) и энергичный антиэволюционист Хиллер Беллок (его энергия могла сравниться только с его невежеством). Но, конечно, куда большую известность получили нападки на эволюцию знаменитого писателя (и ближайшего друга Беллока) Гилберта Честертона. В своей книге «Вечный человек» Честертон использовал все свое прославленное остроумие, чтобы убедить читателей, будто между человеком и животными лежит непроходимая пропасть. Человек разговаривает, смеется, рисует, шьет одежду, испытывает угрызения совести, верит в Бога, наконец, — а животные ничего этого не умеют. Разве это не доказывает, что между ними и нами не может и не могло быть никакого промежуточного звена? Никто почему-то не спросил Честертона, почему он не сравнивает своего «человека» с новорожденным ребенком: тот тоже не говорит, не рисует и не верит в Бога. А главное — не шьет! Потому что всему этому он научается в ходе своей эволюции во взрослого. Почему бы такой эволюции не быть причиной превращения обезьяны в человека? Вся эта борьба окончилась молчаливой капитуляцией религии. В 1950 году папа римский специальной энцикликой предостерег верующих от признания того, будто «происхождение человеческого тела из предсуществующей и живой материи является доказанным фактом», но… разрешил каждому из них верить в это, если тот пожелает. Многие верующие были сбиты с толку двусмысленностью энциклики, и большинство из них продолжало и продолжает придерживаться религиозной догмы о Творении. И точно так же продолжают появляться бесчисленные книги, в которых предлагаются все новые и новые доказательства этой догмы{1}. Упомянем только одно из них — самое, пожалуй, занятное. В книге «Бог или горилла» некто Альфред Мак-Канн написал не так давно, что «Дарвин ошибался, выводя человека из обезьяны, и доказательством его ошибки может служить найденный мною отпечаток обутой человеческой ноги в отложениях триасового периода. Этот отпечаток показывает, что уже первые люди ходили в обуви!» Рядом был приведен фотоснимок, на котором даже начинающий геолог без труда мог бы опознать самую обычную и вполне естественную вмятину в скальной породе, ничего общего с отпечатком подошвы не имеющую. Не будем, однако, торопиться с насмешками в адрес незадачливого Мак-Канна. А мы разве лучше? А разве многие из нас не передавали друг другу вычитанную у какого-нибудь Казанцева историю об обнаружении в Индии «нержавеющей стальной колонны многотысячелетней давности, изготовленной самым современным методом — методом порошковой металлургии»? И разве не обсуждали после этого, с пылом и страстью, возможность того, что «древним были доступны скрытые тайны и они обладали неизвестным нам знанием»? (Хотя, как выяснилось, «колонна» во дворе делийской мечети Кувват уль-ислам и не стальная, и благополучно ржавеет, и дата изготовления на ней отлита.) Да что там — многие и сегодня верят, что какая-нибудь мадам Блаватская или «тибетские монахи» в своем скрытом от человечества городе Шамбала сохранили это неведомое людям «Тайное знание» (именно так называется главный труд Блаватской) и ждут не дождутся передать его нам. А многие (вслед за той же Блаватской) уверяют, что у них это знание уже имеется и что с его помощью они готовы исцелять нас от любых болезней (долой конвенциональную медицину вместе с теорией эволюции и прочей наукой!), открывать нам наше будущее (на свалку причинность!), передавать наши мысли на расстояние (на свалку радио!), передвигать предметы силой собственной воли (физику — за борт), запечатлевать на фотографиях свою ауру (а то кто-то там сомневался, что душа существует!) и вообще гнуть вилки, не прикасаясь к ним, и водить машины с завязанными глазами. И мы им верим, вот что интересно. Даже университетские дипломы нам не мешают. Чем это лучше, чем верить в питекантропа в галошах на волосатую ногу или в Божественное происхождение Адамова пупка? ГЛАВА 5ЧУДЕСА И ВЕРОЯТНОСТИ Излечение больных — это основная форма, которую принимают чудеса в иудаизме и христианстве, как, впрочем, и в других религиях. При этом чаще всего чудеса связываются с молитвами, которые приносятся в местах поклонения. В католических регионах Европы, а также в некоторых исламских странах такое паломничество к святым местам в целях выздоровления по сей день остается массовым явлением. Но только относительно недавно были сделаны попытки проверить и оценить чудеса, которые молва связывает с этими местами. Одно из самых известных и посещаемых святых мест в христианской Европе — знаменитый Лурд — небольшой городок в юго-восточной Франции. Если верить легенде, именно здесь в 1858 году бедной пастушке по имени Бернадетта начала являться Дева Мария (это происходило в той пещере вблизи деревни, на месте которой сейчас построен грандиозный двухуровневый храм). В то время как местные власти пытались опровергнуть утверждения Бернадетты, крестьяне безоговорочно поверили ее рассказам, и через несколько месяцев в эту деревню в предгорьях Пиренеев начали прибывать первые паломники. Сегодня Лурд ежегодно посещают примерно 5 миллионов верующих, которые оставляют в городе свыше полутора миллиардов франков, потраченных на еду, жилье и религиозные сувениры. Больные начали прибывать в Лурд в значительных количествах уже в 1875 году. Почти сразу же некоторые из них стали утверждать, что сочетание молитвы и погружений в воды святого источника (открытого Бернадетте в ее видениях) чудесным образом повлияло на их здоровье. 8 лет спустя в городе была основана специальная медицинская комиссия для проверки этих утверждений. Ей было вменено в обязанность проверять все подобные заявления и отсеивать те из них, которые могли привести к подрыву веры в особые силы святого места — то ли вследствие искреннего заблуждения, то ли в результате преднамеренного обмана. Это должно было защитить святыню от скептиков, в которых никогда не было недостатка. (Так, знаменитый французский романист Эмиль Золя насмешлива спрашивал, почему среди костылей, отброшенных «исцелившимися», не было ни одной деревянной ноги.) Сегодня в Лурд ежегодно прибывает около 80 000 больных в надежде обрести чудесное исцеление. С 1862 по 1999 год в Лурде было зарегистрировано 6700 случаев таких исцелений. Однако католическая церковь признала чудесами лишь 66 из них, то есть около 1 процента. Иными словами, каждый год в Лурде объявляют себя исцелившимися примерно 50 человек, но признается действительно чудесно исцеленным только один человек за два года. Кстати, это распределение чудес во времени не остается постоянным: их число резко падает в последние десятилетия, и, например, за последние 40 лет Ватикан признал чудом всего 4 — исцеления, что составляет примерно одного на миллион (!) больных, посетивших Лурд за это время. Этот неумолимый и быстрый спад «чудопроизводства» объясняется, скорее всего, огромным прогрессом современной медицины. Медицинская наука играет центральную роль в том дотошном расследовании, которому подвергается каждый случай возможного чудесного выздоровления. И в результате такого расследования большинство этих случаев находят вполне рациональное медицинское объяснение. Руководство католической церкви, которое весьма дорожит репутацией столь популярного святого места, как лурдский храм Девы Марии, опирается на эти заключения ученых в своем решении признать или не признать те или иные исцеления чудесными и, соответственно, удостоить или не удостоить того, кому молился исцеленный «беатификации» (провозглашения блаженным) или «канонизации» (провозглашения святым). А вот последняя (из опубликованных) сводка с фронта лурдских чудес. В 1999 году объявили о своем чудесном исцелении 19 человек. По сообщению нынешнего главы медицинской комиссии Патрика Теллье, 6 из этих случаев были признаны заслуживающими дальнейшего рассмотрения: одно ущемление диска, два рака яичника, рак груди, глухота и поражение кожи. Заслуживающими дальнейшего рассмотрения признаются лишь такие случаи, которые отвечают критериям, сформулированным папой Бенедиктом XIV еще в XVIII веке. Прежде всего исходная болезнь должна иметь точный и надежный диагноз и сопровождаться инвалидностью. Далее, исцеление должно быть внезапным, «на месте» и без какого-либо дополнительного медицинского вмешательства. Оно должно быть также полным, то есть полностью и навсегда возвращающим исцеленному нормальное здоровье. Подлежат рассмотрению любые заболевания, кроме психических, которые трудно точно-диагностировать и излечение от которых трудно оценить. Случаи исцеления, переданные на рассмотрение комиссии, проверяются самым придирчивым образом. Вначале пациент подвергается обследованию лурдскими врачами, которые фиксируют его состояние после «чуда». Попутно комиссия выясняет все детали его предшествующей болезни у лечащего врача по месту жительства. Затем пациента отправляют домой с тем, чтобы он в течение года подвергался медицинскому наблюдению. Через год он возвращается в Лурд на повторное обследование: На этот раз им занимаются члены лурдской Международной ассоциации врачей. В общей сложности до 250 разных докторов всесторонне осматривают, исследуют, изучают и наблюдают кандидата в «чудесно исцеленные» на протяжении целых трех лет. И лишь при условии, что случай выдерживает все эти проверки, он передается в Международную комиссию экспертов, состоящую из 20 человек, которые голосуют, признать ли его окончательно необъяснимым с точки зрения сегодняшних научно-медицинских познаний. Последнее (на местном уровне) слово в провозглашении исцеления чудесным принадлежит исключительно епископу той епархии, где проживает пациент. Епископ и его советники решают, имеет ли исцеление особое значение, достаточное для укрепления веры в Бога у свидетелей чуда, включая самого исцеленного. После этого дело передается в Ватикан, где решается, достоин ли человек, которому молились о выздоровлении, звания блаженного или святого. Одной из таких святых была объявлена монахиня Катарина Дрексель, умершая в 1955 году. Наследница большого банковского состояния, она отказалась от богатства и посвятила свою жизнь религии, а также образованию угнетенных негров и индейцев. В 1988 году она была беатифицирована, т. е. получила титул блаженной. Нынешнее решение провозгласить Катарину святой было принято в результате чудесного исцеления от глухоты 7-летней девочки, мать которой, отчаявшись найти помощь у врачей, пришла с ней в Лурд и взмолилась о заступничестве к сестре Катарине, после чего обнаружила, что ее дочь внезапно и полностью исцелилась. Весь легион медицинских экспертов, консультирующих Ватикан, не смог дать однозначного ответа на вопрос, является этот случай следствием молитвы, естественных причин или простого совпадения того и другого. Результаты расследования экспертной комиссии заняли 700 страниц, содержащих всю историю болезни девочки, интервью с лечившими и проверявшими ее врачами, свидетельства друзей и родственников по поводу ее болезни и выздоровления, а также мнения о времени и природе предполагаемого святого заступничества. Затем этот том был передан Коллегии теологических консультантов, 9 членов которой оценили меру связи между молитвой и внезапным исцелением. В дополнение к этому было проведено также голосование среди епископов и кардиналов. И только тогда рекомендация о признании данного случая чудом была передана папе, которому, как всегда, принадлежит последнее слово. (Кстати говоря, недавно умерший папа Иоанн Павел Второй с 1978 года беатифицировал 984 и канонизировал 296 человек — больше, чем любой из его предшественников.) Развитие медицины влияет на весь этот процесс принятия решений в целом ряде аспектов. Современная медицина и сама способна производить «чудеса», а поскольку больные, как правило, проходят лечение до того, как приходят в Лурд, их исцеление здесь может быть просто отсроченным результатом предыдущего лечения. Так, медицинская комиссия расследовала однажды случай выздоровления женщины с тяжелым полиартритом, который изуродовал большинство ее суставов; пройдя лурдские ритуалы, она снова смогла двигаться. Но поскольку она перед этим принимала лечение кортизоном, комиссия не признала ее излечение «однозначно необъяснимым». Учет предшествующих лечебных процедур существенно уменьшает число претендентов на чудесное исцеление. На принятие решений оказывает влияние и новая медицинская технология. С одной стороны, она усложняет вынесение медицинского вердикта, поскольку весь процесс проверки занимает теперь больше времени, проходя многочисленные лабораторные тесты и клинические испытания. Но те же новые методы зачастую, помогают облегчить принятие решений. Врачи получают доступ к информации о всякого рода — случаях неожиданного излечения, не связанных ни с какими чудесами. Например, такие случаи иногда, хотя и редко, происходят в результате спонтанной ремиссии болезни. (Это может быть в действительности внезапным проявлением длительного скрытого процесса.) Имея доступ к Интернету, лурдские врачи получают информацию о таких событиях, и это позволяет им сравнить свои (довольно немногочисленные) случаи с большим числом аналогичных. Новые методы позволяют также исключить самые распространенные случаи ошибочной или сомнительной диагностики. Поучителен в этом плане случай одного француза, страдавшего рассеянным склерозом и излечившегося в результате посещения Лурда в 1987 году: лурдская комиссия, проверявшая этот случай уже в 90-е годы, смогла подтвердить факт его выздоровления с помощью магнитно-резонансного метода, но не смогла проверить, правилен ли был его диагноз, поскольку в 80-е годы этот метод еще не существовал и лечащий врач основывался исключительно на симптомах; комиссии пришлось признать этот случай «медицински необъяснимым». (Впрочем, епископ, которому был направлен этот вердикт, понял сомнительность исцеления и нашел формулу, позволявшую обойти упоминание о чуде, объявив выздоровление больного «личным даром Господа».) Этот случай особенно наглядно иллюстрирует главное в проблеме «чудесных исцелений». Их «чудесность» всегда определяется сиюминутным уровнем медицинских знаний и возможностей. То, что комиссия еще 10 лет назад вынуждена была бы счесть «медицински необъяснимым», сегодня или завтра перестает быть таковым и получает вполне естественное объяснение. Еще недавно, например, не было известно, что человеческие гены, от которых зависит состояние организма, могут порой менять свою активность «сами по себе», по неизвестной (пока) причине приводя к результатам, которые лишь вчера могли бы быть восприняты как чудо. Впрочем, это развитие медицины влияет скорее лишь на признание или непризнание церковью того или иного «чудесного» исцеления ситуации с самими чудесами оно не меняет. Лурдские чудеса продолжают в равной степени убеждать верующих и вызывать недоверие скептиков. ГЛАВА 6МЕТАФИЗИКА ЗАКОНА МЭРФИ Герой одного из американских телесериалов, преследуемый бесконечными неприятностями, в конце концов восклицает: «Ну почему, почему все шишки валятся именно на меня? За что?» Со времен Иова люди пытались по-всякому ответить на этот вопрос. Самой забавной попыткой такого ответа, несомненно, является так называемый закон Мэрфи. Закон этот, как известно, гласит (в одном из переводов): «Все, что может пойти наперекосяк, обязательно пойдет наперекосяк». Эта унылая уверенность в злокозненности всего сущего вызывает у нас невольную улыбку, но улыбаемся мы как-то судорожно, словно и впрямь подозреваем, что так оно и есть. С одной стороны, у нас вроде бы нет никаких оснований предполагать, будто все мелкие гадости природы и в самом деле обусловлены какой-то космической «закономерностью», а с другой, кто же, в очередной раз, столкнувшись с досадной незадачей, не восклицал: «А что я говорил!»? В чем же кроется источник этого нашего фаталистического недоверия к окружающему миру? Не разъяснят ли нам это как раз закон Мэрфи и его бесчисленные насмешливые следствия? Профессор религиоведения из университета Нью-Джерси Роберт М. Прайс предпринял недавно попытку проанализировать метафизическую, так сказать, сторону всех этих законов, иными словами, тот взгляд на устройство бытия, который в них — когда подспудно, а когда вполне откровенно — выражен. Оказалось, что у всех этих вызывающих нашу улыбку высказываний есть свой общий и весьма глубокий подтекст. Прежде всего, говорит профессор Прайс, совокупность всех следствий, выведенных из основного закона Мэрфи, нетрудно разделить на три большие и, в сущности, очень разные, группы. Первая из них на самом деле характеризует не столько окружающий мир, сколько попросту нашу человеческую природу. Ну о чем, к примеру, говорит так называемый второй закон Финагля: «Каков бы ни был ожидаемый результат, всегда найдется кто-нибудь, кто его переврет, подделает или припишет себе»? Да ведь это самая элементарная констатация того печального факта, что среди людей полным-полно дураков, жуликов и завистников. О том же неизбывном и неприглядном аспекте человеческого бытия говорит, в сущности, и закон Чизолма: «Если ваше объяснение абсолютно исключает возможность неправильного толкования, обязательно найдется человек, который истолкует его неправильно». А восьмое следствие из закона Мэрфи формулирует это уже совсем откровенно: «Невозможно изобрести абсолютную защиту от дурака, потому что дураки невероятно изобретательны». Иными словами, определенную часть всех наших житейских неприятностей доставляют нам вовсе не какие-то злокозненные демоны, а просто наши же собратья по человеческому роду. Вторая группа следствий из закона Мэрфи — это, по сути, юмористическая перефразировка известного закона энтропии, или, как его еще называют, второго закона термодинамики. Напомним читателю, что этот закон утверждает, что состояние любой замкнутой физической системы всегда меняется так, что порядок и организация в ней неизбежно сменяются нарастающим хаосом и беспорядком. И действительно, перелистав книжки, посвященные закону Мэрфи, нетрудно обнаружить там множество высказываний, иносказательно формулирующих это же самое утверждение, только на более житейский лад. В самом деле, разве не об этом гласит, например, закон Симона: «Все, что удалось составить, рано или поздно обязательно развалится»? Или пятое следствие из закона Мэрфи: «Предоставленные сами себе, дела имеют склонность становиться из плохих худшими»? А так называемый «закон сохранения социального зла» попросту переносит ту же закономерность на все наши благие намерения по части общественного переустройства, утверждая, что «общее количество социального зла всегда остается неизменным и поэтому, скажем, уменьшение безработицы обязательно влечет за собой что-нибудь вроде увеличения преступности». Все это, конечно, достойно сожаления, но ничего загадочного или мистического здесь явно не обнаруживается. Так уж устроен мир. Настоящая проблема, говорит профессор Прайс, возникает при переходе к законам третьей группы. Он предлагает назвать их «законами негативной синхронности». Это странное и на первый взгляд непонятное название связано с одной теорией знаменитого швейцарского психолога Карла Густава Юнга. Об этой его работе мы скажем чуть погодя, а сейчас объясним, какие именно законы Прайс предлагает выделить в отдельную группу и почему к «законам негативной синхронности» он относит все те высказывания типа закона Мэрфи, которые, в отличие от законов первых двух групп, представляются отражением некой реальной закономерности природы, а конкретней говоря — того тревожного факта, что в определенных случаях природа ведет себя так, словно и впрямь стремится помешать всем нашим намерениям. Вещи ведут себя так, будто находятся в явном сговоре против нас. В сущности, это утверждает уже и сам основной закон Мэрфи: «Если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк». Но ту же мысль выражает и третье следствие закона: «Если может произойти несколько неприятностей, то произойдет та из них, которая причинит наибольший ущерб». О наличии «космического сговора» говорят и многие другие законы. Например, третий закон Джонсона: «Если в вашей подшивке недостает какого-то номера журнала, то это обязательно окажется номер с самой важной для вас статьей»; или, четырнадцатое следствие Атвуда: «На библиотечной полке будут все книги, кроме той, которая вам больше всего нужна»; или закон Буба: «То, что вы ищете, всегда находится там, куда вы заглядываете в последнюю очередь»; или, наконец, замечательное своей всеобщностью и выразительной точностью «дополнение Дженнингса к закону избирательной гравитации»: «Вероятность падения бутерброда на ковер намазанной стороной прямо пропорциональна стоимости ковра». Что же такое выражают собой все эти пессимистические утверждения? — спрашивает профессор Прайс. С одной стороны, все перечисленные выше житейские неприятности никак нельзя объяснить законом роста энтропии, то есть беспорядка: если здесь и можно говорить о «нарушении порядка», то лишь в том случае, если «порядком» мы условимся называть только то, что приятней нам самим — например, чтобы нужный номер журнала оказался в подшивке, нужная книга — на полке, затерявшийся предмет — прямо перед носом, и если уж бутерброду приспичило упасть на ковер, пусть падает ненамазанной стороной. Вот это, с нашей точки зрения, будет «в порядке». Природа, однако, все эти наши претензии не признает: с ее точки зрения, физический порядок (или, если угодно, беспорядок) в системе «ковер — бутерброд» будет совершенно одинаковым, упадет бутерброд намазанной или не намазанной стороной, — ковру это абсолютно без разницы. Но, может быть, все дело тут опять же в наших человеческих особенностях? Может, «закон избирательной гравитации» — это попросту «закон избирательной памяти»? Все те случаи, когда бутерброд падает ненамазанной стороной, мы немедленно забываем: ведь ничего плохого не произошло; зато испачканный ковер запоминаем, естественно, надолго. Вот в результате нам и кажется, что нас непрестанно подстерегают одни только неприятности: все бутерброды имеют некую злобную склонность «всегда» падать маслом на ковер! Если дело всего лишь в этом, то законы, которые мы вслед за профессором Прайсом торжественно назвали «законами негативной синхронности», были бы просто отражением того тривиального факта, что мы склонны забывать все хорошее и, напротив, запоминать всё дурное; иными словами, они сводились бы к тем же законам первой группы, которые описывают все прочие не самые замечательные особенности нашей натуры. Увы, говорит профессор Прайс, такое объяснение слишком поверхностно. Попробуйте напрячь свою память и припомнить, сколько раз в жизни вам случалось уронить бутерброд ненамазанной стороной? То-то! Нет, неприятности явно доминируют. И поэтому следует присмотреться к законам третьей группы более внимательно. А заодно уж и объяснить, почему они объединены под названием «законов негативной синхронности». Тут нам придется на время прервать нить рассуждений американского профессора и обратиться к самому термину «синхронность». В психологию его впервые ввел уже упомянутый выше Юнг. Одна из загадок, которые всю жизнь занимали этого психолога, состояла в том, как объяснить всевозможные «реальные совпадения» вроде вещих снов, услышанных Господом молитв, магических исцелений, исполнившихся предсказаний и тому подобных чудес. Юнг относился ко всем этим явлениям весьма серьезно, но отвергал те сверхъестественные объяснения, которые им обычно давались. Его любопытство еще более провоцировалось тем, что он и сам знавал такие случаи в своей собственной жизни (да и кто их не знавал?! — или хотя бы о них не слышал?!). Он, например, описывает одну свою пациентку, которой снилось, что она получила в подарок золотого жука. В тот самый момент, когда она рассказывала ему этот свой сон, Юнг вдруг услышал негромкое постукивание чьих-то лапок по оконному стеклу. Он глянул в окно и увидел жука, который пытался проникнуть в комнату. Жук этот был в точности похож на того, которого описывала пациентка. Юнг признавал, что, все эти явления относятся к разряду «совпадений» — в том смысле, что между ними нет никакой причинно-следственной связи. Тот факт, что пациентке снился жук, никак не мог повлечь за собой появление жука на оконном стекле, это очевидно. С чем, однако, Юнг не соглашался, так это с тем, будто такие совпадения случайны — в том смысле, что ничего собою не выражают и никакого значения не имеют. Напротив, он был убежден, — что среди всей массы действительно случайных, ничего не значащих совпадений попадаются и такие, которые выражают некую реальную связь, существующую между нашими психологическими состояниями и тем, что происходит или может произойти в окружающем физическом мире. Иными словами, существуют, говорил он, «значимые совпадения» — они «что-то значат». Они значат, или, точнее, они доказывают, что между содержимым нашей психики и событиями природы существует некая «синхронность». «Само но себе это слово, — писал Юнг, — еще ничего не объясняет; оно просто фиксирует факт появления «значимых совпадений» (то есть синхронного, практически одновременного появления каких-то состояний — снов, «озарений», предчувствий и т. п. — в психике и каких-то сходных с этими снами, предчувствиями и т. д. событий в реальности. — Р.Н.). Эти совпадения, с одной стороны, конечно, случайны, но, с другой, настолько маловероятны, что приходится предположить существование за ними какого-то объективного закона, какой-то реальной особенности окружающего мира, запечатленной и время от времени всплывающей в нашей психике». После долгих размышлений над смыслом этих совпадений Юнг пришел к выводу, что правы были те древние мыслители, которые утверждали, что между внутренним миром человека (его «психикой») и внешним миром природы (ее «физикой») существует определенное гармоническое единство. По мнению Юнга, эти два мира, микрокосм и макрокосм, объединены через так называемые архетипы. Этим словом Юнг обозначил некие смутные праобразы, или сгустки невыразимых идей, таящиеся на самом глубоком уровне человеческой психики — на уровне так называемого «коллективного бессознательного». По Юнгу, это уровень общечеловеческой наследственной памяти. Но архетипы, утверждал Юнг, — совсем не то же самое, что обычные воспоминания, которые откладываются в памяти каждого отдельного человека за время его жизни. Было бы точнее сказать, что архетипы — это «воспоминания» или «догадки» о каких-то предельно общих закономерностях окружающего мира, некогда уловленных первобытным человеком в ходе его неосознанных наблюдений за природой и космосом. Иными словами, архетипы — это что-то вроде платоновских «чистых идей», которые существуют сами по-себе, до всяких конкретных вещей; это «закономерности как таковые», которые первобытная психика в невообразимо далеком, архаическом прошлом неосознанно «извлекла» из мира конкретных явлений и запечатлела на самом первом этаже человеческой памяти. Поскольку эти «сгустки чистых идей» выражают объективные законы мира, все первобытные люди извлекали из наблюдений за окружающим миром одни и те же сгустки, одни и те же архетипы — вот почему «склад» этих идей Юнг и назвал «коллективным бессознательным»: набор таких архетипов — один и тот же для всего человечества. Примером такого общего достояния является, скажем, присутствующий в самых разных религиях и мифах образ «богини-матери». Согласно Юнгу, этот образ порождается «архетипом бессмертия», который, в свою очередь, выражает ту реально существующую (и смутно уловленную когда-то первобытным сознанием) закономерность, что смена поколений, происходящая с помощью женщины, позволяет человечеству бесконечно продолжаться. Вот эта-то общая «идея бесконечного продолжения», только выраженная не в абстрактных понятиях, а в виде чувственно-образного архетипа, и вошла когда-то в общую кладовую архаических завоеваний человеческого разума; там она находится и сейчас. Когда мы сказали о «чувственно-образной» природе архетипа, мы просто хотели этим отличить его от абстрактного понятия. На самом деле архетип — это не вполне образ, во всяком случае — это не тот конкретный образ, каким является, например, образ богини-матери Геры или Богородицы Девы Марии. Он таится в «коллективном бессознательном» отнюдь не в виде готовой картинки. «Коллективное бессознательное» можно сравнить с насыщенным раствором какого-нибудь вещества; образ — с кристаллом, который вырастает из этого раствора, а архетип — с системой осей, с той геометрической структурой, в соответствии с которой располагаются атомы этого кристалла. Архетип — это не образ, а всего лишь та модель, та первосхема, в соответствии с которой психика бессознательно строит образ. Поскольку эта модель, эта «колодка», по которой «тачаются» все образы данного содержания, у всех людей одна и та же, то и все такие образы (скажем, той же богини-матери) будут иметь сходные структурные черты, хотя и могут бесконечно варьировать в конкретных деталях (ибо эти детали для постройки каждого конкретного образа психика берет уже из своего индивидуального «склада» воспоминаний). Именно существование такого единого закона построения данного класса образов (мифов, символов и т. п.), то есть существование их общего, универсального праобраза («архетип», от греческого «архе» — начало и «типос» — образ, в дословном переводе означает как раз «праобраз»), и объясняет, почему в различных мифологиях, религиях и литературах появляются устойчивые общие мотивы (миф о потопе, образ «тени» или «двойника», мотив «андрогина» и многое-многое другое). Томас Манн, который очень близко принял к сердцу эти идеи Юнга, когда-то очень выразительно назвал архетип «издревле заданной формулой, в которую укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы». Очень важно, что, по Юнгу, эта «древняя формула», которая всплывает, воплощенная в виде образа или символа, из бессознательных глубин нашей коллективной архаической памяти, была выловлена первобытной психикой из окружающего мира и, стало быть, объективно соответствует некой реальной закономерности бытия. Это означает, что содержание некоторых сновидений или предчувствий (тоже ведь выносящих в сознание древние архетипы) имеет какие-то реальные параллели во внешнем мире. Иными словами, во внешнем мире обязательно существуют (и могут синхронно с нашим сновидением произойти) события, которые отражают ту самую закономерность, что запечатлена в архетипе, лежащем в основе этого «пророческого сна». Вот почему Юнг и писал, что «гипотеза синхронности, по существу, означает, что одно и то же трансцендентное значение может синхронно проявиться как в виде некого психического явления, так и в виде совершенно не зависимого от него явления внешнего мира». Грубо говоря, человеку может присниться, что он стал бессмертным, и одновременно в окружающем мире может произойти что-то такое, что свидетельствует о бессмертии человеческого рода, — например, рождение у этого человека ребенка. Физически это совпадение, конечно, случайно, но на более глубоком — метафизическом — уровне оно имеет определенный смысл: оно «значит», что мир (и его отражение в нашей психике) действительно содержит «идею бессмертия» (как реальную возможность). Эта-то идея неожиданно всплыла из нашего «коллективного бессознательного» в виде «вещего сна». Разумеется, нет ничего удивительного в том, что он оказался вещим: случайно здесь то, что совпадение с реальностью произошло именно в данном конкретном случае, но совершенно закономерно, что в каких-то случаях оно обязательно должно было произойти. «Значимые совпадения» неизбежны, потому что в структуре образов, порождаемых нашими архетипами, отражена структура бытия. В каких-то случаях сновидение и реальное событие, отражающие один и тот же закон мирового устройства, должны обязательно совпасть во времени (оказаться «синхронными»), и тогда мы говорим о «вещем сне». В действительности это архетип, вернувшийся в сознание в виде сновидения, вдруг осветил нам подлинное устройство окружающего мира, его скрытые закономерности, его «порядок». Я должен извиниться за столь пространное отступление. Оно вызвано тем, что об архетипах и гипотезе синхронности Юнга зачастую толкуют понаслышке, а их точное понимание играет существенную роль в нашем обсуждении третьей группы законов Мэрфи. Возвращаясь к ним, мы должны снова дать слово профессору Прайсу. Он очень точно назвал все эти неприятные журнально-бутербродные совпадения проявлениями «негативной синхронности». Ведь и тут наши предчувствия «синхронны» с происходящими вслед за тем реальными событиями, только в данном случае эти события сплошь «негативны». Для нас, разумеется. Как же это понимать? Можно, конечно, сказать, что эта «негативная синхронность» вызвана тем, что в природе действительно существует та «злонамеренность» по отношению к нам, о которой говорят наши мрачные предчувствия, — иными словами, совпадения предчувствий с фактами порождены тем, что Господь играет с нами в коварные игры. Но разве не воскликнул когда-то с глубоким убеждением Эйнштейн, что «Господь Бог изощрен, но не злонамерен»?! Не станем же мы вслед за параноиками радостно восклицать, что «весь мир сговорился против нас»! Не такие уж мы, в конце концов, важные персоны для Господа Бога! Куда скромнее будет признать, что «негативные совпадения», описываемые третьей группой законов Мэрфи, в отличие от «значимых совпадений» Юнга, никакого скрытого смысла в окружающем мире не открывают, потому что такого смысла, какой мы им приписываем, в этом мире попросту нет. Но почему же мы все-таки склонны приписывать законам третьей группы этот зловещий смысл? По мнению профессора Прайса, это объясняется одной важной особенностью человеческой психики. Антропологи и психологи, говорит он, давно уже отметили, что людям свойственно жгучее желание обнаружить надежную предсказуемость (то есть, по существу, закономерность) во всем, что их окружает. Иными словами, им свойственно понятное желание знать, что их ожидает. В книге Густава Ягоды «Психология суеверий» приводится множество примеров того, как настойчиво цепляются люди за веру во всякого рода гороскопы, гадания и предсказания, даже вопреки многочисленным разочарованиям. Да мы и сами видим вокруг сотни тому примеров. Что же привлекает людей к этому способу ориентирования в окружающем мире, если способ этот столь явно недостоверен? Можно думать, что причиной тому являются случайные совпадения. Если даже данное заклинание, магическое действие или предсказание срабатывают лишь в половине случаев, это все равно дает человеку ощутимое психологическое облегчение. Все-таки почувствовать себя хотя бы наполовину «зрячим» в отношении будущего — совсем не то, что ощущать себя совершенно «слепым»! Но как, тем не менее, быть со второй половиной, когда данное заклинание или предсказание оказываются ошибочными? Нам обязательно нужно это «объяснить» — ведь иначе придется признать, что и прежние «удачи» были всего лишь случайными и никакой особой силы во всей этой мистике нет. А на это мы не согласны. Поэтому мы начинаем придумывать неудачам «рациональные» объяснения. Чудотворное средство не могло не сработать «просто так» — ведь сработало же оно в остальных случаях. Значит, была какая-то сила, которая действовала против нас! Чакры не открылись не потому, что никаких чакр нет вообще, а потому, что кто-то «злонамеренно» помешал им открыться. Бутерброд упал маслом на ковер не просто так, а потому, что подействовала «злая сила». Вера в существование такой силы сопровождает человечество с древнейших времен. Уже у древних греков была особая богиня (ее звали Эрис или Эрит), которая якобы непрерывно творит беспорядок, причем злонамеренно и коварно. Это же надо: придумать божество, которое управляет… беспорядком! Мы настолько боимся признать органически присущую природе непредсказуемость и случайность, что даже беспорядок возводим в некий порядок! Закон Мэрфи, заключает профессор Прайс, — это наша современная версия богини Эрис. В действительности нас должно было бы удивлять, что нам вообще удается что-либо осуществить в этом хаотическом и беспорядочном мире. Вместо этого мы приписываем этому миру некий желанный нам «внутренний порядок», воображаем, будто он устроен в полном соответствии со всеми нашими желаниями, а потом требуем объяснений, почему бутерброд куда чаще падает намазанной стороной и почему вообще «все, что может пойти наперекосяк, обязательно идет наперекосяк». Объясняя этот досадный факт скрытой злонамеренностью Вселенной и ее умышленным коварством! мы, конечно, не предотвращаем этим очередное падение бутерброда маслом на ковер, но, по крайней мере, утешаем себя тем, что «нашли» какую-то «закономерность». Ведь теперь мы уже не пребываем в ужасном неведении! Теперь мы уже «знаем», в чем «истинная» причина всех наших неприятностей! И теперь мы уже можем смело улыбнуться вместе с Мэрфи: молоток опять попал по больному пальцу? А что мы вам говорили?! Если что-нибудь может произойти не так, «как надо», оно обязательно произойдет именно не так, как надо, это же закон природы, его еще Мэрфи открыл… ГЛАВА 7ПСИХОЛОГИЯ СУЕВЕРИЙ, ИЛИ ТОСКА ПО УТРАЧЕННОЙ ГАРМОНИИ IЭтот очерк родился по читательской просьбе. Случилось так, что в одной из предыдущих статей («Метафизика закона Мэрфи») был бегло затронут вопрос о суевериях, и один из читателей, Игорь Губерман, автор повсеместно известных «гариков» (а в другой своей ипостаси — автор нескольких не менее известных научно-популярных книг по психологии), попросил меня рассказать об этом более подробно. Мне показалось, что эта просьба заслуживает внимания. Действительно, представляется порою странным, что в наши, казалось бы, предельно рационалистические времена распространение суеверий приобрело самые массовые масштабы. Достаточно вспомнить о мильенаристских и прочих апокалиптических пророчествах наших дней, а также о возродившемся массовом интересе к давним пророчествам Нострадамуса. Но проблема не исчерпывается одним лишь увлечением мистическими предсказаниями. Современные суеверия причудливо объединяют плохо переваренные гипотезы нынешней науки со столь же мистическим толкованием прошлого и настоящего. Приведу лишь один из сотен тысяч возможных примеров. Сравнительно недавно мне довелось прочесть статью некого молодого поклонника «нового каббалистического учения» рава Бэра, в которой вполне серьезно рассказывалось, что, стоя у горы Синай в ожидании Моисея, отправившегося на гору за скрижалями Завета, древние евреи были заняты тем, что соединяли проволочки, сооружая из них «электронную машину» для извлечения положительной астральной энергии из космоса. Поначалу рассуждения этого молодого человека поразили меня своим диким невежеством — чего стоят одни эти «проволочки» и «электронные машины» времен фараонов! Но затем, однако, я задумался. Вера автора в свой рассказ была ощутимо искренней. Что порождает эту веру? Что порождает веру миллионов других людей в аналогичные рассказы? Глубокая эмоциональная основа всех этих суеверий несомненна. Люди готовы с пеной у рта отстаивать то, что нам представляется заблуждением. Почему? На Западе существует Международное общество скептиков (и соответствующий журнал). Оно ставит своей целью научный анализ и опровержение всевозможных суеверий. Состоящие в обществе, кажется, убеждены, что такое рационалистическое просветительство принесет желанные плоды. Чем больше я сталкиваюсь с реальными носителями суеверий, тем больше начинаю сомневаться в успехе этой затеи. Люди могут работать на компьютерах и в то же время стучать по дереву от «сглаза». Тот же Игорь Губерман рассказывал мне, как в одной из российских деревень в современной избе, где стояли телевизор, холодильник и стиральная машина, ему довелось услышать рассказ о порче, которую местная ворожея наводила на молодого парня. В современной Англии каждый шестой взрослый верит в духов и каждый третий хоть раз да побывал у гадалки. Две трети англичан регулярно читают газетные гороскопы. В Германии цифры те же, в Северной Италии они даже выше. В одном из специально поставленных опытов 37 человек из 51 старались обойти приставленную к дому лестницу снаружи, а не пройти под ней, хотя, обходя ее, они вынуждены были выходить на мостовую, где риск попасть под машину был вполне реален — во всяком случае, реальнее, чем та сомнительная беда, которую могло вызвать прохождение под лестницей. Все это означает, что суеверия — вовсе не результат невежества. Это не привилегия первобытного или дикарского сознания. Скорее это глубокая психологическая потребность человека. Думается, следовало бы начинать не с «борьбы» с суевериями, а с попытки понять их происхождение, их психологическую и социальную роль в нашей жизни. Конечно, «искоренению» суеверий это вряд ли поможет, но, во всяком случае, вооружит нас небесполезным знанием. В том числе и знанием о самих себе. В надежде на это я вооружился терпением и проштудировал некоторые книги. Результатами этих штудий я и попытаюсь поделиться. А начну с поразившей меня исторической параллели. В книге итальянского исследователя Карло Гинцбурга «Ключи, мифы и исторический метод» я натолкнулся на описание инквизиционного процесса против жительницы города Модена Чиары Монсиньори. Дело было в 1519 году. Соседи обвинили Чиару в ведьмовстве. Инквизитор взялся за нее круто. Он действовал по всем правилам инквизиционного ритуала. Допросы следовали за допросами, и постепенно госпожа Монсиньори «раскалывалась». Она признала, что ей были видения Богоматери; признала, что, скорее всего, то была не Богоматерь, а дьявол; признала, что он наущал ее заниматься ворожбой и порчей; и только в одном продолжала упорствовать — ни за что не признавала, что участвовала в дьявольской черной мессе и напрямую сношалась с сатаной. Это спасло ей жизнь: инквизиционный трибунал решил, что ее покаяние искренне, и осудил ее всего лишь на пожизненное заточение в госпитале, где она должна была помогать бедным и больным. Граждане Модены с удовлетворением восприняли разоблачение злостной ведьмы и вынесенный ей приговор. Другой пример я почерпнул из этнографических наблюдений над обычаями угандийского племени Бвамба. Женщина Бвамба рассказала исследователю, как ее мать была обвинена в ведьмовстве своими соседями. Сначала по деревне прошел слух, что кто-то из жителей наводит порчу на людей. Был призван местный колдун, который с помощью принятого в племени ритуала «нашел» виновную. После этого (тоже в соответствии с ритуалом) было проведено расследование. Женщина призналась и покаялась. Она взяла свою ворожбу назад и была помилована. Жители села с удовлетворением восприняли выявление ведьмы и ее раскаяние. Модена XVI века и деревня племени Бвамба XX века разделены огромной культурной и цивилизационной пропастью. Тем не менее структура обоих случаев удивительно одинакова. И там, и тут обвинения в ведьмовстве отражали уверенность жителей в том, что источником постигших их неприятностей является чья-то злая воля. И там, и тут выявление и расследование происходили в соответствии с установленными ритуалами, причем ритуалу следовали не только обвинители, но и сами обвиняемые, которые признавали свою вину. И там, и тут разоблачение и наказание виновных привело к устранению источника конфликта и к восстановлению (хотя и временному) прежней социальной гармонии. Наконец, и там, и тут сама возможность такого процесса над ведьмой была обусловлена наличием глубоко укорененной в данном обществе веры в существование и злокозненную силу ведьм как таковых. В этих двух примерах представлены все главные аспекты интересующей нас проблемы. Сразу видно, что суеверие, будучи приметой индивидуальной психологии, одновременно является социальным явлением. Суеверие в коллективе играет не только «отрицательную», но зачастую и явно положительную роль. Оно коренится в каких-то особенностях мышления, которые не очень зависят от исторического периода, места, культуры и тому подобных частностей. Более того, то, что нам кажется очевидным суеверием, отнюдь не кажется таковым его носителям, а порой и всему обществу в целом. Понятие суеверия относительно. А порой то, что мы убежденно считаем суеверием, со временем оказывается даже вполне достоверным фактом. Образованные люди Англии смеялись над методами «народной медицины», а Дженнер использовал их для создания вакцины против оспы. Образованные посмеивались над поверьями, будто на развитие плода влияет то, что видит и переживает мать, а сейчас это общепризнано (хотя, разумеется, не в той почти смехотворной мере, как это считается в описанной выше дианетике). Открытие Рентгена тоже поначалу объявляли «мистикой». С другой стороны, анализ многих суеверий подчас показывает, что в них скрыта серьезная житейская мудрость. Тому же Губерману я обязан ярким примером такого мнимого суеверия: в русских деревнях принято, чтобы новобрачная входила в избу мужа с левой ноги; но этот обычай вынуждает ее более внимательно смотреть за своими шагами и предотвращает возможность споткнуться о высокий порог. Что же тогда вообще считать суеверием? Видимо, однозначного определения дать нельзя, и мы вынуждены примириться с относительностью этого понятия: суеверия — это те обычаи и поступки, которые представляются суеверными нам, современным, разумным и образованным западным людям, сегодня. Последнее добавление существенно. В свое время миссионеры называли суевериями буквально все обычаи дикарских племен. Англичане XVIII века считали предрассудками обычаи жителей континента. В «Словаре суеверий», выпущенном в начале нашего века, в числе прочих упоминаются такие «вздорные поверья», как агностицизм и социализм. Впрочем, с последним многие согласятся и сегодня. Может показаться, что существуют все-таки такие поверья, ложность которых может быть доказана однозначно. Увы, как бы много фактов ни накапливалось против какого-то убеждения (например, веры в существование лохнесского чудовища или в свойства «бермудского треугольника»), они не могут исключить возможности появления новых фактов, подтверждающих эту веру. Негативное доказательство, или доказательство отсутствия, никогда не может сравниться с доказательством позитивным, или доказательством наличия. Но и позитивное доказательство не всегда означает именно то, чем оно представляется. Положим, что мы провели специальное исследование: точно ли «понедельник 13-го числа» является «несчастливым днем». Вполне может выясниться, что в этот день действительно происходит больше несчастных случаев и неприятностей. Означает ли это, что данное сочетание является каким-то «мистическим»? Вовсе не обязательно. Ведь и суеверие, в свою очередь, тоже влияет на поведение человека. Если биржевые маклеры уверены, что понедельник или пятница, приходящиеся к тому же на 13-е число, являются несчастливыми, они постараются в этот день избавляться от акций, и показатель Доу-Джонса в этот день имеет все шансы упасть. Итак, точного определения понятия «суеверие» не решается дать ни один исследователь, кроме разве что самых заангажированных. Ограничимся поэтому субъективным ощущением и попробуем разобраться, нельзя ли хотя бы классифицировать суеверия. Один из читанных мною авторов (Ягода; в книге «Происхождение суеверий») такую классификацию намечает. Прежде всего он предлагает выделить широкий класс суеверий, связанных с космогоническими и космологическими представлениями, выросшими из языческих религий; это вера в наличие неких духов и т. п., которых нужно ублажать всевозможными магическими обрядами, ритуалами и заклинаниями. Сюда относится также вера в ведьмовство и колдовство. Эти суеверия занимают промежуточное место между собственно суевериями и религией. Далее идут обычаи и верования, которые также восходят к древней традиции, но уже не имеют внутренней связи и не образуют какой-то особой системы взглядов, а представляют собой разрозненный набор собственно суеверий вроде веры в дурной глаз или в приметы (рассыпанная соль, разбитое зеркало, черная кошка и т. п.) и действий, направленных на нейтрализацию их негативного влияния. Сюда относится также вера в народную (или иную экзотическую) медицину, в гороскопы, гадания и т. д. Эти суеверия создают почву для целой индустрии обслуживания — от торговли амулетами до астрологических компьютеров. Особняком стоят здесь группы людей, объединенных общим суеверием, но не зарабатывающих на нем, а всего лишь сотрудничающих в целях его распространения, — например, всех тех, кто верит в духов, летающие тарелки и т. п. Третью группу образуют мистические и оккультные переживания («видения», «голоса», «откровения») отдельных индивидуумов, а также чисто личные, «приватные» суеверия, которые не передаются окружающим и не играют никакой социальной роли (например, вера в то, что рубашка, в которой удалось успешно сдать предыдущий экзамен, поможет и на следующем). Эти суеверия распространены, пожалуй, даже больше, чем две предыдущие группы; во всяком случае, они присущи вполне образованным и во всем прочем здравомыслящим людям (как, впрочем, и подспудная вера в приметы или простейшие заклинания вроде сплевывания через левое плечо). Вообще, каждая группа суеверий имеет свое происхождение. Но исследователи издавна пытались и по сию пору пытаются найти некий общий источник всех и всяческих суеверий, и именно этими гипотезами мы и займемся в дальнейшем. Первая из них гласит, что суеверие есть результат ошибки. Гипотеза эта была выдвинута великими этнографами Фрэзером и Тэйлором. Они утверждали, что все суеверия возникли на дикарской стадии развития человечества и их причиной было неумение дикарей различать между естественным и сверхъестественным. Дикари, говорил Фрэзер, полагали, что подобное производит подобное, отсюда совершаемые ими магические процедуры над частью тела убитого животного или врага, т. н. «имитативная магия». Они вообще преувеличивали значение магических заклинаний и даже случайные совпадения принимали за причинно-следственную связь. Как писал известный психолог Вундт, «для дикаря вообще не существует причинности в современном понимании слова; у них только и есть что причинность магии». Но эта магия представляется им эффективной, добавлял он, в силу того эмоционального чувства, которое они вкладывают в свои магические ритуалы. Ученик Вундта Леман пытался найти те психологические факторы, которые могли порождать и из-за ошибок восприятия и определенной настроенности наблюдателя. Свой общий вывод он сформулировал так: «Все эти суеверия имеют в зародыше то или иное ложное толкование реального наблюдения». И что-то в этом выводе, несомненно, соответствовало действительности. Мы видим это и сегодня. Люди склонны переоценивать точность своих наблюдений, преувеличивать автоматизм органов чувств и недооценивать влияние «дополнительных» факторов. Так, фильм, в котором движение руки состоит на самом деле из отдельных кадров этой руки, застывшей в разных положениях, создает у нас иллюзию непрерывного движения, потому что память «дополняет» стоячие кадры собственным знанием того, как движется рука в жизни. Такого рода «дополнения» могут играть роль в т. н. видении духов или призраков: порыв холодного ветра в сочетании с отдаленным воем собаки может восприниматься как появление покойника, особенно если наблюдатель расположен к такому толкованию. На этом основаны и многочисленные случаи внушения, когда внушающий использует «ожидания» внушаемого субъекта, направляя его к желаемой интерпретации невинного события. В 50-е годы некто Прайс снял в Лондоне «дом с привидениями» и пригласил через газету добровольцев для наблюдения за ними, заранее объяснив, каких признаков следует ожидать; большинство откликнувшихся утверждали позднее, будто действительно наблюдали эти признаки. Такие ложные трактовки особенно легко закрепляются в группах людей, имеющих склонность к одинаковым толкованиям (например, в группах участников спиритических сеансов): такие группы обнаруживают усиленную психологическую тенденцию к установлению униформизма трактовки и решительно сплачиваются против всякого «диссидента», вплоть до изгнания его из своей среды. Но если бы суеверие было просто результатом ошибки или ложного толкования, то его легко было бы побороть. Тот факт, что люди цепко держатся за свои суеверия, показывает, что их причина коренится куда глубже — где-то в глубинах психологии личности. Понимание этого породило следующую гипотезу происхождения суеверий — психоаналитическую. Согласно этой гипотезе, суеверия — продукт нашего подсознательного или бессознательного. Начало этому толкованию положил Фрейд. Одна из его пациенток рассказала ему, что во сне видела, будто встретила знакомого врача, и на следующий день действительно встретила его. Фрейд тщательно расспросил ее и установил, что до встречи она ничего не помнила об этом якобы «вещем» сне. Можно было бы успокоиться на этом и сказать, что сон ей «припомнился» задним числом, то есть, проще говоря, придумался. Но Фрейд на этом не остановился. Его заинтересовало происхождение всех такого рода ошибок памяти. Более подробные расспросы показали, что женщина была раньше увлечена приятелем встреченного врача, но потом он с ней разошелся. По Фрейду, ее иллюзия во время встречи с врачом (т. е. «припоминание» несуществовавшего сна) была равносильна возгласу: «Ах, доктор, вы мне напомнили те дни, когда я видела вас вместе с вашим приятелем!» Иными словами, Фрейд усмотрел источник ложного припоминания в реальных, но подавленных подсознательных эмоциях. Того же рода, заключил он, и источник наших суеверий. Подавленное подсознательное не может выйти на свет сознания и «переносится», «проецируется» на что-то иное — например, превращается в предчувствие чьей-то смерти и т. п. Когда это предчувствие по случайному совпадению реализуется, человек обретает убежденность в эффективности своих предчувствий или — если он подсознательно чего-то желал — желаний. В своей книге «Тотем и табу» Фрейд проследил зарождение такой убежденности к раннему детскому возрасту: ребенок полагает, что мир подчиняется его воле, склонен приписывать внешние события своему воздействию на окружающее. Такое «детское» мышление Фрейд считал характерным для «детей человечества», для дикарей; этим он объяснял их магические ритуалы и заклинания. Один из учеников Фрейда Ференци указал на то, что у ребенка эта вера закрепляется еще и потому, что плач и капризы зачастую действительно помогают им добиться желаемого. Другие ученики великого психоаналитика постулировали, что эта «детская» склонность подсознательно связывать осуществление собственных желаний с каким-то своим «магическим» воздействием на окружающий мир сохраняется и во взрослом возрасте — например, у шизофреников и невротиков. На этом основании другой ученик Фрейда, Филд, даже предположил, что магические идеи первоначально вообще родились в мозгах первобытных шизофреников, для мышления которых была характерна детская вера в прямую связь символических жестов и реальных событий, а уже от них эти магические суеверия были восприняты всем племенем. Но, как мы знаем, первобытных племен было много, а суеверия они почему-то создали практически одни и те же. По гипотезе Филда, следовало бы предположить, что у всех без исключения первобытных-шизофреников реальные события почему-то связывались с одними и теми же символическими жестами, заклинаниями, ритуалами и т. п. Фрейд в такую единую общечеловеческую символику не верил. Зато в нее горячо поверил Юнг. Он считал, что набор символов у всех людей и народов действительно одинаков, и на этом основании постулировал существование общечеловеческого «коллективного бессознательного». Оно состоит из общего всем людям и сформировавшегося еще в первобытные времена набора «автономных психических комплексов» — так называемых «архетипов». Существование этих архетипов проявляется, в частности, в существовании сходных, одинаковых для всех людей суеверий. Конкретный анализ, доказывающий именно такое происхождение суеверий, Юнг произвел на примере одного из них — веры в духов. Свою статью «О психической основе веры в духов» он начинает с утверждения, что излишний рационализм современной жизни не дает выхода определенным важным свойствам человеческой натуры, в силу чего эти подавленные побуждения могут проявиться неожиданно и взрывоподобно. Таким проявлением, по его мнению, является нынешний всплеск веры в духов. Существует древний архетип «призрака», или «духа», сложившийся еще в первобытные времена, когда дикари воспринимали мир в единстве материального и спиритуального начал и наделяли окружающие предметы и явления самостоятельной «душой». (Юнг, сам склонный к мистике, полагает, что такое одухотворение имеет под собой некое реальное основание, в противном случае оно бы не закрепилось в виде архетипа.) Сегодня этот архетип «духа» дает о себе знать только в снах, «видениях» и других сходных состояниях; рационализм мешает им принять этих духов за реальность, поверить в них. Но когда в мире назревают глубокие перемены, они активизируют коллективное бессознательное, и оно отвечает все более частым, настойчивым и массовым появлением таких состояний, постепенно понуждая все большее число людей поверить в реальное существование духов и призраков. Так начинается массовое распространение данного суеверия. Юнг заключает статью словами: «Духи — это комплексы коллективного бессознательного, которые выплывают, из него, когда люди теряют приспособление к прежней реальности, когда прежнее отношение к ней у большинства людей начинает сменяться новым общим отношением; это не просто патологические фантазии индивида, а признак назревания новых, но еще не осознанных идей». В духе своей гипотезы Юнг склонялся даже к признанию пророческих способностей «духов» (что неудивительно, если они возникают как неосознанное отражение «новых идей»), но приводимые им факты проявления такой способности убеждали весьма мало; биолог Хаксли даже заметил по этому поводу: «Удивительно, какие тривиальности сообщают нам юнговские духи». Фрейд, будучи крайним рационалистом, относился к заигрываниям своего бывшего ученика с мистикой резко отрицательно. Что, однако, роднит их обоих, так это одинаковое убеждение, что суеверия глубоко укоренены в человеческом подсознании и тесно связаны с глубинными эмоциями; именно поэтому они и не поддаются рациональному устранению. В этом вопросе психоанализ Фрейда и «аналитическая психология» Юнга стоят как бы на одном полюсе трактовок суеверий. Но существует и другой крайний подход, так сказать, противоположный полюс; это — бихевиористский подход. Основная гипотеза бихевиористов состоит в том, что суеверия (как и всякий иной вид поведения) являются результатом обучения. Просто суеверия есть результат «неправильного» обучения. Бихевиоризм (название произведено от английского слова «behaviour», означающего «поведение») родился под влиянием учения Павлова об условных рефлексах. В основе опытов Павлова лежала подмена безусловного раздражителя (например, реального куска мяса) «условным» (например, звонком, раздающимся при показе мяса). Для того чтобы собака приучилась выделять слюну в ответ на звонок, ей необходимо периодическое «подкрепление» в виде показа реального мяса. Основоположник бихевиоризма американский исследователь Скиннер переместил центр исследований на изучение связи между таким «подкреплением» и реакцией на него. «Подкрепление» можно рассматривать как «награду» или «наказание»; и то, и другое способно менять вероятность того, что подкрепляемая реакция будет повторяться при аналогичных обстоятельствах в будущем. По Скиннеру, окружающая среда непрерывно подбрасывает животному такие награды или наказания и тем самым «обучает» его тому или иному виду поведения; если этот вид поведения способствует выживанию животного, он оказывается эволюционно полезным. Но он может оказаться и бесполезным или даже вредным. Полезно, когда ребенок научается бояться горячего чайника, а потом и всех других обжигающих предметов, но бесполезно или даже вредно, когда он, однажды испугавшись лая собаки, научается бояться всех собак вообще. Какое отношение это имеет к суевериям? Скиннер очень четко высказался по данному поводу в знаменитой статье «Суеверие у голубей». Он описал в ней эксперимент, во время которого голубю давали пищу («подкрепление») через равные промежутки времени. Одного голубя такое «подкрепление» застало в тот момент, когда он поворачивал голову против часовой стрелки; подкрепление усилило эту реакцию; голубь стал повторять ее чаще; она стала чаще совпадать с появлением пищи; и все кончилось возникновением «магического ритуала»: голубь, пишет Скиннер, «поверил» в то, что если поворачивать голову против часовой стрелки, в кормушке обязательно появится пища. У другого голубя могло возникнуть другое «суеверие» (он, например, в момент первого появления пищи поворачивал голову по часовой стрелке); оно могло закрепиться, а могло и исчезнуть, если, скажем, счастливых совпадений случайно оказалось недостаточно. Скиннер заключает: «Голубь ведет себя так, будто между его поведением и появлением желанного результата существует причинная связь. Такое поведение, основанное на чисто случайной связи, то есть на неправильном обучении, следует назвать суеверным». В книге «Наука и человеческое поведение» Скиннер уже напрямую объявляет, что люди в этом отношении ничем не отличаются от голубей: случайные совпадения несущественных особенностей поведения с желаемыми результатами порождают у них ритуальные практики. Зачастую для этого достаточно единственного, но сильного «подкрепления»: если человек однажды нашел в парке крупную банкноту, это, скорее всего, приведет к образованию у него суеверного ритуала — идти на прогулку именно в этот парк, гулять по тем же дорожкам, внимательно смотреть под ноги и так далее. Легко усмотреть здесь аналогию с распространенным ритуалом одевания той же «счастливой» рубашки перед каждым экзаменом и т. п. Самое важное в образовании таких суеверий — именно их психологическая сторона: наличие очень сильного желания достичь данного результата (нахождения денег или успешной сдачи экзамена) и подкрепления каких-то случайных особенностей поведения таким достижением в реальности. Казалось бы, Скиннер нащупал самую общую и единую причину возникновения суеверий. Но, как отмечает, например, тот же психосоциолог Густав Ягода, это объяснение страдает двумя существенными недостатками. Во-первых, оно сводит все суеверия к бесполезному (а то и вредному) поведению, тогда как во многих случаях суеверия, как мы уже знаем, могут играть и вполне положительную приспособительную роль, помогая организму выжить в стрессовых и других ситуациях. (Мы могли бы добавить, что эту же положительную роль суеверий подчеркивал и Юнг в цитированной выше статье о духах; ее же, в сущности, имел в виду Леви-Стросс, когда формулировал свое знаменитое утверждение, что всякий миф является «примирением невыносимых для первобытного сознания противоположностей».) Во-вторых же, продолжает Ягода, гипотеза Скиннера страдает чрезмерным антропоморфизмом; ведь голубь вовсе не «верит», что его поведение вызывает появление пищи, тогда как у людей всякое суеверие (как показывает само слово) неразрывно связано именно с глубокой, психологически укорененной «верой»: не случайно «целительные ритуалы» так часто помогают людям в действительности. Этот недостаток теории Скиннера становится особенно заметным при переходе к попыткам объяснения веры в ведьмовство, колдовство и тому подобные феномены. Скиннер считает, что такая вера берет начало в невинных выражениях типа: «это ты виноват в том, что у нас все провалилось», «это из-за тебя мы опоздали» и т. д. Отсюда, говорит он, всего один шаг к наделению данного человека «реальной» способностью влиять на события в дурную (или хорошую) сторону. В действительности, однако, это шаг огромный: от того, что, данный человек обвинит другого в намеренном наведении «порчи», вера в ведьмовство и соответствующее поведение людей в данном обществе не возникнут — эта вера должна существовать заранее. Иными словами, ведьмовские и им подобные суеверия — не просто производная индивидуальной человеческой психологии, а производная определенных социальных условий. Человека можно объявить колдуном, но без подходящей социальной среды такое утверждение не получит поддержки в вере. Гипотеза Скиннера не учитывает социального аспекта суеверий, а потому не может дать ответ на многие и многие вопросы. IIВыше мы пришли к выводу, что суеверия неопределимы. Мы решили называть суеверием то, что нам субъективно представляется таковым. Мы классифицировали суеверия на квазирелигиозные (связанные с верой в духов и другие сверхъестественные феномены), индивидуальные (например, тот приватный ритуал, который, по вашему личному убеждению, способствует удаче) и коллективные (или социальные); примером последних является вера в ведьмовство или колдовство, распространенная в истории от первобытных племен до недавних европейских обществ. Мы осознали, что важнейшей особенностью любого суеверия является его психологическая сторона, то есть сильнейшая его связанность с психологией личности, с ее глубинными эмоциями; этим и объясняется как устойчивость суеверий, так и невозможность устранить их с помощью рациональных объяснений. Мы, наконец, рассмотрели несколько попыток объяснения генезиса суеверий. Этнологи пытались объяснить их ошибками а толковании причинных связей; фрейдисты и юнгианцы связывают их происхождение с комплексами представлений, таящимися в глубинах индивидуального подсознательного или коллективного бессознательного; бихевиористы толкуют возникновение суеверий как результат «неправильного обучения» данного индивидуума. Последняя гипотеза, по сути, вообще игнорирует роль социального фактора в происхождении и закреплении суеверий. Естественно поэтому перейти теперь к очередной гипотезе, трактующей суеверия как типичный социальный феномен. Происхождение большинства суеверий скрыто в глубоком прошлом. Тем не менее иногда их возникновение удается наблюдать. Так, в 1919 году в Папуа, на Новой Гвинее, среди туземцев вспыхнуло массовое помешательство, получившее название — «болезни Вайлала». Страдавшие ею вели себя, как одержимые, раскачивались из стороны в сторону или застывали в ступоре и произносили непонятные фразы. Их главные проклятья адресовались «нарушителям обычаев» и «белым людям»; в то же время они утверждали, что вскоре (если люди будут вести себя хорошо) на остров прибудут корабли с богатым грузом от «предков» и это позволит местному населению освободиться от власти белых и зажить богато и благополучно. Об этом им якобы сообщили «духи». Болезнь вскоре затихла, а 20 лет спустя об «обещании духов» и прибытии «подарка от предков» уже говорили как о реальном факте. Суеверие сложилось на глазах у наблюдателей. Социолог Уорсли, который исследовал этот и подобные феномены, считает, что их причина коренится во внезапных социальных изменениях, принесенных белыми колонизаторами. Старые ценности рушатся, люди начинают стремиться к новым (прежде всего, к материальной обеспеченности), не знают, как их достичь, и испытывают глубочайший стресс, который выливается в массовую истерию и фантастические поверья, обещающие и достижение новых целей, и восстановление старых порядков одновременно. Он отмечает как показательный факт, что болезнью Вайлала заболевали прежде всего те туземцы, которые чаще и ближе соприкасались с белыми. Другой социолог, Ганс Тох, говоря о таких массовых движениях, которые, как правило, сопровождаются множеством суеверных фантазий («голоса», «откровения», «видения» и т. п.), утверждает: «Чудеса обещают надежду на изменение в ситуации, которая в противном случае могла бы показаться безнадежной и безвыходной, и потому играют роль средства, примиряющего с действительностью и позволяющего выжить». Иными словами, здесь на иной социологический лад говорится примерно то же, что говорил в свое время Юнг: суеверия могут играть положительную общественную роль как психологическое средство выживания в стрессовых ситуациях. Но этим их социальная роль далеко не исчерпывается. В Сомали, например, так называемая «одержимость духами» чаще проявляется среди женщин. Исследователи выявили, что во многих случаях эти «духи» через подчиненных им женщин требуют от мужей покупки определенных вещей или подарков. В некоторых случаях такие женщины действуют даже вполне осознанно, добиваясь желаемой вещи (наряда, хозяйственной утвари и т. п.) расчетливой игрой на суевериях мужей. Суеверие очередной раз выступает здесь как средство преодоления определенной социальной ситуации и достижения желаемой цели. Еще более видна эта их роль в таких повсеместно распространенных убеждениях, как вера в ведьмовство и колдовство. Почти очевидно, что оба эти вида суеверий возникают в результате жизненных неприятностей, несчастливых поворотов фортуны и попыток найти их виновника. Этнограф Эванс-Причард, изучавший эти поверья среди жителей Уганды, показал, что в большинстве случаев «виновником» несчастий объявляется человек, с которым обвиняющий находится в близких отношениях, иными словами — «сосед». В первой части этой статьи мы уже рассказывали, как одинаково неуклонно действовало это правило и в случае негров племени Бвамба, и в случае жителей средневекового итальянского города Медона. В обоих случаях вслед за обвинением вступали в силу давно выработанные обществом ритуалы разоблачения, допроса и наказания «виновных», причем очевидная цель этих ритуалов — возместить ущерб, понесенный (или могущий быть понесенным) членами данного социального коллектива или всем коллективом вообще. На этом основании Эванс-Причард выдвинул предположение, что те поверья «дикарей», которые европейцы часто рассматривают как грубые суеверия, в действительности являются весьма важными для нормального функционирования общества индикаторами социальных конфликтов и напряжений (в простейшем случае — трений между соседями); тем самым соответствующие ритуалы становятся средством, которое позволяет снять эти трения и враждебность. Особое значение имеет при этом тот факт, что все эти ритуалы «освящены традицией», то есть являются общепризнанным и как бы узаконенным способом решения социальных конфликтов, который обязаны принимать все. Таким образом, в конечном счете суеверие (в широком смысле слова) оказывается средством восстановления утраченной социальной гармонии. Мы можем добавить к этому, что в определенном смысле слова индивидуальные суеверия являются таким же средством восстановления утраченной гармонии для отдельной личности, но уже гармонии психологической. Юнг был отчасти прав, напоминая, что «дикари» воспринимают мир в единстве его материальной («реальной») и спиритуальной («иллюзорной») сторон. Более позднее (современное) сознание в этом смысле уже «расколото». Но поскольку «иллюзорное» начало, будь оно родом из глубин подсознательного или навязано традициями окружающей среды, по-прежнему сохраняет свою власть над умом индивида, он переживает это раздвоение как «расколотость мира». Индивид испытывает неосознаваемую потребность в восстановлении утраченной мировой гармонии. И его обращение к суевериям как раз и отвечает такой потребности. Как конкретно выглядит эта «гармония»? Она может, например, выражаться в ощущении своей власти над событиями, в представлении о том, что мир упорядочен, осмыслен и так далее. Общим здесь повсюду является психологическое ощущение человека, что он «в ладу с миром». Но этот «лад» каждый человек в каждое время понимает иначе. Поэтому анализ этой «тоски по утраченной гармонии» неизбежно требует рассмотрения суеверий как отражения способа мышления. В первой части статьи мы уже говорили, что такие известные английские этнографы, как Тэйлор и Фрезер, считали суеверия «ошибками наблюдения», которые свойственны первобытному мышлению. По сути, это означало, что они считали первобытных людей (и современных дикарей) неспособными к последовательному логическому мышлению. Не то чтобы они отказывали первобытному мышлению в рациональности вообще, но они полагали его как бы «недостаточно рациональным». Оспаривая эту гипотезу, знаменитый французский антрополог Люсьен Леви-Брюль выдвинул предположение, что «первобытное мышление» в действительности отличалось от современного не просто количественно, а качественно. По Леви-Брюлю, оно было не столько «недостаточно рациональным», сколько вообще не рациональным, а «мифологическим» или «дологическим». Понять, что это такое, помогли исследования знаменитого швейцарского-психолога Жана Пиаже. Он показал, что элементы «дологического» мышления характерны для всех детей. Главными такими элементами являются неспособность четко отличить себя от внешнего мира и восприятие этого мира только в отношении к себе и своим желаниям. Мир, все предметы и люди в нем воспринимаются как продолжение своего «Я», а внешние события — как реакция на свои ощущения, поступки и желания. Ребенок (и первобытный человек) склонны поэтому наделять вещи «душой» и «сознанием». Гирька, подвешенная на закрученной нитке, вращается, потому что «нитка чувствует, что она закручена, и хочет раскрутиться». Иголка уколола, потому что она «злая». Точно так же ребенок или дикарь склонны думать, что предметы подчиняются их воле и желанию. Кукла приближается и оказывается в руках не потому, что ребенок за ней потянулся (или получил из рук взрослого), а потому, что он этого «захотел». Отсюда уже недалеко до выработки определенной системы «магических» действий, которые «заставляют» предметы выполнять желания ребенка (так называемая «детская магия»). Развивая свои наблюдения, Пиаже предположил, что подобный характер мышления может быть свойствен и взрослым людям, особенно в состоянии крайнего стресса или одержимости каким-либо сильнейшим желанием; в таких ситуациях вполне возможно возвращение взрослого к «детской магии». В первой части статьи мы уже вскользь касались этих вопросов. Теперь мы можем связать сразу несколько высказанных там гипотез о происхождений суеверий в общую картину. Вспомним, что бихевиористы (Скиннер и другие) рассматривали всякое поведение (как животных, так и людей) как результат «обучения», упрочиваемого периодическими «подкреплениями» со стороны внешней среды. Если такое обучение накладывается на особый склад ума (на особое мышление), который заранее в силу своих особенностей предрасположен к суеверному толкованию действительности, и если это обучение получает «подкрепление» извне, например, в виде случайных совпадений желаемого с происходящим, то его результат, т. е. суеверные представления о мире и его законах, будет, разумеется, закрепляться. В этой картине недостает, однако, одного важного звена. Ведь, в конце концов, случайные совпадения происходят-не так уж часто. Во многих случаях суеверное мышление сталкивается с тем, что его магические ритуалы и заклинания не производят желаемого эффекта. Чудесные средства исцеления не излечивают от болезни. Разоблачение ведьмы не устраняет несчастий. Почему бы всем этим воздействиям («отрицательным подкреплениям», или, говоря вслед за Скиннером, «наказаниям» за несоответствие представлений действительности) не привести в конце концов к отказу от суеверий? Почему-то оказывается, однако, что люди готовы удовлетвориться даже самым умеренным числом случайных «положительных» совпадений, игнорируя даже самые очевидные и многочисленные «отрицательные». Причина этого состоит в той глубокой психологической потребности, о которой мы начали говорить выше, рассказывая о метафизике закона Мэрфи. Только с ее учетом можно всерьез говорить о «психологии суеверий». Характер этой потребности очень хорошо описал английский этнограф Хортон, долгое время изучавший особенности мышления африканских племен. Как и все «дикари», эти люди склонны к суеверному мышлению. Когда, например, дерево падает на человека и убивает его, они неизменно объясняют это прежними проступками этого человека, за которые его наказали ведьмы, колдуны или «духи предков». В результате длительных расспросов и анализа Хортон пришел к выводу, что его «подопытные» попросту исключают из своего сознания возможность какого бы то ни было иного объяснения. «Мысль о том, что это просто, случайное совпадение, — пишет он, — отвергается ими начисто, потому что она для них психологически невыносима: она заставила бы их признать, что мир непредсказуем и необъясним, тогда как их мышление (как и наше) стремится к связному и полному объяснению мира и всего в нем происходящего, только на свой, «суеверный», лад». Здесь очень важно замечание о том, что не только «дикарское», но и «наше» мышление стремится, в сущности, к одному и тому же — к достижению успокоительного психологического ощущения, что мир упорядочен, а потому «управляем». Разница, может быть, только в том, что в одном случае эта упорядоченность имеет иллюзорный характер, а «управление» достигается с помощью суеверных формул, заклинаний и ритуалов, а в другом — с помощью рационально-научных средств. Наука оказывается в этом плане всего лишь «суеверием наизнанку»: современный человек полагается на нее точно так же, как первобытный или ребенок — на свою магию. Она играет ту же психологическую роль, позволяя восстановить ощущение гармонии, понятности, объяснимости и предсказуемости мира, которое внутренне необходимо человеку для достижения эмоциональной и психической устойчивости и чувства уверенности в окружающем. Но и у современного человека эта потребность далеко не всегда реализуется через научное объяснение мира. Во-первых, такое объяснение для многих просто слишком сложно; во-вторых, сама наука далеко не все может объяснить (что, в частности, и порождает столь распространившуюся ныне тягу к таким «суррогатам науки», как оккультизм, мистика и т. п., примеры чего мы приводили в начале статьи). Поэтому в повседневной жизни современный человек, подобно дикарю, куда чаще остается один на один со своей психологической потребностью в гармонии и вынужден реализовать эту потребность посредством «дикарских» суеверий. Чтобы убедиться в том, что эти суеверия действительно выполняют такую психологическую роль, достаточно припомнить хотя бы, как останавливают наше внимание всевозможные случайные совпадения в нашей повседневной жизни. Мы испытываем какое-то приятное возбуждение, когда, направляясь на автобусе в театр, замечаем, что номер автобусного билета совпадает, скажем, с номером театрального и оба, — с датой нашего рождения. Источник этого возбуждения, несомненно, коренится в том, что нам кажется, будто мы открыли некую «закономерность» в структуре мира, некую «причинную» зависимость, какой-то загадочный «смысл». Эта тенденция организовывать окружающее в осмысленную схему, находить общий смысл в различных явлениях и испытывать удовлетворение от этого поистине неистребима в человеке. Проведено множество специальных экспериментов, доказывающих наличие такой тенденции. Например, подопытным показывают два фильма, один из которых полон ужасных сцен, а другой представляет собой вполне невинное сочетание абстрактных картинок; тем не менее второй, просмотренный вслед за первым, почему-то тоже производит тягостное впечатление. Людям предъявляют серию ничем не связанных друг с другом изображений — они тотчас начинают искать между ними «скрытую связь». Как подытожил известный психолог Бартлет, «все познавательные действия человека направлены на поиск «смысла», и это объясняется тем, что установление смысла в хаотическом и беспорядочном мире является необходимым для выживания в нем». Коль скоро это так, то всякое отсутствие смысла представляется нашему мышлению лакуной, которую обязательно нужно заполнить. В отличие от науки, которая признает неизбежность таких лакун, наше повседневное мышление ощущает их как угрозу и пытается перепрыгнуть через бессмыслицу с помощью суеверных «объяснений». Это бессознательное действие, и оно продиктовано, повторяем, психологической потребностью уменьшить неуверенность и сомнение в окружающем. Не случайно знаменитый этнограф Малиновский утверждал, что «люди обращаются к магии лишь тогда, когда ощущают, что не могут полностью контролировать окружающие обстоятельства», иными словами — в условиях недостаточного знания, неопределенности и вынужденного риска. В духе этого толкования он предсказывал, что вероятность появления суеверий должна быть значительно выше среди людей, чьи профессии (или условия жизни) характеризуются повышенным риском и неопределенностью, — например, среди моряков, солдат (а также, понятно, дикарей). Как мы уже говорили, такое «перепрыгивание» зачастую осуществляется, с помощью «суррогатов науки». Примером тому может служить астрология. Неоднократно уже упоминавшийся нами Юнг полагал, что астрология действительно отражает какие-то «скрытые закономерности бытия», познание которых помогает заполнить лакуны незнания, не заполненные (или не могущие быть заполненными) обычной наукой. Эти закономерности он называл. «принципом синхронности», который, по его мнению, действует в окружающем мире (мы рассказывали об этом принципе выше в очерке «Метафизика закона Мэрфи»). Для доказательства своей гипотезы Юнг провел даже специальную проверку, которая получила название «астрологического эксперимента». В этом эксперименте сопоставлялись гороскопы 483 супружеских пар. Юнг не получил однозначных результатов, но, по его утверждению, выявил «тенденцию», которая состояла в том, что у счастливых пар вероятность, «подходящих для брака» гороскопов была заметно выше, чем у несчастливых. Увы, когда тот же эксперимент был повторен несколько лет спустя Арно Мюллером на значительно большем числе пар, «статистическая обработка результатов, — по словам исследователя, — не подтвердила ни одного из традиционных астрологических предположений относительно брака». Тем не менее люди и сегодня продолжают читать гороскопы и выискивать в сенсационных разделах газет сообщения о всевозможных «загадочных совпадениях». Не так давно немецкий автор Шольц опубликовал объемистую книгу «Случай и судьба», в которой собрал превеликое множество примеров таких совпадений, от самых расхожих (три выигравших номера в лотерее были 777, 77 и 7, и все они оказались в руках одного и того же человека) до весьма изощренных (во время шторма в Берлине была разрушена мраморная статуя работы скульптора Крауса, а на следующий день сам скульптор умер от инфаркта, и в ту же минуту в его саду упала с пьедестала копия той же статуи). Многие, прочитав эту книгу, наверняка пожмут плечами и спросят: «Ну и что?» Но еще большее число людей, скорее всего, сочтет все эти примеры «неслучайными». Разве случайно, скажут они, что Япония пережила серьезное землетрясение именно 7 декабря 1944 года, как раз в годовщину японского нападения на Пёрл-Харбор? При этом они даже не задумываются над тем, сколько землетрясений происходит в Японии каждый год. И это показывает нам, что суеверия — вовсе не ошибки наблюдения, не проявление «недостаточной рациональности» и не следствие «неправильного обучения». Хотя все эти факторы играют определенную роль в появлении суеверий, они не исчерпывают всех причин их возникновения. В конце концов многие ученые, от Кеплера до Менделеева и Крукса, которых никак нельзя обвинить в недостатке логики, были суеверными, людьми. Увы, за суевериями, как уже сказано, стоит глубинная когнитивная и психологическая потребность человека в объяснимости и гармонии окружающего мира, и до тех пор, пока эта потребность будет сохраняться, будут в том или ином виде сохраняться и суеверия. Люди будут прибегать к своим приватным или общепринятым ритуалам поведения и формам мышления, какими бы «иррациональными» они ни казались с точки зрения науки и здравого смысла. Не зная будущего и страшась его, они будут «на всякий случай» обходить стороной черных кошек и стучать по дереву, — пусть и со смущенной улыбкой. Ибо, как сказал выдающийся этолог Конрад Лоренц, «когда живое существо не знает связи между причиной и следствием, самой правильной стратегией выживания для него является та, которая дает ему уверенность, основанную на прежнем опыте». Конечно, животные, как и люди, способны изменять свое поведение в изменившихся условиях, способны «идти на риск неведомого» — в противном случае не было бы эволюции; но на каждом новом этапе развития их поведение и сознание снова обрастают суевериями и предрассудками. И даже развитие науки не меняет этой ситуации, ибо наука сама порождает новые суеверия — вспомним хотя бы «пирамидологию» или «дианетику», о которых мы уже рассказывали в этой книге. Суеверия могут быть безвредны или даже вредны; это не изменит того факта, что они составляют интегральную часть тех адаптивных механизмов, без которых человечество, скорее всего, не смогло бы выжить. ГЛАВА 8ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ На что похожа смерть? Все мы страшимся увидеть ее лицо, но с развитием медицины появляется все больше и больше людей, которые эту встречу пережили. В 1975 году американский врач Раймонд Муди (русские переводчики назвали его Моуди) опубликовал книгу «Жизнь после смерти», которая сразу стала бестселлером. В ней были собраны рассказы людей, побывавших на пороге смерти. Муди не был первым собирателем таких рассказов. Лет за сто до него британское Общество физических исследований занялось изучением предсмертных явлений, а в 1926 году член этого общества Уильям Барретт опубликовал первую небольшую книгу по этому вопросу. «Вернувшиеся с того света» рассказывали, что слышали странную музыку, видели свое тело на смертном одре и разговаривали с давно умершими родичами. Новаторство Муди состояло в том, что он собрал все эти рассказы и создал из них некий обобщенный отчет о самых типичных предсмертных переживаниях, которые испытывало большинство умиравших. Сначала, утверждали они, им слышалось заявление врача, что они скончались. Затем раздавался громкий звук, что-то вроде жужжанья или колокольного звона, и перед глазами появлялся длинный темный туннель, в который устремлялось их «Я». Вскоре они встречали некое «существо, сотканное из света», которое показывало им все события их прежней жизни и помогало дать им оценку. Они испытывали чувства радости, покоя и любви, но в какой-то момент натыкались на непонятный «барьер» и понимали, что им придется вернуться к своему телу и к земной жизни. Вернувшись, они пытались рассказать другим о своих переживаниях, но неизменно натыкались на непонимание. Однако для них самих эти переживания становились стимулом к глубокому духовному перерождению и новому отношению к вопросам жизни и смерти. Поначалу книга Муди вызвала недоверие ученых, но вскоре стали накапливаться подтверждающие факты. Американский кардиолог Шунмэйкер опросил более двух тысяч пациентов и установил, что больше половины из них испытывали подобные переживания. В 1982 году Институт Гэллапа провел опрос, показавший, что каждый седьмой взрослый американец побывал на пороге смерти и каждый двадцатый пережил нечто подобное описанному в книге Муди. Примерно в то же время психолог Кеннет Ринг начал научную обработку таких показаний. Он выделил в предсмертных переживаниях пять основных стадий: состояние покоя, отделение от тела, вхождение в темноту (воспринимаемую как «туннель»), приближение к свету и вхождение в сияющее облако. Две последние стадии удостоверяло меньшинство из побывавших при смерти, откуда следовало, что предсмертные переживания образуют некую закономерную последовательность этапов, происходящих один за другим, в неизменном порядке: одни умиравшие прошли лишь часть этих этапов, другие — все подряд. Ученых заинтересовал также вопрос, насколько связаны эти переживания с типом культуры, иными словами — присущи они только западным людям или другим тоже. Было выяснено (хотя и на малом числе случаев), что характер и последовательность предсмертных переживаний универсальны, однако тип религии, исповедуемой человеком, сильно влияет на интерпретацию увиденного в преддверии смерти. Такие переживания были зафиксированы даже у детей. Но самое интересное состояло в том, что «предсмертные переживания» вовсе не требуют реальной близости человека к смерти: в 1989 году Морзе с сотрудниками обнаружили, что совершенно такие же ощущения испытывают многие люди под воздействием наркотиков, глубокой усталости, а порой — просто ни с того ни с сего. Стоит подчеркнуть, что ощущения эти вполне реальны: людям, их испытавшим, не «казалось», что они влетают в темный туннель, — они и впрямь «ощущали», что в нем находятся; и свое покинутое тело они видели не так, как порой мы видим людей во сне, а совершенно объективно, сверху, во всех деталях! Все эти факты вынудили ученых задуматься: не может ли быть так; что правы поклонники новомодного оккультизма, утверждающие, будто, кроме физического тела, человек обладает еще и телом «астральным», которое освобождается после смерти физического? Вера в существование такого «духовного» (или «астрального») тела обнаружена в пятидесяти различных культурах на самых разных континентах. Но что она означает? Часто утверждают, будто она начисто противоречит науке. Но это не вполне верно. Наука отрицает лишь то, что не проверяемо и не предсказуемо. А наличие или отсутствие «астрального тела» можно попытаться проверить. И такие опыты проводились. В 1978 году Моррис пытался обнаружить «астрал» с помощью физических детекторов. Но хотя он использовал все мыслимые способы такого обнаружения, результаты оказались отрицательными. В 1982 году Сьюзен Блэкмор проводила длительные эксперименты с «медиумами», проверяя их утверждения о «выходе в астрал», — с теми же результатами. Разумеется, всегда можно сказать, что необнаруженное еще не значит несуществующее, но это слабое утешение для серьезных людей. Некоторые пытались объяснить предсмертные переживания как процесс, обратный рождению: и тут, и там — туннель и свет в его конце. Эту теорию особенно пропагандировал американский астроном Карл Саган. Но тогда люди, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, вроде не должны были бы испытывать предсмертных переживаний, а исследования показали, что это не так. Другие ученые предлагали объяснить собранные факты «гипнотической регрессией в прошлые жизни», но это уже граничит с фантазией. Куда более вероятной представляется «теория галлюцинаций». Галлюцинации, возникающие по самым разным причинам, очень часто сопровождаются ощущением входа в туннель (порой — в спираль или в паутину). По мнению Клювера из Чикагского университета, эти ощущения связаны с особой структурой визуального центра мозга. Его сотрудник Коуэн показал, что недостаток кислорода (при смерти) или избыток наркотиков (вроде ЛСД) влечет за собой резкое повышение неконтролируемой активности мозга. По нему начинают пробегать «струи самопроизвольного возбуждения». А в силу особенностей клеточной структуры мозга эти «струи» порождают в визуальном центре зрительные образы типа спирали или туннеля. Эта теория не объясняет, однако, предсмертных «световых» эффектов, поэтому Сьюзен Блэкмор попыталась развить ее дальше, учитывая тот факт, что центр визуального поля представлен в мозгу куда большим числом «зрительных клеток», чем периферия. С помощью компьютерного моделирования она изучила, какие образы должны возникать в такой структуре при ее постепенном самопроизвольном возбуждении, и нашла, что в центре поля зрения обязательно появится разрастающееся светлое пятно, окруженное темными «стенами». Иными словами, «туннель» и «свет» могут быть объяснены возникновением «хаотического шума» в мозгу умирающего человека. Но как объяснить «покидание тела» и «созерцание его сверху» Блэкмор предлагает для этого следующую гипотезу. Часто бывает, что наш мозг получает противоречивые сигналы, которые порождают в нем противоречивые модели реальности. В этом случае мозг выбирает в качестве «истинно реальной» ту, которая представляется ему более устойчивой в сравнении с остальными. В предсмертном состоянии, когда все реальные сигналы ослаблены, наиболее устойчивыми кажутся образы «туннеля» и «света». Но это, лишь начало. Мозг ищет «разумного объяснения» этим образам, он пытается свести их в цельную картину реальности, а для этого начинает сравнивать их с хранящимися в памяти моделями. И тут вступает в силу одна любопытная особенность зрительных моделей, рождающихся в человеческой памяти: очень часто они кажутся увиденными как бы «сверху», с высоты птичьего полета. И тогда мозг «объясняет» свои предсмертные ощущения «выходом из собственного тела», а память услужливо поставляет зрительному центру образ самого этого тела, видимого сверху на смертном одре. Эта гипотеза оказалась поддающейся проверке. Сама Блэкмор и ее коллега, австралийский психолог Ирвин, показали, что люди, которые часто видят свои сны как бы с высоты птичьего полета, в предсмертном состоянии чаще видят «сверху» и свое «покинутое» тело. Но другие исследователи не согласны с объяснением предсмертных переживаний лишь зрительными моделями, подсказанными памятью человека. Эти исследователи утверждают, что люди перед смертью переживают не воспоминания, а реальные ощущения. Американский кардиолог Сабом показал, что потерявшие сознание пациенты были способны более точно описать потом действия врачей, чем пациенты, сохранявшие сознание. Блэкмор возражает на это, что органы чувств у таких пациентов могли воспринимать внешние сигналы и без осознавания. Она развивает свою теорию и дальше. По ее мнению, типичное для предсмертных переживаний «прокручивание» перед глазами «фильма» всей прошлой жизни может быть вызвано все тем же хаотическим возбуждением мозговых клеток. Что же касается ощущений «покоя» и «радости», то, по ее утверждению, некоторые ученые (Сааведра, Гомец, Морзе) недавно показали, что кислородное голодание умирающего мозга высвобождает в нем нейропептиды и другие вещества, способные вызвать именно такие ощущения. Наконец, встречи с умершими и картины «иного мира», о которых часто рассказывают «воскресшие», могут объясняться все тем же эффектом «большей реальности» моделей и образов, предлагаемых памятью умирающего человека, в сравнении с образами и сигналами из реального физического мира. И, конечно, умиравшие не могут выразить обычными словами свой предсмертный опыт. Ведь в основе сознания лежит мысленная модель цельного человеческого «Я». В момент умирания эта модель дробится и рассыпается, ощущение «Я», сопровождавшее человека всю сознательную жизнь, исчезает, и описать это переживание попросту невозможно. Попытки научного объяснения предсмертных переживаний продолжаются. Ученые упорно атакуют эту загадку, предлагая всё новые гипотезы и всё новые способы их проверки. Все же пока ученые не дают уверенного и однозначного ответа. И проблема, поставленная Муди и другими, остается по-прежнему актуальной и нерешенной. Откуда же все-таки берутся загадочные предсмертные переживания — из человеческого мозга или из реального «иного мира»? «Изнутри» или «извне»? Уходим мы «в астрал» или расстаемся с жизнью окончательно и бесповоротно? ГЛАВА 9ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЕРЯТ В БОГА? Вопрос, поставленный в заголовке, может показаться в равной степени наивным, бессмысленным и безответным. (Да простится мне святотатство, но мне почему-то пришло на ум любимое выражение моей приятельницы, которая в ответ на вопрос, почему имярек не приезжает в Израиль, сказала: «Почему лошадь не ест вату? Не хочет и не ест».) Действительно, до недавнего времени большинство ученых, занимающихся социальными науками и изучением процессов познания, игнорировали этот вопрос (исключение составляли разве что те немногие психологи, которые преподавали на теологических семинарах). Положение резко изменилось в последнее десятилетие, когда возобновившиеся дебаты о взаимоотношении между наукой и религией выплеснулись в культурное пространство и ученые из разных областей ввязались в споры. Недавно вышедшая в нью-йоркском издательстве книга «Почему Бог никогда не исчезнет» («Why God Won't Go Away?») интересно и по-новому освещает этот вопрос, особенно с точки зрения нейрофизиологии, о чем сообщает читателю подзаголовок: «Наука о мозге и биология веры». Авторы книги — врачи из Пенсильванского университета: Эндрю Ньюберг занимается одновременно радиологией и нейробиологией мозга, Юджин Д'Аквили, ныне покойный, был профессором психиатрии. Книга написана для широкого читателя, но содержит достаточно много нового материала (особенно по нейрофизиологии мистических переживаний) даже для профессиональных ученых. По утверждению авторов, Бог никогда не исчезнет из человеческого сознания, потому что религиозный импульс укоренен в биологии мозга. Сканирование мозга, производимое во время медитации и молитв, показывает поразительно низкую активность в его задней верхней теменной доле. Авторы называют расположенный там пучок нейронов «Областью, Ассоциированной с Ориентацией» (сокращенно — ОАО), потому что главной функцией этих нейронов является ориентировка тела в физическом пространстве. Люди с поражением этой области с трудом находят дорогу даже в окрестностях собственного дома. Когда ОАО находится в состоянии нормальной спокойной активности, человек четко различает границы между собственной личностью и всем окружающим. Когда же ОАО пребывает в пассивном, «спящем» состоянии — в частности, — при глубокой медитации и молитве, — это различение теряется и, следовательно, границы между личностью и миром расплываются. Не это ли происходит с молящимися, которые чувствуют присутствие Бога, или с медитирующими, которые вдруг начинают ощущать свое единение со Вселенной? Что именно влечет людей к церкви, молитве; медитации, священным танцам и другим ритуалам? Хотя рассказы о случаях различных религиозных или мистических переживаний приходится слышать от самых разных людей, у подлинно религиозных личностей эти переживания достигают такой глубины, что определяют собой всю их жизнь. Ньюберг и Д'Аквили решили изучить те специфические ощущения, которые характерны именно для религиозного опыта, но при этом разделяются представителями любой религии. Одно из этих ощущений, чувство «единения со Вселенной», в свое время вдохновляло Эйнштейна. Другое — это чувство благоговения, которое сопровождает мистические переживания и делает их важнее, напряженнее и подлиннее, чем любой опыт повседневной жизни. Для проведения экспериментов исследователи с помощью своих коллег, занимавшихся тибетским буддизмом, отобрали восемь монахов, имевших опыт в медитации и согласившихся на сканирование мозга. Добровольцы приходили в лабораторию по одному, и техник вводил им в руку интравенозную трубку. Затем подопытным предлагалось медитировать, сосредоточиваясь при этом на каком-то единичном образе, обычно — на некотором религиозном символе. Цель эксперимента состояла в том, чтобы зафиксировать момент, когда ощущение человеком себя, или своего «Я», начинает растворяться и он начинает ощущать себя слившимся с мысленно выбранным для медитации образом. Как описывает это Майкл Бейме, один из медитировавших и одновременно участник исследовательской группы, такой переход ощущается как «утрата границы». Как будто бы фильм вашей жизни прервался, и вы вдруг увидели тот пучок света, который проектировал этот фильм на экран. Когда находящийся в состоянии медитации подопытный начинал ощущать появление чувства своей слитности с образом— обычно это происходило примерно через час после начала эксперимента, — ему в вену вводилось радиоактивное вещество (атомы, «помеченные» радиоактивной меткой). В течение нескольких минут эти «меченые атомы» достигали мозга и распределялись по различным его участкам, собираясь в большем количестве там, где ток крови был сильнее, то есть там, где активность мозга была выше. Измеряя после этого сканером концентрацию радиоактивности в разных участках мозга, исследователи получали моментальный снимок мозговой активности в процессе медитации. По окончании эксперимента это распределение активности сравнивалось с ее распределением в состоянии покоя. Исследователи не удивились, обнаружив повышенную активность в тех участках мозга, которые регулируют внимание, что свидетельствовало о глубокой сконцентрированности человека в процессе медитации. Но открытие значительного снижения активности в теменной доле верхней задней части мозга (в той самой ОАО, о которой мы говорили вначале) привело их в сильное волнение. Ведь именно этот участок, как уже сказано, заведует различением между «Я» и всем остальным миром. Грубо говоря, левая половина этого участка управляет тем ощущением («образом») собственного тела, которое свойственно индивидууму, в то время как его правая половина руководит ощущением «контекста», в который этот «образ» погружен, то есть ощущением реального физического пространства и времени, в котором функционирует наше «Я». Ученые предположили, что по мере развития у медитирующего индивидуума чувства слияния, единения с внешним по отношению к нему религиозным образом он, этот индивидуум, постепенно отключает участок ОАО от обычных сигналов, связанных с ощущением своего «време» и «место-положение», которые раньше помогали ему разграничивать образ собственного тела и образ внешнего мира. «Наблюдение за людьми во время медитации показывает, что они попросту отключают свое восприятие внешнего мира. Их больше не беспокоят приходящие извне образы и звуки. Поэтому, возможно, их теменная доля не получает более никаких входных сигналов», — говорит Ньюберг. Лишенный своего нормального «питания» участок ОАО перестает нормально функционировать (что проявляется в снижении его активности), и человек чувствует, как будто граница между ним и всем остальным начинает растворяться и исчезать. А когда исчезает тот пространственный и временной «контекст», в котором обычно находится человек, этого человека, естественно, охватывает чувство бесконечного пространства и вечности. Недавно Ньюберг повторил тот же эксперимент с францисканскими монахинями во время их молитвы. Поскольку молитвы больше основаны на словах, чем на образах, не удивительно, что сканирование показало активизацию тех областей мозга, которые связаны с речью. Куда интереснее, что и в этом случае область ОАО оказалась «отключенной» (т. е. отличалась пониженной против нормы активностью). Это говорит о том, что и молящиеся отключают ту часть мозга, которая отграничивает человека от окружающего мира, и благодаря этому могут достигать чувства «единения с бесконечностью и вечностью». Однако чувство единения со Вселенной — не единственная особенность интенсивного религиозного опыта. Такой опыт несет в себе также большой эмоциональный заряд, сообщающий человеку чувство благоговения и глубокого смысла происходящего. Нейрофизиологи полагают, что появление этого чувства связано с другим участком мозга, отличным от теменной доли, а именно — с т. н. «эмоциональным мозгом», лежащим глубоко внутри височных даль в боковых участках мозга, под его большими полушариями. Этот участок мозга (он составляет часть т. н. «лимбической системы», расположенной на внутренней стороне больших полушарий и регулирующей деятельность внутренних органов, инстинктивное поведение, эмоции, память и т. п.), по мнению некоторых специалистов, возник в самом начале нашей эволюции. Ныне его функцией является наблюдение за нашим жизненным опытом и маркировка особо важных для нас событий и образов — например, облика близкого человека. При такой «маркировке» данное воспоминание как бы помечается неким эмоциональным ярлыком, означающим: «это важно». Ученые считают, что во время интенсивного религиозного переживания «эмоциональный мозг» становится необычно активным, маркируя все переживаемое в этом состоянии как «особо важное». Такая гипотеза могла бы объяснить, почему люди, пережившие такой религиозный опыт, затрудняются объяснить его другим. Ведь у обычных, не столь глубоко религиозных людей активность «эмоционального мозга» даже в состоянии молитвы довольно ограничена, и он вовсе не воспринимает появляющиеся при этом ощущения как «особо важные». Вот как объясняет это различие Джеффри Сейвер, нейролог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Содержание глубокого религиозного переживания — его визуальные и чувственные компоненты — точно те же, что и обычные, каждодневные переживания любого человека. Но височнодольная система «эмоционального мозга» маркирует эти моменты религиозного опыта индивидуума как чрезвычайно важные состояния, сопровождаемые ощущениями большого удовольствия и гармонии. Когда такой опыт пытаются описать другим, удается передать только его содержание и чувство его необычности, но никак не сопровождающие его внутренние ощущения». Имеется много свидетельств, подтверждающих важность «эмоционального мозга» для религиозного опыта. Наиболее известны показания людей, страдающих эпилептическими припадками и рассказывающих о неких «глубоких прозрениях» во время этих припадков. По мнению Сейвера, «это напоминает рассказы людей, переживающих религиозно-мистическое откровение, когда их охватывает такое чувство, будто их «Я» становится прозрачным и сквозь его пустоту (и «пустоту» внешней реальности) они видят «реальность» более высокого порядка». Не случайно, замечает Сейвер, многие эпилептики имеют склонность к мистическим переживаниям. Как известно, Достоевский писал, что во время своих эпилептических припадков он «прикасался к Богу». Список религиозных мистиков, которые, по предположениям, могли быть эпилептиками, включает апостола Павла, Жанну д'Арк, святую Терезу из Авилы и Эммануила Сведенборга, основателя Новой Иерусалимской Церкви в XVIII веке. Нейрохирурги, которым во время операций на открытом мозге доводится стимулировать систему «эмоционального мозга», рассказывают, что их пациенты иногда сообщают об испытываемых ими религиозных ощущениях. А альцхаймеровские больные, для которых зачастую характерна, напротив, утрата религиозного чувства, отличаются тем, что у них уже на ранних стадиях болезни начинает разрушаться эмоциональная сфера. Как утверждает Ньюберг, богатство ощущений, которое привносит в повседневную жизнь резкая активизация «эмоционального мозга», может объяснить, почему все религии придают такое значение ритуалам. Принудительные и стилизованные церемониальные действия вырывают людей из обыденности и помогают «эмоциональному мозгу» маркировать их как значительные. К тем же результатам, кстати, может привести и религиозная музыка, вызывая то ли возбуждение, то ли тихое блаженство. Об этих наблюдениях докладывали японские исследователи еще в, 1997 году. Аналогичный эффект вызывают песнопения и ритуальные движения, а также медитация — иногда люди возбуждаются, иногда успокаиваются, а порой испытывают эти противоположные ощущения одновременно. По мнению Ньюберга, такое сочетание противоположных реакций помогает усилению эмоционального эффекта обрядовых действий. Вдумаемся, что же это все означает? Если религиозное чувство, как утверждают Ньюберг и его коллеги, имеет материальную основу (область ОАО, «эмоциональный мозг» и т. п.), то его, очевидно, можно вызывать в мозгу и искусственно. Выходит, что любого человека можно обратить в религию, даже не прибегая к помощи миссионеров. Увы, это, кажется, действительно так, и тем, кто в это не верит и считает себя «стопроцентно иммунизированным» против всякого религиозного чувства, можно предложить лишь записаться на прием к доктору Майклу Персингеру, нейрологу из университета в ничем не примечательном американском городе Садбери, штат Онтарио, известном лишь никелевыми рудниками. Доктор Персингер утверждает, что «встретить Бога» может чуть ли не каждый — для этого достаточно лишь надеть некий специальный шлем. В течение нескольких лет Персингер использует технику, которую он называет «транскраниальной магнитной стимуляцией», вызывая с ее помощью «сверхъестественные» переживания у самых обычных людей. Действуя методом проб и ошибок с добавкой небольшого количества обоснованных догадок, он обнаружил, что слабое магнитное поле (примерно того же порядка, что и магнитные поля, генерируемые компьютерным экраном), сложным образом вращающееся против часовой стрелки возле височной доли головного мозга, вызывает у четырех из пяти людей ощущение, что рядом с ними в комнате находится некое призрачное существо. Как поступают люди, оказавшись в соседстве с призраком, зависит от их собственных чувств, склонностей и верований. Если они недавно потеряли близкого человека, то могут решить, что этот человек вернулся, чтобы повидаться с ними. (Как тут не вспомнить гениального Лема с его «Солярисом»?) Люди религиозного типа могут идентифицировать этот призрак как Бога. «И все это происходит в лаборатории. Легко себе представить, что произошло бы, если бы такое случилось с человеком ночью, когда он один, в своей кровати, — или в церкви, где имеется столь подходящий и существенный контекст», — говорит ученый. Персингер самолично пробовал надевать свой «чудотворный» магнитный шлем и, по его словам, тоже ощущал «призрачное присутствие», но у него это ощущение было ослаблено, поскольку, он был слишком хорошо осведомлен о происходящем. Не все, однако, согласны с тем, что персингеровские видения можно приравнять к тому, что переживают глубоко религиозные люди. Так, например, представитель главного Лондонского раввина (не самый, надо думать, объективный судья) утверждает, что эксперимент Персингера столь же далек от истинно религиозного переживания, как настроение, созданное с помощью психостимулирующих лекарств, далеко от естественного психического состояния человека. Тем не менее, как бы ни расценивали эксперименты Персингера, они с очевидностью показывают, что мистические переживания состоят не только из того, что мы чувствуем, но также из нашей интерпретации этого ощущения. «Мы подгоняем эти переживания под определенный стереотип, помещаем в отсек с определенным «ярлыком» (например, общение с высшим существом), и тогда наше переживание запоминается именно в таком виде. Такая подгонка производится бессознательно и занимает всего несколько секунд». Тут сказывается и то влияние, которое люди как социальные животные получают, разделяя с другими религиозные ритуалы. По словам Персингера, «религия состоит из трех составляющих, заранее заложенных, запрограммированных в мозгу» (Сейвер называет это в своей книге «нейронными субстратами»). Люди запрограммированы самой природой время от времени переживать ощущения, создающие у них иллюзию различных «видений». Как разумные существа они способны (и склонны) классифицировать эти ощущения, то есть распределять их «по полочкам». Наконец, они нуждаются в общении с себе подобными, то есть в социальных связях и пространственной близости с другими людьми. Все это приготовляет их к переживаниям ощущений религиозного типа. Но содержание, которое вкладывается людьми в эти переживания, не задается мозговыми программами. Не мозг порождает, скажем, религиозную нетерпимость. Но если, к примеру, вы ощущаете «единение с Богом» и при этом верите в необходимость уничтожить всякого, кто не разделяет вашу веру, то это уже является чисто культурным наполнением вашей веры. Именно такое культурное наполнение веры может, как мы видим на примере Бен Ладена и его соратников, превратиться в реальную социальную опасность для других людей. Из изложенного выше следует любопытный и отчасти даже тревожный вывод: по какой-то неизвестной нам — то ли естественной, как скажут скептики, то ли сверхъестественной, как скажут верующие, — причине ваш большой и мощный мозг наделен возможностью испытывать некий эволюционно относительно новый вид переживаний, которые мы называем религиозными. Поскольку никакие другие толкования и выводы из описанных выше экспериментов не являются однозначными, то, как справедливо утверждает Ньюберг, невозможно опровергнуть мнение антирелигиозных скептиков, которые видят в результатах этих экспериментов доказательство «отсутствия Бога» и его «порождения» нашим мозгом. «Однако, с другой стороны, — продолжает Ньюберг, — религиозный человек может сказать, не без логики, что если «мозг может порождать веру», это свидетельствует, что именно Бог вложил ее в этот мозг для некоторой интеракции с человеком. Такое предположение тоже нельзя, опровергнуть. Проблема заключается в том, что все наши переживания в равной степени порождаются мозгом — как ощущения реальности, так и мистические переживания». Фактически, как ни парадоксально это звучит, единственным критерием реальности для нас является то, насколько реальной мы ее ощущаем: «Вы можете видеть сон и в это время чувствовать его реальным, но когда вы проснетесь, он тотчас перестанет быть для вас реальностью. С другой стороны, люди, подверженные мистическим переживаниям, считают их более реальными, чем обычная реальность, и сохраняют это убеждение, даже возвращаясь в обыденную реальность. Из этого круга невозможно найти выход». Эти осторожные формулировки устраивают и верующих людей. В конце концов, можно ведь видеть в шекспировских сонетах просто чешуйки графита, разбросанные по поверхности листа целлюлозы, а можно, будучи человеком определенной культуры, видеть в них произведение великого духа, и это тоже будет правдой. Как показывают описанные эксперименты, религиозное или мистическое переживание — это результат активности определенной группы нейронов, но верно и то, что в рамках той или иной культуры они трансформируются в ту или иную религию, которая наполняется тем или иным культурным содержанием, в свою очередь, подчиняет себе (толкует на свой лад) очередные религиозные или мистические переживания и в конечном счете становится мощной традицией и реальной социальной силой. Поэтому не стоит, наверно, толковать результаты «экспериментальной теологии» как аргумент против существования Бога — верующих это не убедит, а неверующим не нужны аргументы. Во всем, что касается Бога, лучше руководствоваться, думается, правилом, которое сформулировал много лет назад один знакомый мне давний политзаключенный, Человек бывалый и мудрый: «С Богом лучше не связываться». Другой мой знакомый, профессор-физик, тут же обосновал эту мысль научно-теоретически: «Человек в принципе не может постичь Бога, как система низшего порядка сложности не может постичь систему высшего порядка сложности». Что тоже верно, хотя и более туманно. Не хватало только религиозного человека, который то же самое выразил бы на свой, третий лад, напомнив, что «пути Господни неисповедимы»… ГЛАВА 10КОСМОЛОГИЯ И КАББАЛА Позволю себе признаться: во всей современной науке самыми интересными областями мне представляются космология с космогонией и молекулярная биология. Это — подлинные горизонты человеческого познания. Мысль человека сталкивается здесь с загадками бесконечно большого и бесконечно малого. Более того, она сталкивается здесь с двумя фундаментальнейшими категориями нашего физического существования — Вселенной и Жизнью. Современная космология развивается в последние годы необычайно бурно. Идет стремительное накопление новых фактов и рождение новых теорий, и обо всем этом стоит рассказать отдельно — это необыкновенно увлекательно. Однако прежде чем устремляться вслед за непрестанно ищущей научной мыслью и рассказывать о новых, все более и более грандиозных и увлекательных космологических гипотезах, стоит, думается, оглядеться и подвести хотя бы краткий итог того, что науке сегодня уже известно. А заодно взглянуть на сложившуюся в нашем представлении картину с неких общих позиций — что все это значит? К чему, в конце концов, идет человеческий разум? Не творит ли он на наших глазах какой-то новый величественный космогонический миф? В современной космогонии время от времени заявляют о себе голоса, утверждающие, что дело обстоит именно так. Некоторые ученые (и среди них такие крупные, как, например Поль, Дэвис, Франк Типлер и Джон Барроу) утверждают, что по мере своего развертывания нынешняя космогоническая картина мира все больше приближается к религиозному толкованию, к постижению некого Высшего Замысла, а проще говоря — к признанию существования Бога. Недавно к этим голосам присоединился еще один. Известный американский физик Джоэль Примак выступил со статьей, в которой заявил, что современная космогония во многом перекликается с еврейской Каббалой. Концепции нашей науки; заявил профессор Примак, все больше перекликаются с концепциями этого древнего мистического учения. Космогония оборачивается неким воспроизведением каббалистического мифа. Дерзновенный Декартов разум, объявляющий своим правом анализировать ВСЁ, не может отворачиваться от необходимости проанализировать и такую возможность. Всё так всё! Если путь познания ведет к идее Бога, то самым антипознавательным было бы прятать голову в песок. Только ведет ли? Что в действительности мы уже знаем о возникновении и строении мира? Мы живем в мире звезд. Эти гигантские огненные шары не разбросаны беспорядочно во Вселенной — они образуют еще более гигантские, скопления, именуемые галактиками. Около 10 процентов видимых галактик собраны в еще более огромные скопления, образующие грандиозные «листы», или гигантские «нити». Эту сложную организацию ученые называют «крупномасштабной структурой» Вселенной. Иными словами, Вселенная не беспорядочна — она имеет структуру. Наша галактика — Млечный путь — входит в состав небольшого скопления, расположенного на окраине грандиозного галактического «листа», простирающегося в сторону созвездия Девы. Если мысленно описать сферу радиусом в десяток миллиардов световых лет (это то расстояние, на которое еще могут заглянуть современные телескопы), то внутри такой сферы окажутся миллионы галактических скоплений, в каждом из которых содержатся тысячи, а то и миллионы галактик, каждая из которых, в свою очередь; состоит из миллиардов звезд. Все эти галактики и их скопления непрерывно удаляются друг от друга — об этом свидетельствует растягивание и «покраснение» испускаемых ими световых волн. Чем дальше от нас галактика, тем быстрее она движется. Процесс разбегания галактик впервые открыл американский астроном Хаббл. Мысленно повернув этот процесс вспять, астрофизики, естественно, пришли к выводу, что в какой-то момент в прошлом все галактики и звезды были очень близки друг к другу, практически сливались в один невообразимо громадный и плотный, чудовищно раскаленный «Пра-Атом». То, что произошло затем, английский физик Фред Хойл насмешливо назвал «большой хлопушкой», или, более уважительно, — Большим Взрывом, по-английски — Big Bang. Теория, выводящая историю Вселенной из такого Бит Бэнга, объясняет наблюдаемый разлет галактик, и даже механизм образования всех наблюдаемых химических элементов. Но она не объясняет всего. В частности, она не объясняет образования галактик и их скоплений. Одной гравитацией, притяжением частиц первичной материи друг к другу, этого не объяснишь. Если первичная материя расширялась, оставаясь однородной, гравитация могла бы только замедлить это расширение. Чтобы образовать сгустки материи, из которых родились звезды, галактики и их скопления, гравитация нуждается в исходной неоднородности — тогда она может крайне медленно, за чудовищное количество миллионолетий, уплотнить эти неоднородности, нарастить на них новые слои материи и образовать массивные тела. Лет тридцать назад, развивая стандартную теорию Биг Бэнга, астрофизик Гут высказал мысль, что на самых ранних стадиях расширения только что родившейся Вселенной это расширение происходило «экспоненциально», то есть с колоссальным ускорением. На этой стадии шар Вселенной раздувался невообразимо быстро: за миллиардные доли секунды он вырос от размеров атома до размеров футбольного мяча. При этом существовавшие внутри «Пра-Атома» микроскопические неоднородности (вызванные квантовыми свойствами материи на микроуровне) были чудовищно «раздуты», стали макроскопическими. Это «раздутие», или, по-английский, inflation, наградило теорию Гута ее названием — «инфляционная теория». Теория Гута объясняет нынешнюю неоднородную структуру Вселенной наличием уже в первичном «Пра-Атоме» исходных неоднородностей, которые в результате стремительного раздувания стали зародышами звезд и галактик. Дальнейшая судьба Вселенной зависит от средней плотности материи в ней. Если эта плотность меньше некоторой критической величины, Вселенная будет расширяться бесконечно; если она больше этой величины, расширение — в отдаленном будущем сменится сжатием. Но сейчас нас интересует не будущее, а прошлое. Можно ли в него заглянуть? Можно ли убедиться, что все происходило именно так, как описывает инфляционная теория? Оказывается, можно. Теория предсказывает, в частности, что гигантская вспышка, сопровождавшая Биг Бэнг, породила излучение, которое до сих пор заполняет Вселенную. Постепенно остывая, это первичное излучение должно сегодня иметь температуру около трех градусов по абсолютной шкале. Это предсказание было подтверждено в 1972 году космическим исследовательским комплексом КОБЕ. Более того — было установлено, что это излучение распределяется в пространстве не вполне однородно: оно обнаруживает крохотные неоднородности, которые, видимо, существовали в момент его испускания. Инфляционная теория достаточно хорошо описывает наблюдаемую структуру Вселенной и объясняет, как эта структура возникла из первичных неоднородностей и как она будет развиваться. В ней недостает только объяснения причин самой инфляции. Но в самое последнее время, буквально в минувшем году, была предложена некая гипотеза, объясняющая и этот факт. Ее автор, астрофизик Андрей Линде из Стэнфорда, утверждает, что инфляция вообще вечна: в «Супервселенной» (совокупности всех возможных Вселенных, подобных нашей) идет непрерывный процесс вздутия и схлопывания своего рода «космических пузырей». Некоторые из них раздуваются до масштабов настоящих Вселенных; другие в силу неблагоприятных начальных условий достигают лишь «детских» размеров; третьи вообще схлопываются сразу — и этот, процесс идет повсеместно и безостановочно, не нуждаясь в «первопричине». Не будем сейчас вдаваться в детали этой грандиозной научной картины мира; не станем обсуждать и те неожиданные трудности, на которые натолкнулась эта глобальная теория в последнее время, — последуем лучше за профессором Примаком и повторим его простой и «наивный» вопрос: что же это все означает? Каков «смысл» этой космогонической картины? Сами термины «значение» и «смысл» немедленно возвращают нас в сферу человеческих представлений. Нет иного «смысла», чем тот, который осознается человеком, и нет иного «значения», чем значение того или иного факта для разных людей. Это МЫ наделяем значением и смыслом «сырые» факты и данные наблюдений, и МЫ же связываем их с другими нашими представлениями в некое общее «объяснение» мира. Самые общие такие представления издавна получили название мифов. У слова этого множество толкований: мифом называют и сами представления, и рассказ о них, и ритуал такого рассказывания (или воспроизведения рассказа в форме обряда или игры). Но в основе всех этих толкований лежит понятие мифа как связного объяснения устройства мира, его важнейших закономерностей. Всякая известная антропологам культура имеет свои мифы, и это не удивительно: человек изначально нуждается в понимании (а стало быть, и в объяснении) окружающего мира — хотя бы для того, чтобы выжить в нем. Еще Платон говорил, что ответом на вопрос «Что это значит?» является миф. Мифы складываются в систему. Есть миф о происхождении человека; есть миф о «приручении» огня или животных; и есть, разумеется, самый первый и исходный миф о происхождении мира, Вселенной, всего сущего, миф космогонический. Он тоже имеется у всех древних народов и первобытных племен. Да и как же ему не быть? Ведь он, можно сказать, основа всего. Наш иудео-христианский миф знаком нам из Библии, из книги Берешит — в нем заодно просматриваются и следы аналогичных мифов других народов Ближнего Востока; из школы мы знаем о космогоническом мифе древних греков; многие, наверное, читали пересказы мифов других племен и народов. Все мифы всегда играли одну и ту же роль — они объясняли данному коллективу и его отдельным членам, как возникла и устроена Вселенная, чем или кем она управляется, по каким правилам существует. И это давало человеку сознание своего места в таком космическом распорядке вещей, придавало осмысленность его крошечной судьбе, устраняло ужас, порождаемый мыслью о случайности и хаотичности существования. Недаром само слово «космос» по-гречески означает «порядок». В этом смысле мифы продолжают складываться и сегодня. Стоит появиться чему-то необъяснимому, как тотчас возникают и «объяснения», связывающие этот феномен, например, с пришельцами из космоса. Человеческий разум, как и природа, не терпит пустоты: он жаждет все заполнить причинными объяснениями. Но именно этим, говорит профессор Примак, занимается и современная космогония. По мнению Примака, она создает современный космогонический миф. От того, что мы назовем его «научным», его характер и культурное назначение нисколько не изменятся: структурно и функционально он аналогичен всем древним космогоническим мифам. И из всех этих древних мифов, продолжает Примак, он ближе всего к еврейской Каббале. Я не стану здесь пересказывать миф Каббалы в соответствии с тем, как его понимает профессор Примак, а попробую изложить его, опираясь на книги выдающих специалистов по религияведению Гершома Шолема и Мирче Элиаде. Итак, Каббала. Дословно название это означает «традиция», то есть знание, передаваемое из поколения в поколение и получаемое (от ивритского слова «лекабель» — «получать») каждым новым поколением из рук предыдущего. Ранние каббалисты считали, что это тайное знание восходит к самому Моисею, а точнее — к Торе, данной Моисею на горе Синай. Тора, по утверждению древних еврейских книг, была «планом Творения», и каббалисты постигали тайны этого плана посредством мистических озарений. Рациональные термины непригодны для передачи мистического опыта; поэтому космогония каббалистов излагается с помощью метафор и аллегорий. В основу этой космогонии положено представление о бесконечном божестве, Эйн-Соф, обладающем десятью важнейшими ипостасями, или «сефирот». Три из них — Кетер («венец Бога»), Хохма («мудрость, или предвечная идея Бога») и Бина («разум Бога») — имеют прямое отношение к сотворению мира. Но прежде чем говорить, как Каббала мыслит себе это сотворение, следует уточнить понятия «сефирот». Наиболее точную их характеристику дал, по-видимому, Гершом Шолем: сефирот — это атрибуты Бога, его «эманации», каждая из которых действует в своей сфере Божественной реальности. Еврейский космогонический миф, то есть рассказ о сотворении мира, проходил много стадий усложнения и достиг высшего своего выражения в произведениях великого мистика XVI века Ицхака Лурия из Цфата, который, в свою очередь, развил и переосмыслил идеи знаменитой древней книги «Зоар» (созданной Моше де Леоном в XII веке). Исходный вопрос, поставленный лурианской Каббалой, звучит очень просто: как мог Эйн-Соф создать нечто, отличное от Себя, если Им было заполнено всё? Ответ на этот вопрос, напротив, был величественно-дерзким: Эйн-Соф, утверждал Лурия, претерпел «цимцум» — что на древнееврейском языке, грубо говоря, означает «сжатие», или «стягивание», а точнее — «удаление от Самого себя». Он как бы покинул некую область, освободив в Себе Самом место — этакое пустое предвечное пространство, предназначенное для будущего творения. В первом акте этого творений Эйн-Соф создал Ничто, Небытие: этот этап очень напоминает то, что в научной космогонии описывается сегодня как сжатие предсуществовавшей Вселенной в исходный «Пра-Атом»; такое сжатие в современных космогонических теориях тоже должно было сопровождаться исчезновением материи, а с нею и пространства-времени. В Каббале способность к совершению такого грандиозного действия как раз и обозначается словом «Кетер» — это величие, венец Бога. На второй стадии в сферу Ничто изливается вторая эманация — Хохма. Она как бы «взрывает» это Ничто и превращает его в Бытие. Согласно «Зоару», такое творение Бытия из Ничто начинается в мистической «предвечной точке» (космогонический «Пра-Атом»?), вокруг которой реализуется весь космогонический процесс. Вот как «Зоар» описывает этот процесс: «Сумрачный пламень из сокрытейшей глубины Эйн-Соф… стал обретать размерность и протяженность, он окрасился разными цветами… В самой середине этого пламени забил источник… он прорвал эфирную ауру, окружающую его (и)…под действием прорыва… засветилась надмировая точка… Она зовется «Решит», то есть начало, первое слово «Творения»». На языке современной космологии мы могли бы назвать эту точку «началом времени» и отождествить ее с началом инфляционной стадии расширения Вселенной. Каббалисты отождествляют эту точку с «Хохмой» — мудростью Бога, ибо, по их мнению, в ней уже изначально заключена вся эта мудрость, весь Божественный Замысел Творения. Иными словами, каббалистический миф на своем языке говорит примерно то же, что утверждает сегодняшний миф научный: будущая структура Вселенной была уже заключена («записана») в структуре «Пра-Атома» (в тех квантовых неоднородностях, из которых возникли «морщинки» и «складки», давшие начало галактикам и их скоплениям). На третьем этапе Творения точка, по утверждениям каббалистов, развивается в «дворец», или «строение» — то, что таилось в точке в свернутом состоянии, теперь развертывается в мироздание. Эманация, движущая этот процесс, есть «Бина», разум Господень, и, как пишет Шолем, «это слово обозначает в Каббале не только разум как таковой, но и то, что «разделяет вещи, дифференцирует их»». И здесь мы снова видим аналогию со второй стадией расширения Вселенной (после инфляции), когда происходит образование ее крупномасштабной структуры. Эти идеи дополняются у Лурии представлением о Божественном свете, который заполнил созданный в этом процессе мир. Так и тянет отождествить этот «первичный свет» с тем космическим «праизлучением», которое было обнаружено в эксперименте КОБЕ. Но, разумеется, у Лурии это совершенно иной свет. Подобно тому, как его «цимцум», добровольное «самоизгнание» Бога, был грандиозной метафорой и аналогией только что произошедшего изгнания евреев из Испании (тем самым это изгнание обретало смысл нового «начала», что пережить уже гораздо легче), так и Первичный Свет в мифе Лурии играл роль «движителя» всего последующего исторического процесса. «Сосуды», предназначенные для этого Света, не выдерживают его гигантского излияния, они разбиваются, и возникает мир «тогу вавогу» (хаоса); обломки сосудов вносят в мир зло, и отныне задача человечества — «починить», «исправить» этот мир, произвести «тиккун хаолам» («починку мира»); возглавить это исправление, по мнению Лурии, предназначено еврейскому народу, а признаком завершения процесса станет явление Мессии. И здесь мы отчетливо видим, что при всей аналогичности двух мифов между ними пролегает и глубочайшее различие. Каббалистический миф был культурным порождением трагического опыта средневекового еврейства, только что изгнанного из Испании, он был своеобразным «ответом», реакцией на этот опыт, дающей силы перенести трагедию и надежду на новое возрождение. Это не наука и не предвосхищение современной науки, что и следует заявить со всей определенностью, ибо находится немало охотников утверждать, будто «всё уже есть в Торе» или «всё уже предугадано в Каббале». Вернемся теперь к профессору Примаку — он как раз об этом различии (и сходстве) давно уже рвется сказать. А рвется он сказать следующее: «Каббала и современная космогония — это две системы метафор, описывающих создание и строение космоса. Эти системы различны: Каббала использует представления о «надмировой точке», «эманации Бога», «предвечном Разуме» и так далее, тогда как космогония говорит о «Пра-Атоме», «инфляционном расширении» и «крупномасштабной структуре Вселенной». Каббала говорит о путях Бога и человека, наука — о путях материи, времени и пространства. Поразительно, однако, что Каббала как метафорическое описание фундаментальных закономерностей мира оказывается намного ближе к метафорам современной космогонии, чем, скажем, к представлениям космогонии Ньютона или даже Эйнштейна. Поэтому современную космогонию можно с достаточным правом назвать научным аналогом каббалистического мифа». Профессор Примак настолько увлекается своей аналогией, что даже пытается, подобно великому Лурии, наметить свой план «исправления» мира: сегодня, говорит он, индустриальное общество переживает период чудовищно быстрого роста («инфляционное расширение» в терминах космогонии); но не бойтесь: наука предсказывает, что эта стадия сменится периодом бесконечного и вполне спокойного расширения (как и во Вселенной). Иными словами, возьмем на вооружение космогонический миф современной науки и будем уверенно править в открытое море будущего, руководствуясь мифом, как компасом. Но мы не последуем за увлеченным американским астрофизиком в это бурное море. Мы останемся на твердой почве фактов: Каббала как «метафорическая космогония» поразительно СРОДНИ космогонии научной, но, конечно, ее НЕ ПРЕДВОСХИЩАЕТ. Чем же тогда объяснить это сродство? Быть может, единой структурой человеческого мозга, которая навязана ему природой и, как следствие, единой структурой человеческого мышления? Не случайно многие специалисты по Каббале указывают, что ее «процесс истечения эманаций» во всех своих стадиях поразительно напоминает последовательные стадии психологического процесса развертывания логического мышления. Но такое объяснение сродства современной космогонии и древней каббалы предполагало бы, что это не мир обладает структурой, а наше мышление навязывает свою (космогоническую или каббалистическую) структуру миру. Переход к такому представлению равносилен переходу от «материалистической» парадигмы сознания к парадигме «идеалистической». Не будем на бегу замахиваться на парадигмы. Лучше остановимся здесь и просто снимем мысленно шляпу — перед автором «Зоара» и автором общей теории относительности, перед Ицхаком Лурией и Альбертом Эйнштейном. Перед величием человеческой мысли… Примечания:ЧАСТЬ 2 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ КОРАНА >ГЛАВА 1 МУДРЕЦЫ ПЕСЧАНЫХ ПУСТЫНЬ Некоторое время назад в газете «International Herald Tribune» была опубликована статья американского журналиста Александра Штилле под заглавием «Ученые изучают происхождение Корана». В ней говорилось, что события 11 сентября 2001 года и последовавшие за ними привлекли внимание ученых к фундаментальным основам ислама, запечатленным в Коране. Однако исследование этой книги и истории ее становления оказалось далеко не безопасным занятием. Жестокая расправа (кто не помнит историю Салмана Рушди, коему был вынесен смертный приговор!) грозит всякому, кто усомнится в словах этой книги, которую, согласно мусульманской традиции, сам Аллах продиктовал Магомету через архангела Габриэля. Штилле рассказывает о недавнем исследовании немецкого ученого Кристофа Люксенбурга «Сиро-арамейское прочтение Корана» — оно никак не могло найти издателей. Немецкие издательства страшились опубликовать эту работу, хотя в ней всего лишь утверждалось, что текст Корана на протяжении столетий читался, интерпретировался, а потому и переписывался с определенными ошибками. Не удивительно, сетует газета, что Коран до сих пор не изучен как следует, в отличие, например, от фундаментальных текстов иудаизма. Существуют лишь редкие попытки таких исследований, говорится в заключение статьи, и в качестве примера таковых приводится весьма краткое изложение гипотезы американских ученых Кроне и Кука. Александр Штилле не вполне прав. Конечно, свободно изучать Коран опасно. Но тем не менее смельчаки находятся, и сегодня в отношении истории Корана и самого ислама уже предложено несколько оригинальных и увлекающих воображение научных гипотез. Думается, читателям будет небезынтересно ознакомиться с этими новыми идеями. Известно, что ранний ислам сформировался под сильным влиянием иудаизма, занесенного в Аравию переселившимися сюда в начале новой эры евреями: например, аравийский город Ятриб (он же Медина) населяли целых три еврейские общины, что сыграло не последнюю роль, в решении бежавшего из Мекки Мухаммеда переселиться именно сюда — пророк рассчитывал заключить союз с иудеями. Из иудаизма ислам заимствовал учение о едином Боге и многое другое, причем это заимствование происходило весьма легко, поскольку лежало в русле уже существовавшей издавна традиции, согласно которой арабы, как и евреи, происходят от праотца Авраама («первым арабом» считается Ишмаэль, сын Агари, наложницы Авраама; не случайно один из мифов современного исламского антисемитизма гласит, что Завет был заключен Богом не с евреями, а с арабами, ибо это произошло после рождения Ишмаэля, но до рождения Ицхака). Хорошо известно также, что в дальнейшем Мухаммед решительно повернулся против евреев, и весь Коран пронизан призывами к их истреблению («И скажет куст: о мусульманин, о Абдалла! За мной скрывается еврей — приди и убей его!»). Иногда это объясняется отказом ятрибских евреев принять ислам, но английский историк-арабист Бернард Льюис считает попросту, что «евреи Медины играли роль балансира между двумя враждующими арабскими общинами и поэтому были ненавидимы обеими». Мухаммед, по Льюису, видел свое призвание в объединении арабов, а евреев считал главной помехой такому объединению. Однако ненависть к евреям не утихла и после арабского объединения под знаменем ислама. И чуть ли не первым делом самого Мухаммеда, а потом его преемников стала подготовка похода на Палестину (она была захвачена халифом Омаром в 638–640 годах). Историки до сих пор спорят о военно-стратегических целях этого похода, но именно неясность таких целей заставляет думать, что Мухаммед попросту завещал своим преемникам подсечь самые корни иудаизма, отняв у него «землю праотцев» и превратив ее в «землю ислама». Некоторые историки поэтому полагают, что в основе этой неукротимой ненависти лежало непримиримое, не на жизнь, а на смерть, религиозное соперничество, вроде того, которое породило яростный антисемитизм раннего христианства. Но в эпоху раннего ислама евреи давно уже не представляли собой того сильного конкурента, каким они были в отношении раннего христианства во времена Римской империи. Тут явно скрыта какая-то тайна, разгадка которой требует отказа от устоявшихся представлений и выдвижения альтернативных гипотез. Оказывается, их существует даже несколько. Одна из них предлагает присмотреться к религиозным особенностям раннего ислама. Он действительно заимствовал у иудаизма весьма многое: не только монотеизм и ряд важных деталей вроде запрета на родственные браки, пищевых запретов и т. д., но даже порой такие тонкости, на основании которых некоторые специалисты утверждают, что Мухаммед был знаком с определенными, специфически еврейскими (т. н. «мидрашистскими») толкованиями Торы. Но, кроме того, в исламе есть и христианские элементы. Само по себе это не так уж странно — всякая более поздняя религия складывается на основе заимствований из предшествующих. Странность в том, что и иудейские, и христианские заимствования в исламе, по мнению тех же специалистов, отражают воздействие не вполне ортодоксального иудаизма и не вполне ортодоксального христианства, а, скорее, влияние каких-то сект или даже ересей. Так, изнурительные и долгие мусульманские посты ближе к уставам ранних христианских аскетических монастырей, чем к более позднему византийскому христианству, а апокалиптические описания Страшного суда, который, по Мухаммеду, может наступить «в течение двух мгновений», ближе к представлениям кумранской общины евреев, чем к традиции иерусалимской ортодоксии. В то же время резкие нападки Мухаммеда на ростовщиков и запрет на ростовщичество напоминают определенные черты караимской ереси в иудаизме. Наконец, в раннем исламе с его идеей «цепи пророков», последним из которых является Мухаммед, можно увидеть и черты т. н. гностической ереси: именно такую идею провозглашали гностики-«элказаиты», секта которых сложилась около 100 года н. э. в Сирии, а затем — наследовавшая им и куда более известная секта манихейцев. На основании всех этих наблюдений выдающийся знаток раннего христианства Гарнак выдвинул весьма нетривиальную гипотезу, согласно которой «ислам является переделкой еврейской религии на арабской почве — переделкой, произошедшей после того, как сама еврейская религия была переделана гностическим иудео-христианством». По Гарнаку, учителями Мухаммеда были не еврейские раввины или христианские священники, а иудео-христианские сектанты-гностики. Именно под влиянием гностицизма, считает он, Мухаммед не принял ни иудейского, ни христианского Бога, а провозгласил своего Всевышнего — Аллаха. Но другие ученые считают, что это утверждение Гарнака неубедительно. Аллах — божество из очень древнего арабского пантеона. Среди 360-ти статуй богов и богинь, стоявших в доисламской Каабе, одна была посвящена Аллаху. Мухаммед просто возвысил этого племенного божка до ранга единственного Бога. Кроме того, в исламе нет многих важнейших признаков гностицизма. Исходя из этого, шведский исследователь Тор Андре, оппонент Гарнака, предложил другую альтернативу канонической мусульманской версии происхождения ислама. По его мнению, ранняя проповедь Мухаммеда выдает близкое знакомство с идеями монастырского христианства. Не исключено, говорит Андре, что во время своих торговых скитаний по Южной Аравии и Синайскому полуострову Мухаммед мог побывать в тамошних монастырях, познакомиться с их уставами и подпасть под очарование их сурового, скромного быта. Андре не отрицает, что Мухаммед испытал также влияние еврейской мысли, но считает, что еврейские наслоения играют в исламе вторичную роль. Свое утверждение Андре пытался доказать путем сопоставления ранних и поздних сур Корана, ранней проповеди Мухаммеда и его религиозных реформ в последние годы жизни. Но в гипотезе Андре есть слишком много слабых мест. Достаточно упомянуть (это сделал еврейский историк Гойтейн), что имя Иисуса встречается в Коране всего четыре раза, а имя Моисея — около ста раз. Образ Моисея как первого религиозного учителя в исламской «цепи пророков» буквально пронизывает ранний ислам. На его приоритет в создании монотеизма ссылается и сам Мухаммед: «Ибо до этой книги (Корана. — Р.Н.) была книга Моисея (Тора. — Р.Н.)». Это тем более удивительно, говорит Гойтейн, что слова. Мухаммеда сказаны уже в талмудическую эпоху, когда в самом иудаизме Моисей рассматривался вовсе не как «первый в цепи Пророков», а как «первый в цепи Закона». Кто же это в ту эпоху мог внушить Мухаммеду такое неортодоксальное представление о Моисее и такое уважение к нему? — спрашивает Гойтейн. И отвечает собственной, еще более нетривиальной гипотезой. Он выдвигает смелое предположение, что среди еврейских сект, во множестве возникших в иудаизме на переломе эпох, существовала и неведомая нам секта «Последователей Моисея», или «Бней-Моше». Возможно, она возникла, говорит Гойтейн, как реакция на ортодоксальный иудаизм, как своего рода попытка возврата к «старому учению». Исследования текста Торы уже давно показали, что в иудаизме все время шла подспудная борьба между священниками Храма, пытавшимися «поднять» роль Аарона, прародителя левитов, в ущерб авторитету и значению Моисея. В таком случае секта «Бней-Моше» могла возникнуть в продолжение этих давних споров. С другой стороны, она могла появиться как Противовес возникшим тогда же протохристианским общинам, также отходившим от господствовавшей иудейской ортодоксии, но в противоположную сторону. Как бы то ни было, секта эта, полагает Гойтейн, видимо, бежала из Палестины во время Иудейской войны и последующей разрухи. Но не скрылась, как Кумранская община, на берегах Мертвого моря, а бежала намного дальше — в самую Аравию. Такое предположение подтверждается тем, что первые упоминания о появлении евреев в Аравии датируются именно началом новой эры. Впоследствии, конечно, в Аравию бежали и другие еврейские общины — как из самой Палестины, так и из Византии и Персии. Но это уже, скорее всего, были вполне ортодоксальные иудеи. Поэтому община, «Бней-Моше», рассуждает Гойтейн, должна была оказаться среди них своего рода изгоем. Подобно караимам, община эта признавала, видимо, только «учение Моисея», то есть Тору, но не Талмуд. Но существовало и различие — в то время как караимы признавали только Письменную Тору и отвергали Устный Закон, члены секты «Бней-Моше», скорее всего, признавали только Устную Тору. Не исключено, что за долгие века обособленного существования в Аравии секта могла набраться и других еретических взглядов, в том числе и гностических. Будет только правдоподобным считать, что в поисках союзников и покровителей лидеры секты «Бней-Моше» искали контактов с арабами — и, среди прочего, также с арабскими бродячими пророками, взыскующими новых духовных горизонтов и потому открытыми для прозелитизма. Таинственность, гонимость уединенного еврейского племени, почитаемая им величественная фигура древнего пророка, его религиозное учение, которое «Последователи Моше» противопоставляли более позднему, «испорченному» раввинами иудаизму, — все это могло произвести резкое и неизгладимое впечатление на экзальтированного арабского юношу Мухаммеда и запасть ему в душу так глубоко, что впоследствии отразилось и в его собственной проповеди и религиозном учении. Не на этих ли первых своих духовных учителей, спрашивает Гойтейн, намекал много позже сам Мухаммед в седьмой суре Корана: «Среди последователей Моисея (евреев. — Р.Н.) есть одно племя, которое выше всех в своем следовании Истине и судит в соответствии с ней»? Интереснейшая гипотеза Гойтейна позволяет вполне непринужденно объяснить и последующую резкую вражду Мухаммеда с основными еврейскими общинами Аравии. Ведь то были ортодоксальные общины. Учение секты «Бней-Моше», да еще в обработке арабского пророка, действительно могло показаться этим еврейским ортодоксам «карикатурой на иудаизм». Более того, оно могло показаться им нетерпимой ересью — ведь оно отрицало Письменную Тору. Со своей стороны, Мухаммеду могла показаться крайне узкой и догматичной, а главное — непримиримо враждебной его взглядам их ортодоксально-раввинистическая доктрина. Недаром он объявил ее «порчей Истины», «позднейшим извращением». В таком случае, говорит Гойтейн, преследование пророком мединских евреев следовало бы рассматривать как своего рода «религиозную войну» со всей присущей таким войнам беспощадностью. И тут в развитии этой гипотезы возникает соблазн истолковать и последующее стремление Мухаммеда завоевать Палестину как продолжение все той же «религиозной войны» — вроде состоявшихся много позже крестовых походов во имя «освобождения Гроба Господня» от «неверных». Но ведь в Палестине к тому времени евреев практически уже не было — ни ортодоксальных, ни «последователей Моше». От кого же — или для кого — Мухаммед завещал ее «освободить»?. На этот ключевой для данной темы вопрос ответили новые участники заочного спора вокруг раннего ислама и происхождения Корана. Ими были американские исследователи Патришия Кроне из Института высших исследований в Принстоне и Майкл Кук из Принстонского университета, оба — выходцы из школы ориентальных и африканских исследований в Лондоне. Их гипотеза буквально взорвала все прежние представления о генезисе ислама и его основополагающей книги. То была крайне дерзкая гипотеза. >ГЛАВА 2 ХИДЖРА ПОТОМКОВ АГАРИ Патришия Кроне закончила в свое время лондонскую Школу восточных и африканских исследований, а свою докторскую диссертацию «Агаризм, или Становление исламского мира» защитила в молодом возрасте в 50-е годы. Но произведенный ею в этой диссертации переворот в представлениях об истории ислама был настолько решительным и вызвал такую бурю, что отдельной книгой (в расширенном виде) она вышла только в 1977 году — как уже сказано, в соавторстве с профессором Принстонского университета (и тоже выпускником Школы восточных и африканских исследований) Майклом Куком. Книга вышла в издательстве Кембриджского университета. Престижное издательство не случайно опубликовало диссертацию Кроне — к тому времени бывшая аспирантка вошла в число ведущих ориенталистов мира, стала профессором известного принстонского Института высших исследований и автором целого ряда глубоких и всеми признанных работ по истории раннего ислама. Открывая книгу Кроне и Кука (а ее стоит открыть, это без преувеличений увлекательное, даже захватывающее чтение), мы оказываемся в абсолютно незнакомом мире: меняются не только порядок и иерархия уже знакомых нам событий, но и сам их смысл. Нам как будто рассказывают совершенно другую историю, хотя и с теми же самыми героями. Разумеется, это опять Мухаммед и евреи — кто же еще? Видимо, исламу никуда не деться от евреев. Но мы словно смотрим на них иными глазами. Кроне действительно смотрит на историю «Становления исламского мира» (как называлась ее диссертация) глазами тех свидетелей, показания которых прежде всегда оставались в тени. До нее история раннего ислама изучалась преимущественно со слов самих мусульман, то есть по арабским источникам. Кроне же утверждает, что с таким же успехом можно изучать историю раннего христианства, пользуясь только показаниями Евангелий. Дело в том, что исследования последних лет выявили совершенно неожиданное обстоятельство. Оказывается, все арабские хроники, описывающие эпоху раннего ислама, созданы на самом деле много позже, чем происходили описываемые в них события (та же ситуация, как известно, имеет место во многих книгах еврейской Библии, т. н. ТАНАХа). Что еще более удивительно — в ранних арабских источниках нет никаких указаний на существования самого Корана — в какой бы то ни было форме. Их нет вплоть до конца VII века н. э., когда Мухаммед был давно уже мертв! Как пишет английский историк Джон Вансброу, первые цитаты из Корана (в виде надписей) появляются лишь в 691 году (на стенах иерусалимской «Мечети на скале»), причем эти цитаты явно отличаются от тех же мест в нынешнем тексте Корана, который передается из столетия в столетие. Это означает, что в VII веке Коран еще только складывался. Точно так же установлено, что многое из того, что сегодня называется «ранним исламом», то есть нынешний рассказ о жизни и. поучениях самого Мухаммеда, основано на текстах, которые сложились через сто с лишним, а то и триста лет после смерти самого пророка (аналогичная ситуация, хотя и с несколько меньшим временным разрывом, характерна, как известно, и для христианства). Выходит, вся история становления ислама и Корана, как она описывается в использовавшихся учеными ранних арабских источниках, является в действительности весьма сомнительной. Но в таком случае, говорят Кроне и Кук, следует обратиться к свидетельствам других народов — тех, которые в ту пору окружали арабов. Легко понять, что это означает радикальную смену угла зрения: до сих пор мы смотрели на историю ислама глазами арабов, теперь попробуем взглянуть на нее же глазами их соседей. И тут нас подстерегает неожиданность — картина оказывается радикально иной. Какой же именно? Вот один из таких новых документов, найденных Патришией Кроне. Это отрывок из греческого (византийского) текста «Доктрина Яакова», созданного, по всей видимости, около 630 года в Палестине. Палестинский еврей Авраам сообщает своим единоплеменникам, живущим в Карфагене, поразительную весть: «Лжепророк появился среди сарацинов. Он пророчит приход Избранного (здесь в тексте стоит греческое слово, означающее Мессию), который придет вслед за ним. Я, Авраам, спросил ученого человека: «Рабби, что ты думаешь о пророке, который явился среди сарацинов?» «Он лжепророк, — ответил рабби со вздохом. — Разве пророки приходят с мечом и на колеснице?» Я стал расспрашивать, и те, кто его встречал, сказали: «В нем нет правды, в этом пророке, одно кровопролитие. Ибо он говорит, что держит ключи от Рая, а этого не может быть»». В этом отрывке, говорит Кроне, содержится, во-первых, указание на доктрину «ключей от Рая», которая действительно существовала в доисламской арабской традиции, но с приходом ислама была объявлена еретической; поэтому можно думать, что данный текст был составлен раньше, чем произошло окончательное формирование ислама. Во-вторых, о пророке здесь говорится как о еще живом человеке. В-третьих, и это главное; он изображен как человек, объявляющий себя предшественником Мессии. Иными словами, ядром его учения является еврейский мессианизм в арабском исполнении. Это весьма неожиданно — ведь в Коране нет никаких следов мессианства. Тем не менее сказанное в «Доктрине Яакова» находит подтверждение в другом — и независимом — документе: в еврейском апокалиптическом тексте «Тайна рабби Шимона бар Иохая». Он был написан в середине VII века и содержит следующий рассказ о вторжении арабов в Палестину: «И увидел он приход царей Ишмаэля и возопил: «Мало нам было царей Эдома, так теперь еще и цари Ишмаэля?!» Тогда Метатрон, повелитель воинств, ответил ему и сказал: «Не страшись, ибо Всевышний, да будет Он благословен, избрал у них пророка по воле Своей и привел его покорить землю твою, дабы возродить ее в величии ее». И он спросил: «Как нам знать, что это наше избавление?» И ответил: «Не сказано ли у Исайи: «И увидел всадников на верблюдах…» и так далее? Когда пройдет всадник на верблюде, придет за ним всадник на осле и создаст царство. И будет царство сие избавлением Израиля, ибо подобно оно Спасителю, приходящему на осле»». «Спаситель, приходящий на осле», — конечно, Мессия. Те считаные евреи, которые жили тогда в Палестине, вполне могли видеть в арабских всадниках своих избавителей от византийской власти. Но любопытно, что автор текста включает в традиционное еврейское описание прихода Мессии еще и появление арабского пророка на верблюде в качестве его предшественника. Евреи вряд ли отвели бы «сыну Ишмаэля» такую роль, это могло прийти только из арабских источников. И в них действительно есть тому косвенное подтверждение: калиф Омар именуется там «аль-Фарук», что означает как раз «Избавитель», причем утверждается, что это прозвище дал ему сам Мухаммед. Разумеется, арабы начисто отрицают, будто Омар призван был избавить евреев. Но если Мухаммед (как вроде бы следует из текста «Доктрины Яакова») считал себя предшественником Мессии, то прозвище, которое он дал Омару, этому самому выдающемуся из своих преемников, выглядит весьма знаменательно. Может быть, евреи Палестины (в отличие от христиан) не случайно так тепло встречали Омара? Может быть, есть смысл прислушаться и к армянским источникам того времени, в которых сообщается, что при Омаре правителем Иерусалима был назначен некий — еврей? Если свести все эти рассеянные детали воедино, — говорит Кроне, — то вырисовывается неожиданная картина: вместо привычной ненависти между арабами и евреями, между мусульманами и иудеями возникает впечатление близости одинаковых мессианских чаяний и надежд. Воображение противится этой непривычной картине, но Кроне привлекает на помощь еще один текст — первый армянский документ, в котором упоминается Магомет. Это т. н. «Хроника епископа Себеоса». В ней рассказывается о бегстве группы евреев из захваченного византийцами в 628 году персидского города Эдесса: «И они ушли в пустыню и пришли в Аравию и искали помощи у детей Измаила, объяснив им, что они их родственники по Библии. И хотя многие готовы были признать это родство, евреи не могли убедить большинство, ибо у тех были другие верования. И был в то время измаильтянин по имени Мехмет, купец, и он предстал перед ними как глашатай истины, и научил их путям Авраамова Бога, ибо он хорошо знал Его пути и хорошо знал историю Моисея. И было ему веление объединить их всех под одним человеком и одним законом, который Бог открыл Аврааму. И сказал им: «Господь обещал эту землю Аврааму и его потомству, поэтому пойдем и возьмем эту землю, которую Господь дал нашему отцу Аврааму». И они все собрались и вышли из пустыни, как из Египта, и разделились на двенадцать колен, и впереди каждого колена шла тысяча израильтян, дабы показать им путь в Землю Израиля. И все. евреи по пути присоединялись к ним, и стала у них великая армия, и они послали к греческому императору, и сказали ему, что эта земля принадлежит им по наследству их праотца Авраама». Разумеется, в этом тексте немало преувеличений и анахронизмов, но нарисованная в нем картина арабо-еврейских союзнических отношений неожиданно подтверждается еще одним документом — на сей раз арабским! Он называется «Конституция Медины», и в нем, вопреки каноническим рассказам об истреблении Мухаммедом мединских евреев, говорится, что эти евреи, напротив, вошли в одну общину с мусульманами и были поровну распределены между арабскими племенами, — а ведь именно о таком распределении («тысяча евреев при каждом арабском колене») и говорит «Хроника епископа Себеоса». Причем эта «Конституция Медины» — несомненно, древний документ, ибо более поздние арабские источники настойчиво пытаются убедить, что вражда между евреями и арабами возникла почти сразу после прибытия Мухаммеда в город; тем больше, говорит Кроне, оснований верить более раннему источнику. Попробуем теперь собрать воедино все свидетельства, приведенные Кроне и Куком, — к чему это все ведет, что означает? >ГЛАВА 3 МУСУЛЬМАНЕ В ПОИСКАХ ИСЛАМА Означает это, что еврейские, армянские, христианские и, наконец, арабские источники, впервые введенные в оборот Патришией Кроне, рисуют совершенно новую картину арабо-еврейских отношений во времена деятельности Мухаммеда и становления ислама, нежели та, какую изображают более поздние, религиозно и политически ангажированные исламские источники. Действительно, если собрать воедино все «свидетельства соседей», приведенные Кроне и ее соавтором Куком, то перед нами возникнет довольно стройная и связная, хотя и крайне непривычная схема. Если же еще поверить этой схеме, то окажется следующее. Поначалу главным стремлением первых мусульман было мессианское, «еврейского типа» стремление отвоевать Обетованную землю — для себя и своих сородичей по Аврааму, своих религиозных учителей-евреев, и именно поэтому Мухаммед провозгласил себя «предшественником Мессии» (отведя роль самого Мессии-Избавителя своему преемнику Омару). Евреи, по Кроне, не только приняли эту мессианскую затею с воодушевлением, но, возможно, сами и были ее первыми вдохновителями. Не они ли нашептали Мухаммеду, что он является продолжателем дела Моисея и что ему, как и самому Моисею, «суждено вывести свой народ из пустыни» (только в данном случае не из Синайской, а из Аравийской!) в Землю обетованную, т. е. совершить своеобразный «арабский Исход»? Но если план завоевания Палестины под водительством Мухаммеда действительно был такой вот религиозно-мистической попыткой повторения еврейского Исхода из Египта под водительством Моисея, то нельзя ли найти следы этого в ранних исламских источниках? И Кроне находит эти следы после того, как задается странным на первый взгляд вопросом: как могли называть себя эти первые последователи Мухаммеда? Ну, разумеется, не «новыми евреями», отвечает она, но и, во всяком случае, не «мусульманами», ибо это слово впервые появляется только в упомянутой нами ранее надписи в иерусалимской «Мечети на скале», а эта мечеть была сооружена лишь в 691 году. Зато в греческом папирусе 642 года и в некоторых сирийских источниках того же времени первые последователи Мохаммеда именуются странным словом «магаритаи», или «магараи», соответствием чему в арабском языке является слово «мухаджруг», означающее тех, кто принимал участие в «хиджре». «Хиджра» же обычно переводится как «исход» и, согласно каноническому исламскому толкованию, означает именно исход, или бегство, Мухаммеда с первыми последователями (этими самыми «мухаджрун») из Мекки в Медину. Но «мухаджрун», подмечает Кроне, имеет и еще одно значение: оно переводится также как «агаритяне», то есть потомки Агари, матери Ишмаэля. Любопытно при этом, что более древним является именно это второе значение, ибо ни слово «хиджра», ни сам рассказ о бегстве Мухаммеда из Мекки в Медину не упоминаются в ранних исламских источниках. Как это понять? И тут Кроне выдвигает смелое предположение: может быть, этих упоминаний нет потому, что поначалу никакой «хиджры» на самом деле и не было. А была группа религиозных единомышленников, называвших себя «мухаджрун», или «агаритяне», потомки Агари, которые задумали совершить Исход из Аравийской пустыни в Землю обетованную, завещанную Господом их праотцу-Аврааму, в полном подобии древнему Исходу своих сородичей-евреев из Синайской пустыни в ту же Землю обетованную праотца Авраама (только, как уже сказано, под водительством Моисея, а не Мухаммеда). И лишь много позже составители исламского канона, желая скрыть следы этого Исхода, задним числом придумали легенду, будто Исход агаритян был всего-навсего бегством Мухаммеда и его единомышленников из Мекки в Медину, а чтобы объяснить, почему участники этого «бегства» называли себя «мухаджрун», объявили, что «мухаджрун» — это производное от слова «хиджра», которым было якобы прозвано упомянутое событие, будто бы положившее начало превращению арабов в мусульман. «В этой игре слов, — считает Кроне, — как раз и состояло самое раннее зерно той веры, которая впоследствии превратилась в ислам». По ее мнению, далее с новорожденным «агаризмом» произошло примерно то же, что произошло с ранним христианством, в котором нашелся апостол Павел, круто повернувший новое учение, ранее ютившееся на обочине иудаизма, к другой, намного более широкой аудитории — с известными и судьбоносными историческими последствиями. Агаритяне тоже отвернулись от евреев, и агаризм тоже переименовал себя, став исламом, только мусульмане, в отличие от христиан, принялись расширять число приверженцев ислама не словом, а мечом. Не случайно вторая часть работы Кроне и Кука так и называется: «Агаризм без иудаизма». Вот как, на взгляд авторов, происходило становление ислама. Войдя в заветную Палестину, агаритяне с удивлением обнаружили, что основную часть ее населения составляют не евреи, а христиане, и это побудило их произвести переоценку приоритетов. По утверждению упомянутого епископа Себеоса, вскоре между евреями и арабами вспыхнул первый конфликт: евреи требовали, как й положено, в мессианские времена, тотчас приступить к восстановлению Храма, арабы, вместо этого, начали строить свою «Мечеть на скале». Одновременно они, в точном соответствии с предписаниями «реальной политики», стали сближаться с более многочисленными христианами: уже в 650 году калиф Муавия молился на Голгофе, в Гефсиманском саду, у могилы Девы Марии. Впрочем, так утверждает епископ Себеос, сам христианин, но вот и в письме некого Яакова из Эдессы тоже сообщается, что «агаритяне признают Иисуса подлинным Мессией». Затем появляются данные и о сближении агаритян с палестинскими самаритянами, этими давними конкурентами иудеев в Палестине. Самаритяне, как и христиане, признавали основные принципы «Моисеевой веры», первоначально разделявшиеся также вторгшимися в страну агаритянами, и, стало быть, на этой основе можно было создать более широкий и сильный религиозно-политический союз. И вот этот-то переход от союза с евреями к союзу с христианами и самаритянами имел, по мнению Кроне, решающее значение для агаритян. Мало того, что такой союз освободил их от привязки к «Мессии из дома Давидова», т. е. к еврейскому Мессии (который в Моисеевом Пятикнижии, кстати говоря, не упоминался), — он позволил им наконец создать и собственную национальную религию. «Использовав веру Авраама для утверждения и определения себя, — пишет Кроне, — агаритяне взяли затем на вооружение христианский мессианизм, чтобы подчеркнуть, кем они не являются (евреями. — Р.Н.), и, наконец, заимствовали у самаритян доверие к одному только. Пятикнижию, чтобы выработать собственную религиозную доктрину». Соответственно была переосмыслена и роль Мухаммеда: в религиозном сознании поздних агаритян он стал превращаться из «предшественника Мессии» в последнего в «цепи пророков», начатой Моисеем, т. е. в глашатая новой религии, а затем — возможно, под влиянием все тех же самаритян, он превратился в глашатая совершенно нового Закона, уже не Моисеева, записанного в Пятикнижии, а своего собственного, записанного в Коране (сложившемся, как и Пятикнижие, много позже описанных в нем событий). Тогда-то это новое учение и получило собственное название — ислам. Кроне считает, что и тут проявилось влияние самаритян. Слово «аслама» (восхождение) существовало и в иврите, и в арамейском, и в сирийском языках, но только у самаритян оно приобрело значение «покорность Богу». Это и стало самоназванием новой религии. Так «Исход» агаритян в Палестину и столкновение арабов здесь с самаритянами, христианами и евреями привели к становлению ислама как особой новой религии, которая принялась энергично (и насильственно) привлекать все новых, и новых сторонников. Такова картина складывания раннего ислама и появления Корана, нарисованная Патришией Кроне. При всей своей впечатляющей убедительности и логичности, она тоже не стала последней в ряду гипотез, появившихся на Западе на эту тему. Исследования продолжаются, и гипотезы множатся, но теперь уже — под определенным влиянием работы Кроне. Так, в той же статье Александра Штилле, с которой мы начали наш рассказ, сообщается, как уже упоминалось вначале, о работе немецкого исследователя Люксенбурга «Сиро-арамейское прочтение Корана». Идеи этой работы напрямую примыкают к идеям Патришии Кроне. Люксенбург говорит, что многие трудности понимания Корана связаны с тем, что его рассматривают как чисто арабский текст, тогда как он возник под сильным влиянием арамейского языка, который был в те времена основным для ближневосточных евреев и христиан. Иными словами, поскольку Коран складывался в среде носителей арамейского языка, он не мог не испытать и влияния их религиозных идей в точном соответствии с тем, что утверждает Кроне. В качестве примера такого языкового влияния Люксенбург приводит известное изречение Корана о том, будто на том свете исламских самоубийц ждут девственницы, в тексте — «хур». Исламская традиция утверждает, что это слово якобы является сокращенной формой «хури», что означает «девственницы», и, соответственно, объясняет этот отрывок своим неграмотным слушателям как обещание сексуальных услад в раю, тогда как на самом деле, говорит Люксенбург, это арамейское «белый изюм», и именно так «хур» переводится в одном весьма уважаемом словаре раннего арабского языка. Теперь становится понятно, почему книга Люксенбурга так долго не могла найти издателей даже в Европе — хранители исламской, веры не любят, когда им указывают на сознательное и целенаправленное перетолкование ими священного текста или напоминают, как это сделал в своем романе Салман Рушди, о «запретных сурах». И не только не любят, но и готовы любой ценой подавить такое «кощунство». Даже великого египетского писателя Нагиба Махфуза как-то раз пырнули ножом за то, что одна из его книг кому-то показалась не совсем «правоверной». А человека рангом пониже, палестинского ученого Сулимана Башара, вообще вышвырнули из окна второго этажа — за невинное утверждение, что ислам сформировался постепенно, а не вышел сразу из уст Боговдохновенного пророка. Фанатизм ревнителей Корана сравним разве что с фанатизмом вдохновленных им террористов-самоубийц. Где уж ученым в таких условиях изучать становление ислама и Корана?! Приходится скорее удивляться тому, что хоть что-то в этом направлении все-таки делается. И совсем даже небезынтересное «что-то». Как мы и пытались показать это в нашем очерке. >Часть 3 НЕРАЗГАДАННЫЕ ЗАГАДКИ БИБЛИИ >ГЛАВА 1 ЗАГАДКИ КУМРАНА Недавно на экранах телевидения промелькнуло интервью с Изхаром Хйрщфельдом, профессором Еврейского университета в Иерусалиме. Оно было приурочено к выходу новой книги Хиршфельда, посвященной раскопкам в Кумране и т. н. свиткам Мертвого моря. Книга вышла пока только на иврите, по-английски она еще лишь рекламируется, но объявление о ее предстоящем выходе в свет уже сопровождается в каталоге издательства жирной красной звездочкой и большим восклицательным знаком — единственными на весь длинный перечень других книг по соответствующей теме. «Книга профессора И. Хиршфельда», — говорится в коротенькой аннотации, — «переворачивает все прежние представления историков о Кумране». Пытаться пересказать, не будучи специалистом, «все прежние представления историков о Кумране» было бы, по меньшей мере, самонадеянно. К счастью, это и не требуется. Чтобы понять смысл «переворота в представлениях», о котором возвещает аннотация, достаточно припомнить лишь самые основные факты. Речь идет о том самом Кумране — древнем еврейском поселении вблизи Мертвого моря на полпути между Йерихо и Эйн-Геди, — в пещерах вокруг которого в середине прошлого века были найдены знаменитые рукописи и фрагменты, написанные (частично на иврите, частично на арамейском) в период от II века до н. э. и до I века н. э. и содержащие поистине бесценный материал для понимания иудаизма того времени и зарождавшегося тогда христианства. Они-то и называются «Свитками Мертвого моря», или иногда еще — «Кумранскими рукописями». Понятно, что находка таких материалов не могла не всколыхнуть научный мир, и она его действительно всколыхнула, да так, что волны этого толчка не утихают вплоть до нынешнего дня. Книга профессора Хиршфельда — еще одно тому подтверждение. Другим подтверждением этого могут служить споры, вспыхнувшие вокруг публикации статей израильских археологов Ицхака Магена и Юваля Πелега, в которых они недавно подвели итоги своим 10-летним раскопкам в том же Кумране. Широкому читателю эти «кумранские сенсации» вряд ли известны, и поэтому представляется интересным о них рассказать. История обнаружения, собирания, публикации и анализа свитков Мертвого моря изобилует не только поразительными научными открытиями, но и живописными деталями поистине приключенческого толка. Достаточно было бы припомнить, как впервые и совершенно случайно обнаружил эти свитки арабский пастух, как бедуины продавали их историкам «по сантиметрам», как израильские специалисты через цепочку подставных лиц добывали эти библейские документы на иорданских базарах, как тайком вывозились эти драгоценные документы из Палестины, как распознавались и склеивались уцелевшие кусочки в сплошные тексты… но все это многократно описано в популярных книгах, количество которых тянет уже на приличную библиотеку. Мы же здесь хотим поговорить о другой стороне этой истории: о стороне не столько. научной и даже не столько приключенческой, сколько — скандальной. Даже дважды скандальной. Ибо мало того, что значительная часть собранных с таким трудом и важных для всего тйучного мира свитков и их разрозненных фрагментов долгие десятилетия укрывалась от глаз специалистов-историков, так еще и собранный в Кумране археологический материал до сих пор им во многом недоступен. Как это может быть? — наверняка спросите вы. Попробую объяснить. Первые свитки и фрагменты были собраны в пещерах Мертвого моря в период с 1947 по 1956 годы. Их значение было осознано сразу же после открытия, и еще в 1953 году был создан международный комитет по их изданию. Лет 10 спустя многое было издано в виде семитомной оксфордской серии «Открытия в Иудейской пустыне», но в частных руках оставалось еще несколько тысяч фрагментов, представлявших собой обрывки примерно 100 рукописей, и вот их-то публикация была вдруг по непонятным причинам приостановлена, и доступ к ним был ограничен узким кругом примерно 20 человек. Эти люди долгие годы публиковали отдельные фрагменты, зачастую даже без серьезного анализа. Все призывы прекратить эту недостойную практику и опубликовать весь материал оставались втуне, и непристойная свара ученых вокруг свитков Мертвого моря продолжалась до самого начала 1990-х годов. Затем сторонники общедоступной публикации пошли на решительный, хотя и беспрецедентный шаг. Гершель Шанкс, издатель важнейшего библеистического журнала «Biblical Archeology Review» (BAR), каким-то образом раздобыл фотографии неопубликованных фрагментов и с помощью калифорнийских профессоров Р. Айзенмана и Д. Робинсона самовольно издал их в виде двухтомника «Факсимильное издание свитков Мертвого моря». Тем самым все они стали, наконец, доступными для широкого научного изучения. Дело, однако, этим не закончилось. В свое издание Шанкс включил также некий фрагмент свитков под каталоговым номером 4QMMT, который в свое время был реконструирован профессором Еврейского университета в Иерусалиме Элищей Кимроном. Однако Кимрон не только реконструировал этот текст, но также заполнил, опираясь на свои познания, многочисленные пропуски в нем, проанализировал его и показал, что он проливает новый свет на важнейший вопрос об авторах свитков Мертвого моря и их отношении к священнослужителям тогдашнего (Второго) Иерусалимского храма. Результаты своей работы он изложил в частной, не для публикации, статье, и, когда Шанкс включил ее в свое факсимильное издание, Кимрон обратился в суд, обвинив Шанкса в незаконном использовании результатов его труда. Дело дошло до израильского Верховного суда, и в августе 2000 года этот суд признал права профессора Кимрона на реконструированный документ как на личную интеллектуальную собственность. Тем самым была поставлена последняя точка в затянувшейся научной войне. Как пишет американский ученый Поль Флешер, «война в целом была выиграна правой стороной, а последнее ее сражение было выиграно другой, но тоже правой стороной». И, тем не менее, добавим, она покрыла бесславием все воевавшие стороны. С археологическими находками дело обстояло примерно так же. В 1951 году французский Библеистический институт направил известного в ту пору ученого, доминиканского священника-археолога Ролана де Во, на раскопки в Кумран, но большинство предметов, найденных им на этих раскопках, до сих пор остаются недоступными для свободного научного анализа, их описания не опубликованы, и специалистам приходится полагаться на безапелляционные суждения самого де Во. В результате, важнейший вопрос: что представлял собой древний Кумран? — все еще не имеет однозначного решения. А между тем этот вопрос, как это сразу же стало ясным, тесно связан с вопросом о том, кто был автором Кумранских рукописей (т. е. свитков Мертвого моря), а это, в свою очередь, — с вопросом, каково место этих материалов в истории иудаизма и христианства. Такая вот получается запутанная сама на себя история. Давайте попробуем ее распутать. Начнем с конца: со значения Кумранских рукописей. Уже первые свитки, найденные в пещерах вокруг Кумрана в конце 1940 — начале 1950 годов, удивили историков своим содержанием. Кроме двух копий книги пророка Исайи и некоторых ранее неизвестных версий книги Бытия и книги Псалмов, здесь были также документы ритуального характера, впервые прочитанные группой Барроуза и позднее получившие у специалистов название «Устава Общины». Они, действительно, описывали правила поведения членов некой религиозной общины, причем во многом и принципиально отличавшейся от тогдашней еврейской общины, зато в чем-то предвосхищавшей общину и принципы раннего христианства, как они изложены в т. н. Новом Завете. Известный израильский историк профессор Сукеник первым, еще в 1953 году, высказал предположение, что кумранскую общину составляли ессеи — небольшая секта в тогдашнем иудаизме, известная по описаниям Филона Александрийского и Иосифа Флавия, а также греческого историка Плиния Старшего. Если верить Флавию, община насчитывала не более 4 тысяч человек во всем тогдашнем Израиле, была рассеяна по всей стране и отличалась резко критическим отношением к тогдашним руководителям Храма, подчеркнутым стремлением к почти монашескому аскетизму и чистоте и углубленным интересом к «тайнам Торы». Плиний, в отличие от Флавия, сообщал, что ессеи живут, в основном, на западном берегу Мертвого моря, неподалеку от Эйн-Геди. Кумран находится именно там, где указал Плиний, а рукописи, найденные вокруг него, давали основание думать, что они написаны ессеями. Именно так, опираясь на сведения Флавия и Филона, рассудил проф. Сукеник. Поэтому, двигаясь в рассуждениях еще далее вспять, разумно было предположить, что сам Кумран был тем ессейским духовным и физическим центром, о котором писал Плиний. Неудивительно, что Ролан де Во прибыл на расколки Кумрана с твердым убеждением, что призван раскопать что-то вроде монастыря ессеев. Поэтому он и свои археологические находки, сделанные там, истолковал в том же духе, выпятив те, которые соответствовали этому убеждению, и оставив в тени или вообще сочтя несущественным все остальное. Так, с легкой руки Сукеника, де Во, Игаля Ядина и других авторитетных исследователей утвердилось мнение, что Кумран — это центральное ессейское поселение в древней Палестине, и, соответственно, все Кумранские рукописи — часть библиотеки этого поселения, а так как некоторые кумранские тексты, как уже сказано, содержали подобие раннехристианских идей, то вскоре ессеи были объявлены прямыми предшественниками первых христиан. Эту мысль — в виде гипотезы — впервые высказал уже в 1955 году американский литературовед Эдмунд Вильсон в книге «Свитки Мертвого моря»; позднее она стала почти канонической, и сегодня в Британской энциклопедии можно прочесть, что ««Свитки Мертвого моря» являются частью библиотеки, принадлежавшей еврейской религиозной секте (ессеи), которая существовала в Кумране с середины II века до н. э. и вплоть до 68 г. н. э.» (т. е. до взятия Иерусалима римлянами и разрушения Второго храма). Аналогично, в каталоге выставки «Сокровища Святой земли» в американском Метрополитен-музее было сказано, что Кумран был «центром еврейской секты, где составлялись и использовались эти тексты». И если вы отправитесь сегодня в. Кумран (полчаса езды от Иерусалима), то первое, что вас встретит перед экскурсией по развалинам, — это, короткий вступительный фильм, в ходе которого артисты, наряженные древними евреями (какими их, наверно, представляет себе Голливуд), расскажут, как они пришли в Кумран «в поисках чистой и безгрешной жизни», как создали здесь секту «Яхад», как размышляли здесь «о тайнах Торы», как собственноручно писали свитки, в которых предсказывали последнюю, апокалиптическую «схватку сынов Света с сынами Тьмы», и как один из них, некий Иоанн, пошедший с ессейской проповедью к людям, был казнен царем Иродом (уж не намек ли на Иоанна Крестителя?!). А потом вас проведут по раскопкам. Вокруг низкой квадратной каменной башни (обвалилась, наверно, за века) протянутся перед вами развалины былых помещений и построек: вот акведук, приводивший воду из близлежащего вади, где по весне скатывалась в Мертвое море дождевая вода, вот широкие и глубокие цистерны для ее хранения; вот ступени, ведущие к бассейнам для ритуального очищения, вот крохотные (подсобные?) комнатки, вот огромный Обеденный зал, а вот длинное прямоугольное помещение, возле которого в землю воткнута табличка с надписью «Комната автора» — знаменитая «Комната писцов», или Скрпиториум, как назвал ее де Во, нашедший здесь обломки столов и несколько бронзовых чернильниц, окончательно убедивших его в том, что это и было место сочинения и написания «Кумранских рукописей». Посмотрев фильм и внимательно изучив все надписи на табличках, вы покинете Кумран с тем же твердым убеждением, что и де Во. И всю дорогу назад — всю пустынную, безлюдную дорогу назад — будете, наверно, — увлеченно представлять себе, как в те давние древние времена в этой далекой затерянной глуши — жила группа аскетов и подвижников, посвятивших жизнь созданию новой религии. И вам будет совершенно невдомек, что все услышанное и увиденное вами в Кумране — всего лишь ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ, одно из многочисленных толкований загадок Кумрана — то, которое принято учеными из Музея Израиля и многими другими, но отнюдь не единственное. Это будет вам невдомек по той простой причине, что в фильме и на развалинах от вас заботливо скрыли многочисленные натяжки и прямые противоречия, которыми изобилует это «каноническое» толкование и вокруг которых в кумрановедении еще и сегодня идут ожесточенные споры. Давайте же поговорим об этих спорах и о других толкованиях кумранских находок. * * *В 1997 году Эшель и Кросс нашли за стенами Кумрана остракон (глиняный черепок) с древней надписью. В этой надписи они обнаружили слово «Яхад» — то самое, которое упоминается в некоторых Кумранских рукописях как самоназвание ессейской секты. Эта находка была объявлена (сначала в статье Эшеля и Кросса, а затем в каталоге Музея Израиля в Иерусалиме) «первым доказательством прямой связи между местом и (найденными в нем) рукописями», иначе говоря — подтверждением того, что «данное место (Кумран) действительно служило общинным центром ессейской секты». Находку широко рекламировали газеты Израиля (например, «Гаарец» 18 июля и 15 августа того же года) и западных стран. Черепок, вкупе с другими экспонатами Кумрана, торжественно объехал весь мир и триумфально прибыл на Кумранскую выставку 2001 года в Чикаго. Здесь, однако, его ожидал конфуз, ибо уже за 4 года до того профессор Норман Голб, возглавлявший кафедру еврейской истории и цивилизации имени Давида Розенбергера как раз при Чикагском университете, посвятил знаменитому черепку статью, в которой убедительно показывал, что прочтение надписи на нем, предложенное доктором Эшелем и принятое Музеем Израиля, было совершенно безосновательным. Те из вас, кто знает ивритские буквы, могут сами рассмотреть указанное место в надписи (на рисунке 1 оно отмечено стрелками: справа — на черепке, слева — в транскрипции Эшеля) и убедиться, что четыре последние буквы нижней строки лишь с огромной натяжкой могут быть прочитаны как слово «Яхад». Мы совершенно случайно начали разговор о натяжках и противоречиях в «каноническом» толковании Кумрана с рассказа об остраконе Эшеля Кросса. С таким же успехом его можно было начать, скажем, с рассказа о том, что при раскопках в Кумране было найдено кладбище, на котором были захоронены более тысячи человек, — несколько многовато, не правда ли, для уединенной «монастырской» общины? Еще более странно, что добрая половина этих захоронений принадлежала женщинам, что совсем уж не вписывается в наши представления об аскетической секте, — члены которой, как утверждал Плиний, давали обет безбрачия. Зачем понадобилось целомудренным ессеям такое количество женщин? Или вот, к примеру, другая история — с тридцатью филактериями, или «тфилин», остатки которых были обнаружены (вперемешку с рукописями) в пещерах, окружающих Кумран. В этих двух кожаных коробочках, которые повязывает себе на лоб и левую руку молящийся еврей, находятся написанные на пергаменте молитвы. Любопытно, однако, что в кумранские тфилин были вложены, как оказалось, самые разные молитвы, что опять-таки странно для секты, которая свое единомыслие подчеркивает даже в самоназвании — «Яхад» (что значит «вместе», «заедино»). А чем объяснить наличие в развалинах Кумрана тысяч однотипных глиняных тарелок и кувшинов, как будто изготовленных на продажу или для использования в каком-то большом хозяйстве? Или большую, явно крепостного вида башню? Или отсутствие жилых помещений при наличии гончарных мастерских, печей для литья железа, стойл для животных и т. п.? 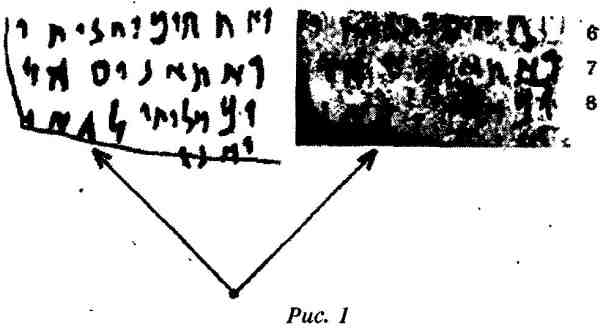
Таких примеров можно привести еще много, и для каждого из них «каноническая» версия вынуждена искать отдельное — зачастую весьма натянутое — объяснение. Женщины? Наверно, рядом с «безбрачными ессеями» в Кумране жили и «ессеи семейные». Много трупов? Возможно, сюда приходили ессеи со всех концов Палестины. Отсутствие жилых помещений? Значит, все насельники Кумрана жили в пещерах вокруг центрального помещения. А рукописи, найденные там? Вероятно, именно там они и изучали Тору. Но почему в пещерах нет никаких останков, никаких следов пребывания людей? Ну, может быть, они жили не в самих пещерах — там они только хранили рукописи и изучали Тору, — а жили, скажем, в шалашах и палатках рядом с Кумраном. А почему в тфилин вложены разные молитвы? Видимо, руководители секты разрешали всем членам общины молиться как кто привык. А зачем столько глиняной посуды? Они из нее ели. И так далее, и тому подобное. Это как раз тот метод объяснения, который по-латински называется «ад хок» (буквально: «к этому»), то есть применительно к данной конкретной потребности, каждая отдельная гипотеза — для объяснения каждой отдельной загадки, вне зависимости от целого. «Целым», которое призваны сохранить все эти частные гипотезы, является лишь один, главный принцип: Кумран — это место пребывания ессейской (протохристианской) общины, которая создала Кумранские рукописи. Этот принцип намертво связывает проблему Кумрана с проблемой свитков Мертвого моря. Между тем, свитки, подобные кумранским, а также отличные от них, но тоже содержащие древние тексты, а также просто документы той давней эпохи (письма, записки, долговые обязательства и т. п.), которых нет в Кумране, были найдены и во многих других местах вокруг Мертвого моря. Это громадное на сегодняшний день палеографическое наследие отражает духовную и бытовую действительность Иудеи на переломе тысячелетий, и представляется, что свитки Мертвого моря следует изучать именно на этом фоне, а не в шорах «протохристианского» подхода. Освобожденная при этом от проблемы свитков проблема Кумрана предстает в совершенно ином свете. Об этом первым заговорил — еще в 1984 году — упомянутый выше профессор Голб. По его меткому наблюдению, тот случайный порядок, в котором одна за другой обнаруживались Кумранские рукописи, сильно повлиял на толкование всей Кумранской проблемы, потому что в числе первых были найдены некоторые свитки «протохристианского» или, во всяком случае, ессейского содержания, и это сразу же склонило исследователей сосредоточиться на ессеях как «главных подозреваемых» в авторстве всех Кумранских рукописей вообще. Однако, по мнению Голба, знаменитые свитки Кумрана имеют не ессейское, а совсем иное происхождение, а сам Кумран никогда не был «монастырем ессеев». Статья Голба положила начало целому ряду новых гипотез, выдвинутых другими учеными для решения загадок Кумрана, и можно, не очень преувеличивая, сказать, что неканонические толкования этих загадок сегодня конкурируют с каноническими практически на равных. Займемся самим Кумраном, отдельно от пресловутых «свитков». По другому меткому замечанию, которое принадлежит археологу Дэйвиду Стаей, на взгляды многих археологов — в особенности, тех, кто. первыми начали раскопки в Кумране, — тоже повлияло некое случайное обстоятельство, а именно то, что во времена этих первых раскопок (как, впрочем, и сейчас) Кумран выглядел глухим, заброшенным уголком пустыни, далеким от всякого жилья и от всех центров цивилизации и потому мог показаться идельным местом для группы людей, которые хотели «уйти от мира» в аскезу, отшельничество и изучение Торы. Однако более поздние археологические исследования в этих местах показали, что в последние века до н. э. — те самые, которыми датируются Кумранские рукописи, — Кумран выглядел совершенно иначе. Результаты этих исследований, подытоженные в книгах Нетцера «Хасмонейские и иродианские дворцы в Йерихо», т. 1 (2001) и Бар-Натана «Хасмонейские и иродианские дворцы в Йерихо», т. 3 (2002), а также в труде Амита, Патрича и Хиршфельда «Акведуки Израиля», рисуют такую картину. Во II в. до н. э. Кумран находился на скрещении торговых и военных путей, всего в 12 километрах (3 часа неспешной ходьбы) от огромного Хасмонейского поместья в Йерихо (Иерихоне), в центре которого возвышался пышный царский дворец. Хасмонеев привели в эти места два дерева, которые приносили царской казне большую прибыль: финиковая пальма и бальзамное дерево. Они широко упоминаются в трудах многих античных авторов. Плоды первого и сок второго пользовались в те времена огромным спросом. Учитывая это, первые хасмонейские цари Шимон (143–134 гг. до н. э.) и Иоханан Гиркан (134–104 гг. до н. э.) начали прокладывать акведуки из устья вади Кельт в район Йерихо, и постепенно огромный участок ранее бесплодной земли к западу от города был превращен в сельскохозяйственные угодья. Одновременно был построен большой жилой комплекс для управляющих поместьем, а также для отдыха царской семьи. Там же были построены гончарные мастерские, о чем свидетельствуют найденные археологами остатки двух обжигательных печей. Однако в районе Йерихо не было достаточного количества дерева, да к тому, же дым печей, надо полагать, был неприятен царским ноздрям, поэтому со временем производство посуды для поместья, а также на продажу (цари, видимо, не брезговали и приторговывать) было перенесено в близлежащий Кумран — там, на побережье Мертвого моря, было много горючего битума. Правда, битум при горении образует клубы едкого дыма, но царского дворца он, конечно, не достигал. Зато здесь, вдобавок к битуму, были большие залежи отличной глины — трехтонные запасы ее археологи недавно вскрыли прямо под главной кумранской цистерной. Можно думать, что именно тогда в Кумран был проведен отдельный акведук. О том, что вода, поступавшая по нему в Кумран, предназначалась не для питья или ритуального омовения, свидетельствуют специальные стоки для грязи и прочих осадков, сделанные в устье акведука, перед самом входом в цистерну. О ремесленном назначении тогдашнего Кумрана говорят и запасы сохранившейся тем посуды — грубо сделанная и плохо обожженная, она зато была идеально приспособлена для упаковки и перевозки, а это составляет два главных требования к массовому производству. Кумран стал, по существу, составной частью йерихонского поместья Хасмонеев, и можно думать, что главную часть его населения составляли тогда рабы и наемные рабочие, ремесленники и земледельцы. Одни жили и работали здесь, другие обслуживали поместье и возвращались в Кумран только на ночлег, в шалаши и землянки. Кумран приглянулся Хасмонеям не случайно. Еще в древности, судя по всему — в VII веке до н. э., здесь высилась небольшая крепостца, защищавшая дороги, шедшие из Иерусалима на Эйн-Геди, к восточным границам Иудейского царства. Царь Иоханан Гиркан построил здесь, над Кумраном, крепость Гирканию. При его сыне, Александре Яннае (103–76 гг. до н. э.) Иудея вела непрерывные войны (большая часть которых была спровоцирована самим царем, стремившимся, в духе отца и деда, к расширению своих владений). Когда царь попытался завоевать Заиорданье, он столкнулся с сопротивлением набатейских царей Ободаса, а затем Аретаса, которые дважды нанесли ему поражения и даже вторглись в Иудею. Это вынудило царя укрепить крепости вдоль Мертвого моря, в том числе и Кумран. Позже положение стало таким критическим, что по приказу Александра Янная царский дворец в Йерихо был засыпан землей, вынутой при рытье оборонительного рва семиметровой глубины, а на вершине образовавшегося в результате искусственного холма был возведен куда более скромный «Укрепленный дворец», на самом деле, — небольшое здание для самого царя и его военоначальников. Любопытно, что по многим признакам — включая угловую квадратную башню — «похороненный» под насыпью прежний дворец Хасмонеев в Йерихо весьма напоминал тот жилой комплекс, что был раскопан в Кумране. Правда, землетрясение, случившееся в этих местах в 31 г. до н. э., сильно повредило кумранский комплекс, а так как впоследствии (уже во времена Ирода и римской оккупации Иудеи, скорее всего, — около IV в. до н. э.) он был отчасти восстановлен, археологи так до сих пор и не знают, куда отнести многие из найденных обломков. Но если основная их часть принадлежала комплексу и до землетрясения, то можно с уверенностью сказать, что он был куда ближе к богатым дворцовым постройкам, нежели к монастырю, да и само сооружение комплекса такого типа едва ли было под силу небольшой группе ессеев, к тому же принципиально отвергавшей роскошь. Видимо, надобность в Кумранской крепости отпала уже под конец правления Александра Янная, потому что уже при нем оборонительный ров в Йерихо был частично засыпан, а после его смерти на холме был построен новый т. н. «Двойной дворец». Надо думать, что угроза с юга вдоль берегов Мертвого моря уменьшилась, стратегическое значение Кумрана тоже сошло на нет и гарнизон оттуда был выведен. В крепости появились новые обитатели, которые принесли с собой новые обычаи захоронения, но характер деятельности этих людей остался прежний: сохранились большие запасы глиняной посуды тех времен, рядом с которыми были обнаружены свертки с тщательно упакованными костями животных, употреблявшихся в пищу. Можно думать, что часть этих людей обслуживала восстановленное йерихонское поместье с его новым, построенным уже при Ироде Великом роскошным дворцом, тогда как другие опять занялись гончарным ремеслом. Судя по количеству костей, постоянное население Кумрана было незначительным: Маген и Пелег считают, что их было не более 25, Хиршфельд оценивает их число в несколько десятков. Что же до назначения странных свертков с костями, то некоторые ученые объясняют его чисто местными особенностями. Люди Кумрана, — говорят они, — не могли жить в пещерах, потому что в те времена жить в пещерах около Мертвого моря было небезопасно — тут бродили гиены и леопарды. Поэтому обитатели Кумрана жили либо в самом, частично восстановленном, комплексе, либо рядом, в шалашах и хижинах; а кости съеденных животных они не выбрасывали, а паковали и уносили куда-то в другое место именно потому, что боялись привлечь этими костями опасных хишников к своим жилищам. Невольно возникает вопрос: если люди не жили в пещерах (и уж подавно не изучали там Тору), то как попали туда пресловутые «свитки»? Некоторые сторонники канонической теории высказывают предположение, что пещеры служили своего рода «книгохранилищами библиотеки кумранских ессеев», но, не говоря уже о странности и крайнем неудобстве такого способа хранения свитков, которые нужны для изучения чуть ли не каждый день, позволительно задать более общий вопрос: а могла ли вообще существовать община «удалившихся от мира» ессеев в таком шумном, грязном, задымленном ремесленном ночлежном поселке, как тогдашний Кумран? Разумеется, не исключено, что какую-то часть обитателей Кумрана составляли отдельные ессеи, но если общее число тамошних жителей никогда не превышало нескольких десятков и большая часть из них была занята гончарным ремеслом, и трудом в йерихонском поместье, то могли ли оставшиеся создать такую огромную библиотеку? А. если нет, то как все-таки эти свитки могли попасть в кумранские пещеры и каково их происхождение? Прежде, чем отвечать на этот «главный» вопрос, закончим разговор о Кумране. Он был снова разрушен в ходе «Первого восстания», т. е. знаменитой Иудейской войны, когда римляне захватили Иерусалим и разрушили Второй Храм. Многие жители бежали тогда из столицы Иудеи, и кое-кто из них пытался найти убежище в Кумране. Преследовавшие их римляне захватили и разрушили поселок. Еще позже, во время т. н. «Второго восстания» (или «восстания Бар-Кохбы»), Кумран нанадолго был превращен повстанцами в укрепленный пункт — и опять разрушен римлянами. После этого он окончательно пришел в запустение — вместе со всей остальной Иудеей. За время своего многовекового существования он пережил ряд трансформаций был крепостью, потом был заброшен, потом снова превратился в крепость, потом стал ремесленным поселком, снова укрепленным пунктом и, наконец, окончательно опустел. Чем же все-таки он был в хасмонейские и иродианские времена, к которым относятся найденные в пещерах вокруг него свитки? Мы уже знаем канонический ответ: ессейским монастырем или, по меньшей мере, центром крупной ессейской общины. Мы уже знаем также, с какими противоречиями сталкивается этот ответ. А что говорят археологи-«еретики»? «Зачинатель ереси», упомянутый выше Норман Голб, с самого начала утверждал, что люди, населявшие Кумран, никогда не принадлежали к секте ессеев или какой-либо другой радикальной еврейской секте (надо заметить, что представление, будто в те времена в иудаизме существовали только три течения: саддукеи, фарисеи и ессеи, — весьма поверхностно; были еще зелоты, терапевты, банаи и некоторые другие). Сам Голб считал, что Кумран всегда был чисто военной крепостью, но, как мы видели, это предположение не согласуется со всей совокупностью новейших археологических данных. Эти данные заставляют, скорее, видеть в Кумране второго-первого веков до н. э. скромное поселение ремесленников и сезонных сельскохозяйственных рабочих. Но с этим не согласуется близкая к дворцовой изощренная сложность кумранского жилого комплекса. В самое последнее время эту путаницу еще более усложнили сенсационные данные раскопок Ицхака Магена и Юваля Пелега, которые в течение 10 лет вели исследования в Кумране. Эти археологи обнаружили в развалинах Кумрана такие дорогие предметы, как драгоценные украшения, остатки явно импортных — дорогих по тем временам — стеклянных сосудов, каменные флаконы для изысканной косметики, пышно украшенные гребни, иными словами — предметы, которым явно не место ни в ессейском монастыре, ни в поселке ремесленников и сезонных рабочих. На этом основании Изхар Хиршфельд выдвинул гипотезу о том, что Кумран был имением богатого еврейского землевладельца, возможно — какого-нибудь вельможи при дворе Хасмонеев. (Эта гипотеза перекликается с давним предположением Донкильса, который считал Кумран загородной виллой иерусалимского богача.) Понятно, что все эти гипотезы исключают ессейскую природу Кумрана, и неудивительно, что сторонники канонической версии встретили их в штыки. Так, американский пастор Рэндалл Прайс из университета в штате Нью-Мексико немедленно предпринял поездку в Кумран, провел там молниеносные, продолжавшиеся всего пять недель раскопки и объявил, что нашел очередное «несомненное доказательство» ессейского характера поселения — кости животных, уложенные таким специальным манером, который может объясняться только правилами какого-то особого религиозного ритуала. Судя по этой поистине отчаянной попытке спасти прежние представления, новые археологические данные уже всерьез угрожают самим основам канонической «кумрано-ессейской» теории. И действительно, недавняя международная конференция археологов, прошедшая в 2002 году в Броуновском университете (США), констатировала, что новые гипотезы практически вытесняют — если еще не вытеснили совсем — прежние представления науки о Кумране. Но если Кумран не был поселением или монастырем ессеев, это возвращает нас к поставленному ранее вопросу: каково же происхождение Кумранских свитков? Какие предположения на сей счет выдвигают противники «кумрано-ессейской» теории? Попробуем рассказать и об этом. * * *Из семи свитков Мертвого моря, первыми попавших в руки исследователей, три представляли собой варианты библейских книг (Исайи и Бытия), а четыре резко выделялись на их фоне своим особым характером. Один из них, «Устав общины» («Серех а-Яхад»), резко противопоставлял членов некой религиозной общины всему остальному человечеству: по изначальному установлению божьему люди делятся на «сынов света» и «сынов тьмы», и в конце времен Господь дарует первым полную победу Над вторыми; пока же члены общины «сынов света» должны подчиняться строгим правилам общежития и следовать возвышенным этическим нормам (которые перечислялись в заключительной части свитка). «Свиток гимнов», содержавший около 35 псалмов, пронизывала мысль об изначальной греховности человека и предопределенности не только его судьбы, но даже его мыслей. Лишь ибранники (слова «Израиль» в тексте нет) удостоены постижения этой великой мудрости Господнего замысла, и лишь у них есть надежда на спасение; собственно, вступление в общину и есть первый шаг к такому спасению и посмертному воскресению. Свиток с текстом, посвященным «Войне сынов света с сынами тьмы», подробно описывал грядущую в конце времен «последнюю» войну, в ходе которой будут уничтожены все враги сынов света — сначала потомки Сима, потом Хама и наконец Яфета. А в свитке, содержавшем комментарий на библейскую книгу пророка Авваккука, провозглашалось, что Господь дал откровение некому «Учителю праведности», и откровение это состоит в том, что конец времен приближается. Имя «Учителя праведности» снова появлялось в другом, приобретенном позднее свитке — т. н. «Дамасском документе», где более подробно излагалась история секты. Согласно документу, она возникла в Иерусалиме через 390 лет после разрушения Первого храма (т. е. в начале II в. до н. э.), незадолго до появления Учителя праведности, он же «единственный учитель» или «учитель единого», или, в некоторых прочтениях, просто «учитель общины», который объединил всех своих последователей в т. н. «Новый Завет». Ему противостоял некий «Проповедник лжи», под влиянием которого Израиль отступил от «Нового Завета» и власть в Храме (уже Втором) узурпировали «неправедные». (Этот эпизод отражает определенную реальность: именно во II в. до н. э. Ионатан Хасмоней, брат Иуды Маккавея, стал первосвященником, узурпировав эту власть у потомков Цадока — первосвященника времен Давида и Соломона; эту власть Хасмонеи удерживали потом около 150 лет подряд.) Поэтому члены секты под руководством «законодателя, излагающего Тору», бежали в «Дамаск» (одни исследователи считают это названием реального Дамаска, куда могли бежать противники Александра Янная, когда он захватил престол Иудеи; другие видят в этом названии метафору пустыни). Там они будут находиться до второго появления Учителя праведности, которое произойдет «в конце дней». Легко понять возбуждение ученых, которым попали в руки эти свитки. Хотя налицо было определенное сходство изложенных в них религиозных идей с идеями гностиков и зороастрийцев (последователей иранского пророка VI в. до н. э. Заратустры), еще большим было их совпадение с этическими и мистическими элементами новозаветного раннего христианства, вплоть до фигуры «Учителя праведности», его вторичного появления в конце времен и спасения тех, кто следует его учению. Вскоре существование неизвестной секты, создавшей эти свитки, было объявлено доказательством исторической реальности Христа и его первых последователей, а когда профессор Элиезер Сукеник выдвинул предположение, что эти свитки созданы ессеями, и де Во, на основании своих раскопок, назвал Кумран местом их создания и центром ессейской общины, представление о том, что ессеи были прямыми предшественниками ранних христиан, а Кумран — важнейшим очагом этого протохристианства, утвердилось окончательно. «Кумрано-ессейская теория» безраздельно господствовала в науке в течение почти 30 лет. Но тем временем обнаруживались и изучались все новые и новые свитки и их фрагменты, и постепенно стало ясно, что материалы «ессейского» происхождения составляют лишь небольшую их часть. Значительная доля собранного исследователями «кумранского архива» представляла собой не столько произведения ессейского характера, сколько документы библейского толка — копии библейских книг (несколько отличные от канонических) или их переводы на арамейский и даже греческий языки, а такжечапокрифы (т. е. книги, не вошедшие в библейский канон) и псевдоэпиграфы (книги, авторство которых приписывается тем или иным упоминаемым в Библии лицам — например, «Завещание Нафтали» или «Речения Моисея» и т. п.). Общая картина стала исподволь меняться — совокупность кумранских рукописей все больше выглядела как «библейская библиотека» самого широкого профиля с изрядным вкраплением «ессейских» материалов, но никак не как чисто «ессейские» творения. В целом, эта библиотека проливала новый свет на историю иудаизма — стало очевидно, какое большое, пестрое и противоречивое множество библейских прочтений, трактовок и версий существовало в тогдашней еврейской среде, какие разноречивые идеи, концепции, мысли сталкивались в еврейском коллективном уме, какие основные течения «вываривались» в этом бурлящем духовном котле. Первым, кто высказал сомнения в чисто ессейском характере Кумранских рукописей, был уже неоднократно упоминавшийся Норман Голб. Исходя из определенных палеоэпиграфических соображений, он заявил, что в написании свитков, найденных в пещерах вокруг Кумрана, участвовало не менее 150-ти писцов — число, намного превышающее все, что могло существовать в рамках кумранской общины. Надо сказать, что вопрос о «писцах Кумрана» тоже оказался довольно запутанным и противоречивым. Представление о том, что найденные в пещерах свитки писались в Кумране, возникло после того, как де Во и сопровождавший его Хардинг нашли в одном из раскопанных ими помещений Кумрана вделанный в пол глиняный кувшин, похожий на те, в котором в пещерах хранились рукописи, а в другом помещении — обломки деревянных столов и целых пять чернильниц. Все это и было объявлено ими доказательством того, что свитки Мертвого моря писались в этом втором помещении (которое с легкой руки первоисследователей получило название «комнаты писцов» или «скрипториума»), а затем помещались в глиняные кувшины и относились в пещеры для хранения. Поскольку пол в помещении с кувшином датировался первым веком нашей эры, т. е. временем, близким к временам т. е. Иудейской войны, или «Первого Восстания», то и рукописи были первоначально датированы, первым веком н. э. Дополнительным подтверждением этой датировки были найденные де Во и Хардингом в том же помещении старинные монеты. Однако последующие раскопки — как в самом Кумране, так и в соседних местах, в частности — в Йерихо, поставили под сомнение все эти выводы де Во. Пресловутый пол в первом помещении оказался настланным на более древний, засыпанный в конце I в. до н. э. и затем расчищенный. Найденный там кувшин оказался относящимся к этим более древним временам, поскольку совершенно аналогичный кувшин, твердо датируемый концом I в. до н. э., был найден Рахелью Бар-Натан в развалинах Йерихо. Другие кувшины, найденные де Во, хотя и относятся к I в. н. э., но, по признанию самого де Во, не предназначались специально для хранения свитков и потому не могут свидетельствовать, что свитки писались именно в I в. н. э., а не раньше. Из пресловутых пяти чернильниц (именно это необычное количество чернильниц в одном месте когда-то и заставило де Во заговорить о специальной «комнате писцов» в Кумране), три. оказались, как выявил более поздний анализ, принадлежащими к III в. н. э., то есть ко временам, когда никакая кумранская община, даже если она когда-то была, теперь наверняка уже не существовала. И, наоборот, монеты, найденные де Во и Хардингом, оказались более древними, относящимися не к I в. н. э., а к I в. до н. э. На то же более раннее время указывают данные палеографического анализа кумранских рукописей (например, Ада Вардени доказала, что в кумранских текстах нет того способа написания букв — специфического полукурсива, — который был характерен для I в. н. э.), а также радиоуглеродного метода их датировки. Любопытно, что хотя все эти факты стали со временем известны де Во, он ни разу не упомянул их в своих выступлениях и статьях последующих лет. Данные его собственных раскопок, как мы уже говорили, до сих пор не опубликованы до конца, и трудно понять, почему он так упорно датировал все свои находки именно I в. до н. э., несмотря на все противоречия этой датировки с новейшими данными. Возможно, то была ошибка, возможно, какую-то роль сыграл тот факт, что I в. н. э. очень хорошо знаком историкам — это век, подробно описанный Исофом Флавием и другими тогдашними авторами, тогда как I–II в. до н. э. — это «темные века» иудейской истории. Но не исключено также, что датировка Кумранских рукописей I в. н. э. была продиктована подсознательным стремлением доказать историчность Иисуса Христа: уж очень хорошо ложился «Учитель праведности» на его образ. Как бы то ни было, Грег Дудна, который суммировал все эти споры в своей обзорной статье «Передатировка кумранских свитков» (2004), в конце статьи заключает, что все имеющиеся сегодня данные приводят к решительному выводу: кумранские свитки были написаны не позднее конца I в. н. э., т. е. почти за столетие до Иудейской войны. Несколько более точную дату предлагает Майкл Вайз, проделавший специальный анализ скрытых намеков в тексте этих свитков. В результате своего анализа Вайз обнаружил, что 6 таких намеков относятся к людям и событиям, существовавшим или имевшим место во II в. до н. э., 26 — к людям и событиям I в. до н. э., и нет ни одного, который относился бы ко времени позднее 37 года до н. э. На этом основании Вайз заключает, что «почти 90 % всех «ессейских» рукописей Кумрана были написаны (или переписаны) в I в. до н. э., причем 52 % из них — в десятилетие между 45-м и 35-м годами до н. э». Потом это занятие буквально обрывается. Несомненно, тут таится какая-то загадка, требующая разрешения. Одно из возможных решений этой загадки предложил Стивен Пфанн, один из главных дешифровщиков кумранских свитков. Он выдвинул предположение, что ессеи жили в Кумране (и, по его мнению, писали там свои рукописи) лишь до землетрясения и пожара 31 года до н. э. Потом они перешли в Иерусалим по приглашению царя Ирода и, возможно, снова вернулись в Курман с началом Иудейской войны. В промежутке же, соглашается Пфанн, там могли временно жить ремесленники и сезонные рабочие, а, может, даже и вельможи. Этим, по Пфанну, объясняется противоречивость кумранских археологических данных. Пфанн, как видно из его гипотезы, упорно хочет сохранить авторство кумранских рукописей за ессеями. Но Дудна в своем обзоре приходит к несколько иным выводам. «Не вступая в противоречие со всеми имеющимися сегодня данными, — пишет он, — можно думать, что главная или, во всяком случае, значительная часть этих текстов была импортирована в Кумран, то есть доставлена извне, тогда как некоторые, действительно, могли быть составлены на месте… Что касается их обнаружения в пещерах, то тут могут быть три объяснения. То могло быть постоянное хранилище, вроде т. н. «генизы», откуда свитки и не планировалось изымать, — они просто складывались там, потому что это были священные тексты, которые у евреев, даже устарев или придя в негодность, не уничтожаются, а хранятся в особом помещении. Либо же это было своего рода действующее книгохранилище, которым пользовались до тех пор, пока война или другое бедствие не нарушили прежний порядок жизни и заставили его забросить. Либо же, наконец, свитки могли спрятать там во время той же войны, а спрятавшие их люди уже не смогли за ними вернуться, потому что были убиты или депортированы. А, возможно, что каждое из этих объяснений приложимо к различным пещерам». И далее Дудна, подобно Вайзу, указывает на еще одну загадку Кумрана: «Любопытная деталь, — говорит он, — состоит-в том, что в одних пещерах, более далеких от самого Кумрана, свитки были найдены в кувшинах, а в других, более близких — разбросанными как бы наспех. Но при этом во всех пещерах были свитки самого разного рода и разных дат. Как это истолковать? Не знаю и не думаю, что кто-либо из кумрановедов может предложить ответ». Мысль о том, что большинство свитков было доставлено в Кумран извне, для сохранения во время опасности, приобретает в последние годы все больше сторонников. А поскольку в этом случае авторами свитков не обязательно должны были быть ессеи Кумрана, то такое авторство приписывается самым разных группам, существовавшим в тогдашней Иудее, — ведь принести свитки в Кумран могли откуда угодно. Так, Баумгартен и Шиффман предложили гипотезу, согласно которой основная часть т. н. кумранских свитков была, в действительности, написана не ессеями, а саддукеями (влиятельной при Хасмонеях религиозной группой, тесно связанной со жречеством Иерусалимского храма и крупными землевладельцами) или группой «радикальных цадокитов», идейно родственной этому течению тогдашнего иудаизма. В пользу этой гипотезы говорит, во-первых, само название «саддукеи» (современная наука возводит его к первосвященнику Цадоку, к которому возводит себя и секта из «Дамасского документа»), а, во-вторых, содержащееся в свитках (и характерное как раз для саддукеев) ригористическое требование исполнения всех мельчайших предписаний религиозного закона. Однако социальное положение саддукеев во времена Второго. Храма, отрицание ими воскресения из мертвых и ряд других важных деталей саддукейской доктрины явно не совпадают с перечисленными выше религиозными идеями собственно ессейских документов Кумрана, и потому гипотеза Баумгартена-Шиффмана представляется кумрановедам не очень убедительной. Самое радикальное объяснение загадки кумранских свитков предложил все тот же Норман Голб. Это объяснение постепенно приобретает все больше сторонников. Сегодня в его пользу высказываются многие авторитетные археологи и историки, занимающиеся Кумраном, в том числе упоминавшиеся нами Изхар Хиршфельд и Ицхак Маген. По Голбу, свитки Мертвого моря вообще не имеют отношения к Кумрану, независимо от того, существовала там какая-то сектантская (ессейская?) община или нет. Широкий спектр этих документов, отражающих самые разные течения и подходы в тогдашнем иудаизме, может быть объяснен, — утверждает Голб, — только предположением, что все они первоначально принадлежали либо Храмовой библиотеке, либо, еще скорее, самым разным группам и отдельным людям. В таком случае, они могли оказаться в пещерах по самой простой причине: владельцы спрятали их там, когда бежали из Иерусалима от римлян, в конце «Первого восстания». Эту же мысль повторяет Ицхак Маген: «Они (свитки) могли быть принесены сюда кем угодно, включая беженцев, спасавшихся от римлян. Некоторые из них уносили с собой драгоценные свитки, но позже, перейдя Иудейские холмы и оказавшись перед необходимостью пробираться по берегу моря, не захотели нести их с собой и решили спрятать. Таким образом, это не сектантские писания, ессейские, саддукейские или храмовые, это — литература иудаизма в целом, литература иудаизма времен Второго Храма. Она принадлежит всему еврейскому народу». Развивая эту «гипотезу бегства», Норман Голб недавно опубликовал статью «Маленькие тексты, большие вопросы» (2002), в которой предложил детальную возможную картину такого бегства, довольно убедительно обосновывающую его рассуждения о происхождении кумранских свитков. В книге Иосифа Флавия, — напоминает Голб в своей статье, — говорится, что евреи, бежавшие из захваченного римлянами в 70-м году н. э. Иерусалима, направлялись по двум основным путям — на юг и на восток. Голб считает, что целью первого потока, который шел через Бейтлехем (Вифлеем), Иродион и вади Эйн-Геди, была Масада, тогда как второй поток беженцев, шедший на восток, двигался в сторону другой горной крепости — Макерус, на восточном берегу Мертвого моря, в Транс-Иордании, построенной во времена наибольшего распространения Хасмонейского царства. Этот поток мог разветвиться — одни люди обогнули Мертвое море по суще, с севера, тогда как другие перешли его вброд или вплавь в ближайшем удобном месте. На карте, которую Голб прилагает к своей статье, этим «ближайшим удобным местом» (после Йерихо) оказывается именно Кумран. И потому именно здесь, готовясь продолжить путь по воде, беглецы расставались с драгоценной ношей, захваченной из Иерусалима, — каждый со своими свитками, которые он не хотел оставить на осквернение римлянам. Отсюда и такое необычное скопление этих свитков в Кумранских пещерах. Некоторая часть беглецов продолжила свой путь к Макерусу, другие остались в Кумране. Эти последние вскоре погибли от рук римлян, пришедших по их следам и разрушивших кумранскую крепость. В свое время погибли и те, кто надеялся укрыться в Макерусе, как впоследствии погибли и защитники Масады. А свитки — что ж, свитки остались. Вот они, вы можете увидеть их в Храме Книги при иерусалимском Музее Израиля. Будете смотреть — вспомните тех, кто шел в толпе людей по темным гористым тропам, пробираясь к Мертвому морю, то и дело оглядываясь на пылающий Иерусалим и сжимая под рубахой спасенные от огня и позора будущие кумранские свитки. Впрочем, если предпочитаете — представьте себе склонившихся над рукописями неведомых писцов-ессеев. Ученые ведь все еще спорят. >ГЛАВА 2 БИБЛЕЙСКИЕ КОДЫ >1. ЗАГАДКА В последнее время возникло и распространилось массовое, почти повальное увлечение так называемыми «библейскими кодами» или «кодами Торы» (Торой в еврейской традиции называют первые пять книг Библии, и именно в этих пяти книгах обычно находят упомянутые «коды»). Строго говоря, это не совсем уж новое увлечение — отдельные энтузиасты давно занимались поиском таких кодов, но широкая публика заинтересовалась ими сравнительно недавно, когда стали распространяться слухи о работах двух израильских ученых, Рипса и Вицтума, будто бы математически доказавших, что, в тексте Торы скрыт некий второй, зашифрованный специальным кодом текст, относящийся к событиям и людям более позднего времени. Несколько позже, в 1997 году, появилась книга американского журналиста Майкла Дроснина «Коды Торы», которая еще больше разожгла этот интерес сенсационным сообщением о том, что автор еще в 1995 году обнаружил зашифрованное в Торе предсказание об убийстве израильского премьера Рабина (которое безуспешно пытался предотвратить), а также многие другие предсказания и пророчества, касающиеся нашего недавнего прошлого и недалекого будущего. Книга Дроснина и другие, ей подобные, последовавшие за ней, породили многочисленные слухи и толки о «загадочных библейских кодах», но во всех этих разговорах по-прежнему остается, к сожалению, куда больше приблизительности и сенсационности, нежели точного знания, и поэтому стоит рассказать об этих пресловутых кодах точней и подробней. Прежде всего, о чем вообще речь, что это такое — библейский код или код Торы? Начнем с простого примера. Откроем Тору на самой первой странице (это книга «Берешит», по-русски «Бытие») и отыщем первую в тексте букву «тав» (здесь и дальше нам придется говорить о еврейских буквах, которыми написана Тора, и, соответственно, о еврейских словах, составляющих содержащиеся в ней «коды»). Отсчитаем от нее еще 49 букв, и 50-й окажется «вав». Повторим это действие еще два раза: следующая 50-я буква (после 49 пропусков) будет «рэйш», а последняя 50-я (опять после 49 пропусков) — «хэй». Результатом такого «чтения с равными пропусками» будет цепочка букв: «тав-вав-рэйш-хэй» (см. рис. 1). В еврейском прочтении она складывается в слово «т-о-р-а». Это выглядит поразительным: ведь в тексте самой Торы слова «тора» нет, а в результате «чтения с пропусками» оно появилось — в виде такой вот цепочки равноотстоящих букв. 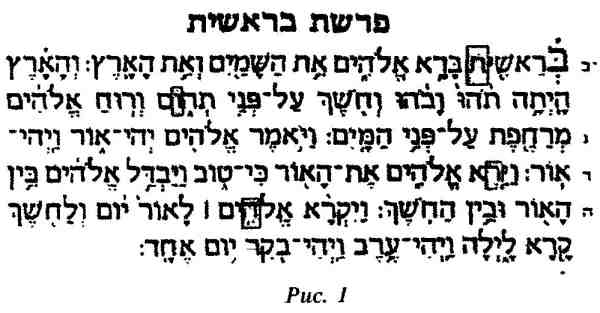
С помощью чтения с равными пропусками (той или иной величины) можно найти в тексте Торы превеликое множество других таких же «скрытых», как бы зашифрованных в ней буквенных цепочек, которые складываются в осмысленные слова. Не будем пока задаваться вопросом, кто мог их туда встроить, кто этот искусный шифровальщик, который спрятал внутри видимого текста второй, невидимый. Для начала продолжим наше знакомство с этим удивительным новым миром слов, открывающихся в Торе при чтении с равными пропусками. Это и есть мир «библейских кодов», ибо словом «код» в данном случае как раз и называется каждая такая цепочка-слово, обнаруженная в тексте Торы при чтении с равными буквенными пропусками. Мир кодов Торы поистине неисчерпаем в своем разнообразии. Вот еще один пример. Если открыть вторую книгу Торы «Шмот», или «Исход», найти первую в ее тексте букву «тав» и снова повторить процесс чтения с пропуском 49 букв три раза, мы опять получим буквенную цепочку «т-о-р-а». В третьей книге Торы это слово таким способом найти не удастся, зато в четвертой оно обнаружится снова — но при условии, что мы начнем с последней в тексте буквы «тав» и будем собирать буквенную цепочку с помощью пропуска 49 букв, идя в обратном порядке. (Такое чтение в обратном порядке называют чтением с отрицательным интервалом.) Но это не все. В последней книге Торы «Дварим» («Второзаконие») такая же цепочка «т-о-р-а» (с отрицательным интервалом) может быть обнаружена тоже, но при чтении с интервалом уже не (-49), а (-48). Какая-то загадочная и почти идеальная симметрия. Остановимся на минуту. Если вдуматься, все это не очень понятно. Каким образом слово «тора», которого нет в Торе, вдруг оказалось написанным прямо в ее тексте, буква под буквой? Казалось бы, если оно зашифровано в Торе в виде цепочки букв с равными пропусками между ними, то и должно выглядеть как цепочка с пропусками, не так ли? Это, несомненно, так, но при составлении данного рисунка был использован особый прием, которым очень часто пользуются и при изображении других подобных цепочек. Прием этот следующий. Вообразим себе, что весь текст Торы записан в виде единой гигантской строки — этакой «буквенной нити» длиной в 304 805 букв (это как раз число букв во всей Торе). Будем теперь мысленно наматывать эту буквенную нить на некий воображаемый цилиндр, как в действительности наматывают на барабан свиток самой Торы. При этом цилиндр возьмем такой, чтобы один оборот нити составлял ровно 50 букв. Если мы закрепим начало нити в первой букве «тав», то после первого оборота точно под ней окажется 50-я от нее буква, а это, как мы уже знаем, будет буква «вав». После второго оборота под ними окажется «рэйш» (ведь он является 50-м после «вава»), а после третьего — «хэй» (50-я после «рэйш»). Таким образом, цепочка «тав-вав-рэйш-хэй» («т-о-р-а»), в которой собраны те буквы нити, что разделены пропуском 49, превратится в буквенный столбик. Понятно, что обратная цепочка превратится при таком наматывании в столбик, идущий не сверху вниз, а, наоборот, снизу вверх. Эти удивительные цепочки бусинок-букв, нанизанных с равными интервалами друг от друга и образующих слово «т-о-р-а», впервые обнаружил чешский раввин XX века Михаэль Вейсмандель (умер в 1949-м). Но и он не был первооткрывателем библейских кодов. Из старых книг известно, что уже рабейну Бехайе, еврейский мудрец, живший в XIII веке, долго искал в Торе — и нашел! — цепочку букв «бейт-хэй-рэйш-далет», образующих важнейшее в еврейском летосчислении слово (аббревиатуру) «бахарад»{2} (с 42-буквенным пропуском между буквами). Интересовался буквенными цепочками в Торе и другой знаменитый еврейский мудрец — Виленский Гаон рав Элиягу Залман (1720–1797). Он нашел цепочку не менее замечательную, чем та, что открылась раву Вейманделю: Если открыть книгу «Шмот» (где речь идет главным образом о нашем великом учителе Моше, или Моисее), найти там главу 11-ю, стих 9-й, отыскать первую букву «мэм» и начать собирать цепочку, пропуская все те же 49 букв, то последней (через четыре таких пропуска) окажется буква «хэй» в главе 12-й стих 13-й, а пять найденных таким образом букв сложатся в цепочку «м-и-ш-н-э». Вернувшись немного назад, к главе 12-й, стиху 11-му, найдя там второй «тав» и три раза повторив процесс чтения с пропуском 49, мы получим четыре другие буквы, складывающиеся в цепочку «т-о-р-а», а, взяв оба слова вместе, увидим цепочку «м-и-ш-н-э т-о-р-а», а это есть ни что иное, как название главного труда другого знаменитого Моше — рава Моше бен Маймона, или Рамбама (о нем говорили, что «от первого Моше до второго Моше не было мудреца, равного Моше»){3}. В наше время у этих первых исследователей библейских кодов появились продолжатели, в основном из числа верующих ученых. Следуя традиции, они тоже ищут в тексте Торы зашифрованные с помощью равных пропусков цепочки букв, складывающиеся в какие-то важные для еврейской веры или истории слова. Вот два примера таких цепочек, найденных энтузиастами поиска библейских кодов, израильскими математиками, профессорами Майкельсоном и Рипсом. (Они найдены с помощью компьютера, поэтому воспроизвести здесь процесс этого поиска нам не удастся.) Первая из этих цепочек: «алеф-хэй-рэйш-нун» («A-h<a>-p-<o>-н») обнаружена в тексте книги «Ваикра» («Левит»), где речь идет в основном о правилах богослужения и много раз упоминается имя первосвященника Аарона, брата Моше. То была даже не одна, а целых 25 одинаковых по буквам цепочек, хотя и с разными интервалами каждая. Иначе говоря, в тексте, посвященном Аарону, было обнаружено 25 «скрытых» имен того же Аарона, зашифрованных в виде цепочек «алеф-хэй-рэйш-нуи» с равным (но каждый раз иным) пропуском между всеми четырьмя буквами. Другие 25 цепочек Рипс и Майкельсон нашли в тексте книги «Берешит», в главах 2-й и 3-й, посвященных, в частности, описанию Райского сада. В этом описании сказано: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Но названы в тексте, однако, лишь два — дерево жизни и дерево познания добра и зла; все остальные почему-то остались безымянными. Рипс и Майкельсон предположили, что названия остальных деревьев «скрыты» в том же участке текста в зашифрованном виде, т. е. в виде цепочек равноотстоящих букв. Выписав 25 названий (трех- и четырехбуквенных) из книги «Фауна и флора Торы», вышедшей из-под пера крупнейшего израильского специалиста по растительности библейской Палестины, профессора Йегуды Феликса, оба математика с помощью компьютера произвели в упомянутом участке текста поиск буквенных цепочек, складывающихся в эти названия, и нашли все 25. Два последних примера позволяют заметить одну любопытную особенность: буквенные цепочки, образующие слова, связанные общим смыслом или общим содержанием, обнаруживаются поблизости друг от друга. Все скрытые имена Аарона были найдены в тексте, относящемся к Аарону, и названия 25 деревьев из книги о флоре Торы были найдены в том небольшом участке Торы, где речь идет о деревьях райского сада. (Кстати, оба слова — «мишнэ» и «тора», — образующие название книги Рамбама, тоже были найдены рядом друг с другом и с акронимом «Рамбам».) Такая близость связанных слов свойственна, вообще говоря, только осмысленному тексту. Например, в каком-нибудь рассказе о катастрофе мы могли бы ожидать близости таких слов, как «нацисты», «евреи», «уничтожение» и т. п. Возникает мысль: может быть, и зашифрованные в Торе (в виде буквенных цепочек) слова, связанные общим смыслом, потому обнаруживаются по соседству, что тоже принадлежат какому-то осмысленному тексту — только тексту скрытому, зашифрованному с помощью библейского кода? Сначала эта догадка была подтверждена чисто качественно. Одно такое подтверждение показано на рис. 2. Здесь изображен буквенный столбик, образующий слово «а-ха-нука»{4}. Этот столбик образовался из линейной цепочки букв «h <а>-.х-<а>-н-у-к-h<а>» («хэй-хет-нун-вав-каф-хэй»), разделенных неким интервалом из «икс» пропущенных букв, после ее «намотки» на воображаемый цилиндр, длина окружности которого равна «икс», — потому-то эти буквы и оказались точно друг под другом. Неподалеку от нее мы видим другую цепочку букв, образующую слово «х-а-ш-м-о-н-а-й», явно связанное по смыслу с «ханукой»{5}. 
Иными словами, и здесь связанные по смыслу слова оказались по соседству. Другой пример того же рода нашел израильский физик Вицтум. Он отыскал в тексте книги «Берешит» цепочку букв, разделенных равными пропусками и образующих слово «бэАушвиц» («в Освенциме»). Поскольку таких цепочек (с разными интервалами в каждой) в тексте оказалось много, была выбрана та, в которой интервал (т. е. число пропускаемых при чтении букв) было минимальным. Затем в компьютер была введена программа поиска цепочек равноотстоящих букв (уже не обязательно с минимальными пропусками), образующих названия тех небольших нацистских лагерей-сателлитов, которые находились поблизости от Освенцима и административно подчинялись ему (список этих названий был взят из статьи специалиста по данному вопросу, д-ра Краковского из Мемориального института «Яд ва-Шем»). Оказалось, что все указанные цепочки действительно существуют, причем находятся (если произвести «намотку текста на барабан») на том же небольшом участке текста, где находится и столбик «бэАушвиц». Однако самое впечатляющее доказательство существования в Торе скрытых кодов и близости друг к другу тех из них, которые близки также и по смыслу, нашли Рипс и Вицтум в своей совместной работе, которая была опубликована в 1994 году в журнале «Статистические науки». В самых общих чертах эта работа выглядела следующим образом. Авторы выбрали из «Энциклопедии великих людей Израиля» достаточно короткие (5–8 букв) имена или наименования (т. е. сокращенные прозвища, вроде Рамбам, Нахманид, Радак и т. п.) нескольких десятков раввинов IX–XVIII веков, а также даты их рождения или смерти. Последние были превращены в слова (с помощью приемов т. н. гематрии, которая обозначает каждое число определенным сочетанием ивритских букв (таких слов получалось по несколько, поскольку любую дату можно записать в нескольких формах, вроде «шени бэ-нисан», «шени шель нисан» и т. д.), а затем из этих имен и дат были составлены словесные пары типа: «имя раввина А — дата раввина А», «имя раввина В — дата раввина В» — и так далее. Поскольку имен и дат (в словесном написании) у каждого раввина имелось несколько, брались все их возможные сочетания, и в результате число пар получилось намного больше, чем число самих раввинов, — порядка нескольких сот. После этого компьютеру было задано найти в тексте книги «Берешит» цепочки букв с равными (и минимальными!) пропусками, образующие слова каждой пары, и — по особой формуле, разработанной Рипсом, — определить «расстояние» между ними. Результат оказался поистине впечатляющим: мало того, что были обнаружены цепочки почти для половины заданных слов, но во многих парах расстояния между составляющими их словами (т. е. именами и датами для одного и того же раввина) оказались весьма близкими. Но этот результат был еще чисто качественным. Чтобы получить математически строгое доказательство своей исходной гипотезы (о существовании в тексте Торы второго, скрытого, но тоже осмысленного текста), авторы усложнили эксперимент. В дополнение к набору «правильных» словесных пар («А — А», «В — В» и т. п.) они создали путем перемешивания всех дат и имен еще 999 999 наборов «неправильных» пар (типа «А — В», «В — С» и т. п.) и подсчитали среднее расстояние между словами пар в каждом из миллиона наборов. Результат оказался совершенно поразительным: среднее расстояние для единственно, «правильного» набора (где пары состояли из имен и дат одного и того же раввина) оказалось четвертым по малости из миллиона! Два года спустя Рипс и Вицтум представили Израильской Академии наук свою новую работу того же рода — и с аналогичным результатом. На сей раз в качестве объектов исследования вместо имен раввинов были взяты названия 70 народов, перечисленные в рассказе о праотце Ноахе («Берешит, гл. 10) — Хуш, Мицраим, Кнаан, Магог, Ассури т. д. Каждому имени был поставлен в соответствие какой-то «атрибут», вроде словосочетания «народ Куша», «язык Магога», «страна Ассур» и т. п., и тем самым был создан единственно «правильный» набор многочисленных — «правильных» словесных пар, а затем путем перемешивания имен и атрибутов еще 9 999 999 наборов «неправильных» пар. После измерения среднего расстояния между словами в каждом наборе оказалось, что «правильный» набор и в этом случае занял четвертое по малости место — уже из десяти миллионов! Найденные Рипсом и Вицтумом математические доказательства реальности кодов и осмысленной близости их «правильных» сочетаний возбудили и вдохновили многих других «кодоискателей», в том числе американского журналиста Майкла Дроснина. Подробно расспросив Рипса о его работах, Дроснин решил самостоятельно заняться поиском библейских кодов, но не столько религиозных, сколько жгуче современных, и стал гонять компьютер в поисках буквенных цепочек, образующих имена знаменитых людей современности — Кеннеди, Клинтона, Садата, Рабина и так далее. Обнаружив в Торе все нужные ему цепочки, он сделал смелый новый шаг, до которого не додумался никто из его предшественников, включая Вицтума и Рипса. Он сообразил, что при переходе от буквенной цепочки к «столбику», т. е. при «наматывании» длинной нити текста Торы на воображаемый барабан, слова этого текста, расположенные вдоль нити, не теряют связности друг с другом: они ложатся на барабан в той же последовательности, в какой находятся в тексте. Оказавшиеся друг под другом буквы цепочки, образующие — по вертикали — какое-то слово (например, «и-ц-х-а-к-р-а-б-и-н»), одновременно являются буквами каких-то слов Торы, расположенных по горизонтали. Вместо того чтобы искать с помощью компьютера какие-то другие буквенные цепочки, образующие слова, связанные со словом «Ицхак Рабин» (имя и фамилия израильского премьера, убитого фанатичным противником мирных соглашений Израиля с палестинцами), Дроснин решил просто воспользоваться готовыми словами Торы, пересекающими столбик «Р-а-б-и-н» или проходящими по соседству с ним. В конкретном случае цепочки-столбика — «и-ц-х-а-к-р-а-б-и-н» — он обнаружил очень многозначительные слова в строчке, проходящей через букву «ц» («цадик»); на иврите это были слова: «роцеах ашерирцах», или «убийца, который убьет» (см. рис. 3). Вместе со словами «Ицхак Рабин» они давали предсказание: «Убийца, (который) убьет Ицхака Рабина». Израильские власти, к которым Дроснин обратился со своим «предостережением», не обратили на него особого внимания (тем более что и без того знали, что Рабин является весьма вероятной мишенью экстремистов). Но когда Рабин был действительно убит, сенсация Дроснина стала от этого только драматичней. Впервые в истории было обнаружено зашифрованное в глубочайшем прошлом предсказание об убийстве видного современного политика, притом предсказание, зашифрованное не в каком-нибудь туманном стихотворении Нострадамуса, а в самой Торе, да к тому же еще обнаруженное средствами самой современной науки, и это предсказание сбылось! Но мало того — пользуясь тем же методом, Дроснину удалось обнаружить в тексте Торы также предсказания предстоящей атомной бомбардировки Израиля, взрыва автобуса в Иерусалиме, мощного землетрясения в Лос-Анджелесе и других апокалиптических событий. В предисловии к своей книге «Коды Торы», рассказывая об этих предсказаниях и подтверждая их достоверность ссылками на работы Рипса и Вицтума, Дроснин писал: «Эта книга представляет собой первый полный отчет о научном открытии двух израильских математиков, которое может изменить мир… В течение трех тысяч лет библейские коды оставались скрытыми от людей. Теперь они вскрыты компьютером — и могут открыть наше будущее. Библейский код может предостеречь мир о беспрецедентной опасности, возможно — подлинном Апокалипсисе, ядерной мировой войне. В любом случае он заставляет нас признать… что мы не одни. И ставит перед всеми нами вопрос — описывает этот код неизбежное будущее или лишь веер возможных будущих, выбор из которых — в наших руках?» 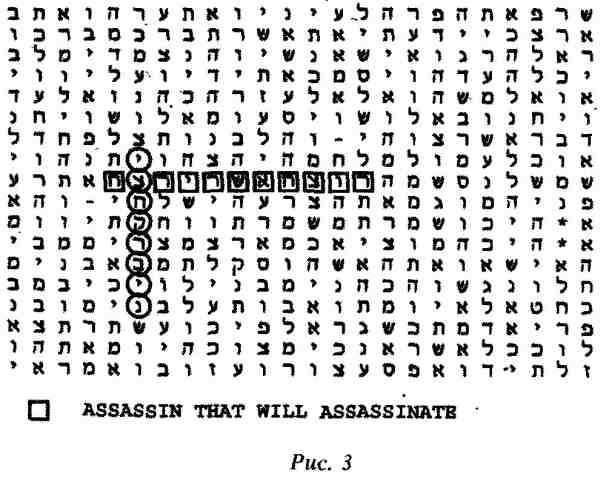
Книга Дроснина была переведена на десятки языков и породила десятки подражаний (Дж. Сцтиновер — «Взламывая библейский код», X. Линдсей — «Код Апокалипсиса», К. Суарес — «Шифр Творения, или код Кабалы», Д. Вошбэрн — «Наука и математика обнаруживают отпечатки Господних пальцев» и т. п.). Именно эти книги, вкупе с тотчас выброшенными на рынок общедоступными компьютерными программами для самостоятельного поиска «библейских пророчеств», и вызвали к жизни то повальное увлечение этими поисками, о котором мы упоминали вначале. В результате древняя, высокая и мудрая игра утонченных еврейских комментаторов со священным текстом Книги внезапно превратилась в массовое развлечение, т. е. в самый пошлый вид профанации (чего стоит, например, реклама типа: «Библейские коды помогают правильно вкладывать капитал!» — или карикатура, на которой муж, заглядывая в Тору, говорит жене: «Знаешь, кто к нам сегодня-придет к обеду?»). Это заставило многих верующих людей в ужасе содрогнуться. И даже такие энтузиасты «кодов» как Рипс, Майкельсон и Вицтум решительно отмежевались от подобного рода гаданий, превращающих священную Книгу в подобие сонника или китайской «Книги перемен». С другой стороны, это же побудило многих других ученых, специалистов по статистике, комбинаторике, а также библеистике, внимательней присмотреться ко всем этим исканиям кодов в тексте Торы, чтобы попытаться отделить в них, как говорится, зерна от плевел. Последуем за ними в этих попытках и начнем с самого простого — с простейших буквенных цепочек, найденных рабейну Бехайе и другими первооткрывателями. Итак, что в действительности обнаружил рабейну Бехайе? Ответ математики (комбинаторики и теории вероятностей) гласит: чисто случайное событие. В любом достаточно длинном тексте (а текст Торы, как я уже говорил, содержит 304 805 букв) вероятность найти четырех-, пяти- или даже восьмибуквенное сочетание, когда буквы разделены равными интервалами, а само оно образует некое осмысленное слово, непредставимо велика. И, действительно, специальная компьютерная проверка показала, что в Торе существует более 234 000 (двухсот тридцати четырех тысяч!) цепочек «бейт-хэй-рэиш-да-лет», так интересовавших рабейну Бехайе (разумеется, все они имеют разные интервалы между буквами, в том числе и отрицательные). То же самое, понятно, относится ко всем цепочкам «т-о-р-а», найденным равом Вейсманделем, равно как и к цепочке «м-и-ш-н-э-т-о-р-а», найденной. Виленским Гаоном. Таким образом, законы случайных событий позволяют найти в любом достаточно длинном тексте практически любое желаемое слово или группу желаемых слов, и порой даже в большом числе, если только не ограничиваться каким-либо одним заданным интервалом между буквами в их цепочках, т. е. при достаточной свободе поиска. Поэтому неудивительно, что «кодоискатели» так часто находят слова «ханука», «менора», «хашмонай» и т. п., равно как и 25 «райских деревьев» или 25 «скрытых имен Аарона». В этом смысле названия нацистских лагерей вблизи Освенцима ничем не отличаются от названий деревьев или людей. Но было бы неправильно думать, будто все дело в том, что буквенные цепочки для тех, других и третьих обнаруживаются в Торе потому, что имеют касательство к евреям: с тем же успехом там можно обнаружить имена знаменитых футболистов Бразилии или названия витаминов и имена их первооткрывателей. (Некоторые буквенные цепочки не обнаруживаются даже среди трехсот с лишним тысяч букв Торы, но и это тоже дело случая.) Гораздо интереснее разобраться в том, почему связанные близким смыслом буквенные цепочки («ханука — хашмонай») оказываются и «топографически» ближе друг к другу. Это обычно поражает воображение еще больше, чем само обнаружение той или иной буквенной цепочки. Но в действительности и это оказывается всего лишь следствием достаточной свободы выбора — либо интервала между буквами цепочки, либо тех или иных исходных данных, либо еще каких-то параметров эксперимента. В каждом конкретном «удивительном» случае в конце концов обнаруживается та или иная свобода манипулирования условиями эксперимента, в каждом случае — своя. При разборе каждого отдельного «чуда» Библии, библейских кодов приходится всякий раз искать, какая именно свобода выбора данных помогла экспериментатору в этом конкретном случае. Вернемся, например, к рис. 2. Мы отметили там странное написание слова «ханука» — с определенным артиклем. Оказывается, в данном случае весь секрет скрыт именно в этой крохотной частичке «хэй». Авторы, нашедшие пару цепочек «ханука-хашмонай» (каждая с минимальным интервалом), хотели показать их близость друг к другу. Но при «намотке» нити букв Торы на цилиндр с длиной окружности, равной минимальному интервалу для цепочки «ханука», цепочка «хашмонай» оказывалась очень далеко. Тогда они поставили компьютеру другую задачу: найти любую минимальную цепочку, образующую слово, близкое по смыслу к слову «ханука» и топографически соседнее с цепочкой «хашмонай». Компьютер нашел одну-единственную такую цепочку: «а-ханука». Обычно зрители, пораженные близостью кодов, даже не замечают эту маленькую странность, в которой специалист сразу же распознает примету того, что результат был насильственно подогнан под желаемый. Чудеса группировки кодов для райских деревьев или лагерей-спутников Освенцима имеют несколько другое, но столь же простое объяснение — предварительное варьирование исходных слов и отбор наиболее эффектных вариантов. Профессор Феликс, автор «Фауны и флоры Торы», проанализировав названия, взятые из его книги Майкельсоном и Рипсом, отметил девять изменений в написании названий деревьев сравнительно со своим научным текстом, а математики, изучавшие статистическую сторону эксперимента, показали, что, варьируя таким способом те или иные названия, можно найти нужные цепочки как раз в нужном месте и, наоборот, — строго следуя списку проф. Феликса, нельзя обнаружить в нужном месте многие из цепочек. Точно так же, варьируя названия нацистских лагерей-сателлитов Освенцима (т. е. беря одни лагеря, а не другие), выбирая из разных книг разное их написание и т. п., можно искусственно «загнать» цепочки для тех или иных названий в один и тот же участок текста, как это получилось у Вицтума. Свобода такого варьирования обеспечивается тем, что книг и статей об этих лагерях-спутниках Освенцима имеется довольно много, списки лагерей в них различны, написания тоже, так что можно перепробовать множество различных комбинаций, пока не отыщется такая, в которой побольше нужных буквенных цепочек окажутся близко друг к другу. В данном случае главную трудность составлял тот факт, что самая многочисленная и тесная группа цепочек-названий лагерей никак не ложилась на нужный участок текста, где располагалась минимальная цепочка для слов «шель Аушвиц» («при Освенциме»), «им Аушвиц» («вместе с Освенцимом») и даже просто «Аушвиц», и автору пришлось примириться с единственным найденным: «бэ Аушвиц», что означает совершенно несуразное в данном контексте «в Аушвице». Однако потрясенные читатели и здесь не замечают этой небольшой несуразности. Но самая простая и веселая наука — это объяснять, как получаются «библейские предсказания» Дроснина. Такого рода предсказаний в его книге превеликое множество — как относящихся к уже произошедшим событиям (убийство братьев Кеннеди, Садата и т. п.), так и к предстоящим — например, пророчества о возможном землетрясении в Лос-Анджелесе или о взрыве автобуса в Иерусалиме. Как же они конструируются? Вернемся к рис. 3. Отметим в нем две (намеренно пропущенные ранее) любопытные детали. Во-первых, на иврите фраза «убийца, который убьет Ицхака Рабина» звучит как «роцеах ашер ирцах эт Ицхак Рабин», тогда как «найденное» Дросниным сочетание: «ицхакрабин — роцеах ашер ирцах» означает скорее: «Ицхак Рабин — убийца, который убьет». Во-вторых, если всмотреться в рисунок, можно увидеть, что фраза Торы вовсе не кончается на «ирцах», а имеет еще три слова — «бэ ло дэа», что означает «без знания» («без намерения»), иными словами — нечаянно: убийца, который убьет нечаянно, непреднамеренно. Дроснин просто оборвал фразу на нужном ему месте и показал миллионам читателей, не знающим иврита, оборванный английский перевод: «Assassin that will assassinate» («Убийца, который убьет»). Многочисленность «найденных» Дросниным «пророчеств» объясняется попросту тем, что текст Торы изобилует словами «огонь», «эпидемия», «наказание», «катастрофа», «разрушение» и т. п., которые очень легко сопрячь с буквенными цепочками, образующими подходящие слова или имена, создав устрашающее пророчество. Там же, где это не удается, Дроснин, не задумываясь, прибегает к такому же препарировавнию текста Торы, как в случае с Рабином. Так, желая «предсказать» будущий взрыв автобуса в Иерусалиме, он использовал кусок фразы из текста Торы, обнаруженный рядом с цепочкой «о-т-о-б-у-с» и звучавший как «ашер им-шхем» («что около Шхема»); на иврите это записано буквами «алеф-шин-рэйш айн-мэм-шин-куф-мэм», что позволило Дроснину разделить эти буквы на совершенно иные слова: «алеф-шин», которое он истолковал как «эш» («огонь»), и «рэйш-айн-мэм», истолкованное им как °раам» («гром, большой шум»). Остальное было отброшено за ненадобностью, как в «предсказании о Рабине», после чего было уже нетрудно объяснить читателям, что «огонь» и «большой шум» — это и есть «террористический взрыв». В тех же случаях, когда и такое «предсказание» не сбывалось, Дроснина спасали предусмотрительно вставленные в предисловие к книге слова о «веере возможных будущих»: так, провалившись с предсказанием атомной бомбардировки Израиля в 1996 году, он тут же перенес его на 2004 год… Таким образом, все описанные (и сотни не описанных) выше качественных экспериментов по отысканию библейских «кодов» и «предсказаний» в действительности не имеют никакого отношения ни к кодам, ни к предсказаниям, ибо цепочки равноотстоящих слов, рассеянные во всех местах достаточно длинного текста и в самых изумительных сочетаниях, — это не чья-то шифровка, а такая же игра случайных (т. е. природных) закономерностей, как образование изумительных ледяных узоров на зимнем окне. А свобода выбора условий поиска помогает проявить эти узоры в любом желаемом месте и увидеть их в любом, самом неожиданном ракурсе. Но в «кодах Торы» есть еще более важная особенность — они не имеют никакого отношения и к самой Торе. Доказательством этого могут служить две грозди буквенных цепочек, найденных исследователями, которые проверяли результаты Рипса-Вицтума и Дроснина: одна гроздь состоит из огромного множества чрезвычайно близко расположенных буквенных цепочек, целиком относящихся к празднику Ханука; а вторая — из столь же большого числа цепочек, «предсказывающих» гибель принцессы Дианы. Обе эти эффектные грозди «библейских кодов» (сознательно подогнанные авторами-математиками по описанным выше общим правилам подгонки «кодов») более всего интересны тем, что обнаружены не в тексте Библии: первая из них найдена в отрывке ивритского перевода «Войны и мира» (той же длины, что книга «Берешит»), вторая — в такой же длины отрывке из английского текста «Моби Дика»! Тут, однако, возникает самый тяжелый вопрос: если все эти «коды Торы» — и не коды, и не Торы, то что же в таком случае означают описанные выше — уже не качественные, а строго количественные — результаты математических экспериментов Вицтума — Рипса? Если они верны, то должны быть, как представляется, верны и результаты всех других «кодоискателей»? А если нет, то в чем их ошибка? >2. РАЗГАДКА Напомню подробности работы Вицтума и Рипса. В 1994 году они опубликовали в солидном научном журнале «Статистические науки» статью о результатах проведенного ими математического исследования, подтвердившего гипотезу о наличии в тексте Торы второго, «скрытого», текста, зашифрованного там методом равных буквенных пропусков, а два года спустя доложили Израильской Академии наук результаты второго, аналогичного эксперимента, давшего те же результаты. Первый эксперимент Вицтума — Рипса получил название «эксперимента с раввинами», потому что объектом исследования были цепочки равноотстоящих букв (т. е. те самые «библейские коды», о которых говорилось выше), образующие имена известных еврейских раввинов IX–XVIII веков; второй эксперимент (точнее — самый интересный из экспериментов второй серии) был назван «экспериментом с народами», потому что в нем объектом исследования были названия «народов» из книги «Берешит» («Бытие»). В предыдущей главе я бегло описал оба этих эксперимента. В самом общем виде эксперимент с раввинами состоял в следующем. Рипс и Вицтум выбрали из «Энциклопедии великих людей Израиля» достаточно короткие (5–8 букв) имена или наименования{6} нескольких десятков раввинов IX–XVIII веков, а также даты их рождения и смерти. Последние были превращены в слова (с помощью приемов т. н. гематрии, которая обозначает каждое число определенным сочетанием ивритских букв, а затем из этих имен и дат были составлены словесные пары типа «имя А — дата А», «имя В — дата В» и так далее. Поскольку имен и дат (в словесном написании) у каждого раввина, как уже сказано, могло быть несколько, а брались все возможные сочетания, то и пар получилось намного больше, чем самих раввинов, — порядка нескольких сотен. После этого компьютеру было задано найти в тексте книги «Берешит» цепочки букв с равными (и минимальными!) пропусками, образующие слова каждой пары, и определить «расстояние» между ними (по разработанной Рипсом формуле). Результат оказался поистине впечатляющим: мало того, что были обнаружены цепочки почти для половины заданных слов, но во многих парах расстояния между составляющими их словами оказались весьма близкими. Но этот результат был еще чисто качественным. Чтобы получить математически строгое доказательство своей исходной гипотезы, авторы (по настоянию референта, профессора П. Диакониса) усложнили эксперимент: в дополнение к набору «правильных» словесных пар («А — А», «В — В» и т. п.) они создали путем перемешивания всех дат и имен еще 999 999 наборов «неправильных» пар (типа «А — В», «А — Г», «В — С» и т. п.) и подсчитали среднее расстояние между словами пар в каждом из миллиона наборов. Результат оказался совершенно поразительным: среднее расстояние для единственного «правильного» набора оказалось четвертым по малости из миллиона! Иными словами, буквенные цепочки для имен раввинов оказались почему-то ближе к цепочкам букв, образующих их собственные даты жизни, чем к тем цепочкам букв, которые образуют даты, не связанные с ними по смыслу. Это означало, что эти буквенные цепочки (коды) образуются и распределяются в Библии не случайно, а в соответствии со смыслом образуемых ими слов, словно кто-то сознательно расположил все буквы Торы в определенном порядке. Это было первое научное свидетельство в пользу неслучайности и осмысленности библейских кодов. Как уже сказано, два года спустя Рипс и Вицтум представили Израильской Академии наук свою новую работу, в которой в качестве объектов исследования вместо имен раввинов были взяты названия 70 народов, перечисленные в рассказе о праотце Ноахе (кн. «Берешит», гл. 10) — Хуш, Мицраим, Кнаан, Магог, Ассур и т. д. Каждому имени был поставлен в соответствие какой-то «атрибут», вроде словосочетания «народ Куша», «язык Магога», «страна Ассура» и т. п., и тем самым был создан единственно «правильный» набор многочисленных, «правильных» словесных пар, а затем путем перемешивания их составляющих — еще 9 999 999 наборов «неправильных» пар. После измерения среднего расстояния между словами в каждом наборе оказалось, что «правильный» набор и в этом случае занял четвертое по малости место — уже из десяти миллионов! Эти результаты произвели такое сильное впечатление, что долгое время никто не решался ни оспаривать, ни проверять их повторно. Однако появление и бешеная популярность рассмотренной выше книги Дроснина «Коды Торы», в которой автор, широко ссылался именно на авторитет профессора И. Рипса и полученные им «математические доказательства существования библейских кодов», побудили, наконец, многих математиков заняться детальным анализом и т. н. библейских кодов вообще, и результатов Вицтума — Рипса в частности. Как уже говорилось ранее, анализ качественных экспериментов с библейскими кодами (типа поиска названий «райских деревьев», «лагерей-сателлитов Освенцима» или «предсказания об убийстве Рабина») привел ученых к выводу, что во всех этих случаях имела место значительная свобода выбора исходных данных для поиска и манипулирования этими данными. Эта свобода выбора — при условии наличия в тексте большого множества совершенно случайных буквенных цепочек, образующих осмысленные слова, — создавала возможность предварительного подбора именно таких исходных данных, которые позволяли получить желаемый результат в наиболее эффектном и убедительном виде (например, найти все 25 названий «райских деревьев» в участке текста, посвященном описанию Рая, или все названия лагерей-сателлитов Освенцима вблизи буквенной цепочки, образующей название этого главного лагеря смерти). Отличие одного такого эксперимента от другого состояло лишь в том, в чем конкретно заключалась упомянутая свобода выбора в том или ином случае, как она была использована при поиске и каким именно образом повлияла на конечный результат. Уловив эту кардинальную особенность всех экспериментов, в которых обнаруживаются «впечатляющие» библейские коды и их группы, критики-специалисты по-новому сформулировали тот вопрос, который был задан выше по поводу экспериментов Вицтума — Рипса. Они сформулировали его следующим образом: можно ли сказать, что методика экспериментов Вицтума — Рипса полностью исключает ту возможность произвольного (пусть и незлонамеренного) манипулирования исходными данными, которая отягощает все другие эксперименты с библейскими «кодами»? Детальная проверка «чистоты» указанных экспериментов, была произведена в 1997–1998 годах многими учеными в разных странах, в том числе авторитетнейшим специалистом с мировым именем, профессором математики и теоретической физики Калифорнийского технологического института Барри Саймоном (кстати, ортодоксальным верующим евреем), профессором статистики университета штата Новый Южный Уэльс (Австралия) Майклом Асофером, профессором физических наук Корнельского университета в США Перси Диаконисом, профессором математики Лондонского университета Е. Б. Дэвисом и другими. Особенно много сделала в этой области международная группа математиков под руководством члена Австралийской Академии наук, специалиста по комбинаторике. и компьютерным наукам, профессора Брендана Мак-Кэя (кроме него в группу входили также Дрор Бен-Натан, Алекс Гиндис и Арье Левитин). Чтобы понять содержание и результаты этой проверки, необходимо вслед за специалистами разобраться в том, как шла подготовка исходных данных в работе Вицтума и Рипса. Для того, чтобы эта работа удовлетворяла требованиям статистической науки, авторы должны были заранее, до начала эксперимента, сформулировать исходную гипотезу, а также заранее условиться обо всех деталях и процедуре проведения эксперимента, в частности — о том, как будут выбираться исходные данные. Это требование, основное в каждом статистическом эксперименте, называется требованием априорности. Его необходимость очевидна: если не оговорить заранее все эти условия, то всегда останется возможность в любой момент изменить исходные данные любым желаемым образом. Выяснилось, однако, что выбор исходных данных (имен и дат жизни раввинов) в эксперименте Вицтума — Рипса оставлял большую свободу варьирования. Дело в том, что, как мы уже говорили, традиция (как письменная, так и устная) сохранила для каждого знаменитого раввина не одно, а целый ряд наименований и аббревиатур, в некоторых случаях 5–6 для одного человека, и экспериментаторы могут, вообще говоря, выбрать те из них, которые обеспечат наилучший результат. Но, помимо этой сложности, есть и другие, аналогичные. Нет, например, однозначных критериев, каких раввинов считать более знаменитыми, а каких — менее. Не существует однозначности и в вопросе написания различных имен и наименований. Справочники и энциклопедии сохранили не все даты рождения и смерти: иногда есть либо одна, либо другая дата, а порой нет и обеих. Перевод дат в словесное написание тоже представляет собой неоднозначную задачу, ибо принятых способов написания дат тоже существует несколько, иногда до 8–9 вариантов{7}. Давая пояснения по методике своей работы, Вицтум и Рипс утверждали, что выполнили требование априорности, поскольку скрупулезно следовали указаниям специалиста, руководителя отделения библиографии и библиотековедения университета Бар-Илан профессора Хавлина, который, по их словам, заранее проделал для них однозначный и научно обоснованный отбор самых употребительных вариантов имен, наименований и дат, а также их написания (правда, датами занимался другой специалист, ныне покойный профессор Урбах). Однако пристальный анализ процесса этого отбора показал, что критерии проф. Хавлина были далеки как от научных, так и от однозначных и оставляли авторам большие возможности предварительного подбора наилучших исходных данных для эксперимента. Имена и даты почему-то выбирались из «Энциклопедии знаменитых людей Израиля» под редакцией Маргалиота, хотя существует множество других аналогичных энциклопедий и справочников. Критерием «знаменитости» было почему-то выбрано определенное количество колонок энциклопедического текста, посвященного данному раввину: те, у кого было меньше трех таких колонок, считались недостаточно знаменитыми. Проверка показала, что если бы авторы последовали совету другого специалиста и воспользовались другими энциклопедиями или другими критериями «знаменитости», результаты эксперимента оказались бы отнюдь не такими впечатляющими. Но самой большой удачей эксперимента оказался специфический выбор конкретных наименований и дат из множества предоставлявшихся возможностей. У раввинских наименований есть своя долгая и запутанная история. Одни родились и укоренились в разговорном языке, другие возникли и употреблялись только на письме; они рождались в разное время и в разных странах, поэтому имели разное произношение и написание и так далее; единственное, что их объединяет, — это заведомое отсутствие какого бы то ни было общепринятого, научно обоснованного и однозначного критерия для предпочтения одних наименований другим. В отсутствие такого критерия профессор Хавлин предложил свой собственный, состоявший из множества произвольно постулированных правил отбора. Однако уже несколько лет спустя, поясняя свои критерии коллегам-специалистам, Хавлин и сам не мог припомнить некоторые из этих правил и потому не мог объяснить, почему он отбросил одни наименования в пользу других. Он говорил, что руководствовался тем, какие наименования употреблялись в т. н. «Респонсах» (ответах, посылавшихся раввинами в различные еврейские общины), но оказалось, к примеру, что написание «Оппенхейм», выбранное им для одного из раввинов, содержится в «Респонсах» лишь дважды, тогда как написание «Оппенхейем» содержится в тех же «Респонсах» более 30 раз, включая несколько «Респонсов», где оно появляется как личная подпись рава Оппенхейема. Почему же для эксперимента было принято именно «Оппенхейм»? А ведь даже изменение одной буквы, как показала проверка, резко влияет на результат эксперимента. Выбери авторы случайно не «Оппенхейм», а «Оппенхейем», и результат оказался бы иным. И таких примеров можно привести много. Так, общепринятое наименование рава Йосефа Каро: «Бейт-Йуд» — было отброшено как «непроизносимое» (поскольку одно из «правил Хавлина» предписывало руководствоваться в отборе наименований только устной традицией, что, впрочем, не мешало в некоторых случаях почему-то отдавать предпочтение письменной). Между тем именно «Бейт-Йуд» является самым употребительным наименованием рава Каро — по заглавию его главного труда «Бейт-Йосеф», как уже говорилось. В добавление ко всему, даже эти двусмысленные критерии соблюдались авторами вслед за Хавлиным далеко не жестко: то и дело вводились новые правила для тех или иных конкретных случаев; выбор одного наименования обосновывался тем, что оно «более благозвучно», другого — тем, что оно «более удобопроизносимо», а третьего — тем, что «таков более правильный перевод с немецкого». Неслучайно полностью выведенный из себя этим произволом один из критиков, профессор кафедры ТАНАХа университета Бар-Илан Менахем Коэн вынужден был в конце концов крайне резко заявить: «Все эти критерии представляются лишенными всякой научной основы, поскольку, во-первых, являются абсолютно произвольными и в каждом пункте могут быть заменены совершенно другими, не менее, а возможно, и более удачными, а во-вторых, не выдержаны последовательно даже самим автором…» А уже упоминавшийся выше профессор Барри Саймон язвительно заметил, что составленный Хавлином и принятый на вооружение Вицтумом и Рипсом исходный список «настолько произволен, что его не может воспроизвести не только какой-либо другой исследователь, но даже сам составитель». Как оказалось, то же самое можно сказать и о списке дат. Все это означает, что набор исходных данных не был априорным: повсюду оставалось множество возможностей различного выбора, и в каждом случае авторы выбирали одну из них, руководствуясь весьма сомнительными, с научной точки зрения, критериями, — но в конечном итоге совокупность всех этих удачных выборов привела, как ни странно, к наилучшему результату. Как уже было сказано выше, соблюдение априорности означает, что исходные условия выбраны еще до эксперимента и заданы так однозначно, что это полностью исключает возможность менять их в ходе расчетов, чтобы улучшить результат. Отсутствие априорности, естественно, означает обратное. Разумеется, если результат не очень зависит от исходных данных, отсутствие априорности не так существенно. Но, к сожалению, в случае эксперимента Вицтума — Рипса дело обстоит прямо противоположным образом. Как показала группа Б. Мак-Кэя, особенности методики в эксперименте Вицтума — Рипса таковы, что общий результат крайне чувствителен даже к изменению одного-единственного имени или одной какой-то даты. Действительно, как обнаружилось при воспроизведении эксперимента Вицтума — Рипса с другими исходными данными, приводимые авторами средние цифры скрывают за собой крайне пестрый разброс индивидуальных данных. Так, в «правильном» наборе имен и дат фигурируют 4 пары вида «Рамбам — дата Рамбама». Таких пар четыре, потому что имеются два возможных написания даты рождения и два возможных написания даты смерти Рамбама. Если последовательно заменить в этих парах правильные «рамбамовские», даты на даты других раввинов, беря эти «неправильные» даты во всех их возможных написаниях, получится еще 926 пар. Так вот, расстояние между именем Рамбама и датой его рождения (в одном написании) оказывается всего лишь 332-м по малости среди всех 930 пар; расстояние между именем Рамбама и датой его рождения во втором написании — 696-м, расстояние между именем Рамбама и датой его смерти в первом написании — 686-м, а расстояние между именем Рамбама и датой его смерти во втором написании — 890-м, т. е. является чуть ли не самым большим из всех расстояний. Такие же большие расстояния характерны и для многих других «правильных» пар. Каким же образом среднее расстояние для всего набора «правильных» пар в целом оказалось четвертым по малости? Анализ группы Мак-Кэя показал, что положение спасает небольшое число специфических «имен» и «дат»: будучи выбранными в определенном написании (а критерии отбора, принятые в эксперименте, как мы уже видели, вполне позволяют такую свободу выбора), они оказываются расположенными необычайно близко, и это делает среднее «расстояние» достаточно малым. Это и означает, что метод чувствителен к выбору исходных данных: стоит слегка изменить выбранное написание, как среднее расстояние между именами и датами для «правильного» набора, рассчитанное по методу Вицтума — Рипса, сразу откатывается далеко в середину миллиона других расстояний, характеризующих наборы совершенно бессмысленных и случайных сочетаний имен и дат. Группа Мак-Кэя произвела своеобразный «проверочный эксперимент». Исследователям было известно, что после того, как Рипс и Вицтум нашли свой нетривиальный результат в тексте книги «Верещит», они решили проверить, каким будет среднее расстояние для «правильного» набора имен и дат знаменитых раввинов в переводе на иврит романа «Война и мир», и нашли, что там оно очень велико. Поэтому Мак-Кэй предложил взять другой список раввинов, составленный по методике Вицтума — Рипса (т. е. с той же свободой выбора исходных данных), но с небольшими изменениями (научную обоснованность которых подтвердили специалисты по иудаике), и посмотреть, какие результаты он даст в тексте тех же двух книг — книги «Берешит» и «Войны и мира». Эти результаты оказались прямо противоположны результатам Вицтума — Рипса: список группы Мак-Кэя занял одно из почетных первых мест среди 10 миллионов всевозможных списков имен и дат в ивритском тексте «Войны и мира»., но откатился на весьма далекое место, т. е. выглядел как вполне случайный в тексте книги «Берешит». Разумеется, это не означает, будто «Война и мир» провидит истину относительно правильных имен и дат будущих раввинов лучше, чем Тора. Вопрос — кто лучше провидит истину, тем более будущую? — вообще не относится к ведомству науки, это вопрос, веры. С научной точки зрения, результат эксперимента Мак-Кэя означает только, что в условиях подобной свободы выбора исходных данных оба эксперимента не дают — и в принципе не могут дать — однозначных результатов. Достаточно еще раз изменить данные (в пределах той свободы, которую оставили себе Вицтум и Рипс), и «правильный» список окажется правильным даже в тексте «Моби Дика» (напомню, что Мак-Кэй и Саймон уже показали, что, располагая достаточной свободой манипулирования, можно найти в «Моби Дике» даже «предсказание» гибели принцессы Дианы). Эта оценка эксперимента Вицтума — Рипса нисколько не меняется и от того, что они провели второй «проверочный» эксперимент с дополнительным списком 32 раввинов, критерии для составления которого были определены заранее, т. е. как будто бы были вполне априорными. Дело в том, что в качестве этих критериев были выбраны все те же «правила Хавлина», оставлявшие экспериментаторам ту же свободу выбора одних имен, дат и их написаний и произвольного отбрасывания других имен, дат и их написаний, что и в основном эксперименте. Иначе говоря, второй список был просто продолжением первого. А это значит, что и его априорность была иллюзорной. Как уже говорилось, через два года после экспериментов, описанных в статье в «Статистических науках», Вицтум доложил в Израильской Академии наук свою с Рипсом новую работу, содержавшую, среди прочих, т. н. эксперимент с народами. Методика этого эксперимента в целом повторяла методику предыдущей работы. Из текста Торы (книга «Берешит», глава 10, рассказ о праотце Ноахе) были взяты 70 названий различных народов (вроде Хуш, Мицраим, Кнаан, Магог, Ассур и так далее), и каждое йз них было спаровано с его «атрибутом» — фразой типа «народ Мицраима» или «язык Хуша», или «страна Ассура», или «люди Кнаана» и т. п., причем в обоснование того или иного выбора конкретного «атрибута» при том или ином названии народа приводилась ссылка на комментарии Виленского Гаона. Снова были составлены один «правильный» и множество «неправильных» наборов таких пар («правильная пара» — это «Хуш — народ Хуша»; «неправильная»: «Хуш — народ Мицраима»), причем «неправильных» на этот раз был миллиард без одного, снова были найдены буквенные цепочки для всех них (на этот раз все с интервалом плюс или минус 1), снова (по формуле Рипса) были измерены расстояния и найдены средние. Как уже говорилось, среднее расстояние в «правильных» («А — атрибут А») оказалось четвертым по малости и в этом невероятном по массовости забеге. Группа Мак-Кэя произвела анализ и этого эксперимента. Оказалось, что и в нем степень свободы выбора данных была оставлена очень высокой — за счет небольшого изменения указаний Виленского Гаона. Так, комментарий Гаона вообще не содержит фраз типа «народ Куша» и пользуется только сочетанием «имя Куша», тогда как Рипс и Вицтум использовали именно первое сочетание. Между тем, если проделать тот же эксперимент с парами строго «гаоновского» типа: «Куш — имя Куша», то средняя близость в парах «правильного» списка окажется ничуть не лучше, чем близость в парах всех прочих, «бессмысленных» наборов; зато, поменяв слово «имя» на слово «народ», можно тотчас добиться огромного улучшения результата. Точно так же слегка изменен по сравнению с комментарием Гаона атрибут «язык Куша» — Гаон пользуется несколько иным словом. Когда исследователи провели расчет того, какие результаты дают все возможные атрибуты (как выбранные Вицтумом и Рипсом, так и другие, типа «характер Куша», «вождь Мицраима», «армия Магога», поддержанные комментариями Рамбана-Нахманида), то оказалось; что в сводной таблице результаты для всех прочих атрибутов распределены в целом случайным образом, но три из четырех атрибутов, использованных Вицтумом и Рипсом, занимают в ней первые места. Иными словами, если они выбраны случайно, то выбор случайно оказался невероятно удачным. Эта странная «систематическая случайность», естественно, породила у проверявших эти эксперименты математиков подозрение, не подбирали ли авторы предварительно именно те варианты написания имени или атрибута, которые давали наилучший результат, а уже затем демонстрировали этот результат. Намеки такого рода особенно резко высказываются членами группы Мак-Кэя. Мне лично представляется, однако, что все эти намеки критиков на возможность «подгонки результата» не вполне корректны. Дело в том, что даже если такой предварительный перебор вариантов и осуществлялся, он является «подгонкой» только с точки зрения статистической науки, т. е. не позволяет считать полученный результат научным доказательством; но этот перебор не является подгонкой с точки зрения верующих людей, каковыми являются Вицтум и Рипс. Верующий человек всегда может сказать, что, перебирая, он искал тот единственный вариант написания имени раввина или атрибута народа, который был использован Автором Книги, чтобы «закодированно» записать в ней будущее. А почему Автор захотел для этого закодировать имя рава Оппенхейема в виде цепочки «О-п-п-е-н-х-е-й-м», а не «О-п-п-е-н-х-е-й-е-м», не нам судить: пути Всевышнего неисповедимы. По этому поводу еще один критик гипотезы Вицтума — Рипса, уже упоминавшийся профессор Асофер, пишет: «Можно, разумеется, сказать, что Всевышний написал Тору и закодировал в ней информацию о будущем таким способом, каким Ему заблагорассудилось, но такой подход тотчас лишает нас возможности подсчитывать вероятности по законам статистики, ибо мы не знаем — и не можем узнать, — соблюдал ли и Всевышний те же законы». Мне кажется, что дело обстоит даже хуже: введя в науку гипотезу о всемогущем и всеведущем Авторе, мы вообще теряем возможность задавать вопросы. Например, на вопрос, почему «правильный» набор имен или атрибутов занял только четвертое, а не первое место, которое, казалось бы, должен был занять единственно «правильный» набор, или почему для подсчета расстояний принята громоздкая формула Рипса, которая требует нескольких миллионов (!) операций для вычисления расстояния между каждыми двумя буквенными цепочками (но зато, как показал детальный и независимый анализ Асофера и Саймона, в сотни раз улучшает результат эксперимента с раввинами), а не более простая формула, предложенная Диаконисом (расстояние между двумя буквенными цепочками равно числу пропущенных букв между центральными буквами этих цепочек), — всегда можно дать ответ: потому, что это Всевышний, по Своему неисповедимому желанию, предопределил этому набору именно четвертое, а не какое-либо иное место, причем именно при подсчете по формуле Рипса, а не по более простой. Не будем поэтому препираться: наука не может и не должна решать вопрос о существовании или не существовании Автора. Но она может решить вопрос о научной доказательности результатов Вицтума — Рипса, и самыми трудными для опровержения мне лично представляются как раз не доказательства Саймона, Асофера или Мак-Кэя, а соображения текстологов-библеистов — например, уже упоминавшегося профессора Менахема Коэна из университета Бар-Илан или профессора Джеффри Тигэя из Пенсильванского университета (США). Если формулировать предельно кратко, то их соображения таковы. Суть всех проверок группы Мак-Кэя и других специалистов, говорят Коэн и Тигэй, сводится к выводу, что результаты Вицтума — Рипса весьма чувствительны к малейшим изменениям в написании тех или иных буквенных цепочек для имен и дат жизни раввинов или атрибутов народов: эти результаты сразу изменяются от замечательных (свидетельствующих о наличии Автора) к совершенно рядовым (свидетельствующим об их чисто случайном характере). Но поскольку такие же изменения в цепочках могут быть произведены не только с помощью специального подбора исходных данных, но и просто путем случайной перестановки каких-нибудь нескольких букв текста Торы, то, стало быть, результаты Вицтума — Рипса зависят также от точности этого текста. Понятно, что содержать истинное знание о будущем может только истинный, ни на йоту не искаженный текст Торы. А это значит, что и результаты Вицтума — Рипса должны быть замечательны не вообще в книге «Берешит», а только в истинном, ни на йоту не измененном тексте этой книги. Между тем Вицтум и Рипс получили свои замечательные результаты именно на искаженном тексте, и потому утверждения о какой-то особой «значимости» этих результатов (как якобы освященных особым Авторитетом источника) абсолютно несостоятельны. Дело в том, разъясняют специалисты-библиеведы, что никакого истинного текста Торы попросту не существует. Напротив, есть множество доказательств, что текст, которым пользовались Вицтум и Рипс, равно как и все остальные существующие ныне тексты Торы, во многом отличается от того, которым пользовались во времена Второго Храма, не говоря уже о более ранних временах. Некоторые места в существующих текстах отличаются и от соответствующих цитат из Торы, приводимых составителями Талмуда (а точность таких талмудических цитат в сравнении с дошедшими до нас текстами Торы гарантируется тем, что на этих цитатах основаны некоторые галахические постановления), и от соответствующих мест в отрывках Торы, найденных в кумранских свитках. Эти разночтения затрагивают также книгу «Берешит», с которой работают Вицтум и Рипс. А поскольку буквенные цепочки, образующие имена и даты жизни раввинов или названия и атрибуты народов, разбросаны буквально по всей книге, они не могут не испытать влияния этих разночтений. Поэтому результат, полученный Вицтумом и Рипсом, даже если бы он был научно достоверен, был бы весьма странен с точки зрения верующего человека: он означал бы, что только в измененном, по сравнению с древним, тексте Торы содержится правильное предсказание имен и дат жизни будущих раввинов. За неимением места я не могу достаточно подробно изложить интереснейшие аргументы Коэна и Тигэя. Но если у Вицтума и Рипса нет сегодня убедительного ответа на эти сокрушительные соображения, то им остается либо найти такой ответ, либо признать свои результаты не относящимися к вопросу об Авторстве. Я не одинок в этом заключении; примерно то же написали недавно в своем коллективном письме 50 видных математиков мира. Высказав, резко отрицательное мнение о научной достоверности экспериментов Вицтума — Рипса («Мы… изучили представленные доказательства существования «кодов» в Торе и нашли их совершенно неубедительными»), они далее пишут: «Некоторые из подписавшихся под этим письмом верят в Божественное происхождение Торы. Мы не видим никакого противоречия между этой верой и высказанным выше мнением». Иными словами, результаты Вицтума — Рипса не имеют никакого отношения к вопросу о существовании или не существовании Всевышнего. По утверждению Барри Саймона, профессоры Каждан и Ауман, некогда рекомендовавшие статью Вицтума — Рипса к публикации в «Статистических науках», тоже выразили готовность присоединиться к этому коллективному письму. >ГЛАВА 3 КТО НАПИСАЛ ТОРУ Еврейская традиция утверждает, что все пять книг Торы были получены Моисеем на горе Синай от Господа Бога. Однако эти книги (а также весь библейский текст в целом) содержат столь большое число противоречий, разночтений и несогласований, что становится попросту невозможным приписать их авторство одному автору, даже божественному. Кто же тогда создал Библию? Попробуем рассказать, последовательно и связно, как отвечает на этот вопрос современная наука. Оговоримся, однако, сразу: речь пойдет не о привычной в христианском мире Библии, состоящей из двух частей — Ветхого и Нового Заветов, но о той только великой книге, которую христиане называют «Ветхим (т. е. Старым) Заветом», а евреи называют ТАНАХом (Тора, или «Закон», Невиим, или «Пророки» и Ктувим, или «Писания»). «Библией» (или «Книгами») ее впервые назвали эллинизированные евреи диаспоры в начале новой эры (прямо переводя на греческий раннееврейское название «а-сфарим», предшествовавшее слову «ТАНАХ»). Под этим названием она и вошла в европейскую культуру. Роль Библии в этой культуре огромна. По существу, она заложила ее нравственные и социальные основы. Неслучайно европейскую цивилизацию называют иудеохристианской. А поскольку европейская цивилизация оказала столь же огромное влияние на историю мира, то Библия стала книгой поистине мирового значения. Из нее выросло христианство. Из нее вырос ислам. Библия до сих пор остается самой читаемой книгой в мире и неизменно занимает первое место в списках бестселлеров. Но отношение к ней различных людей далеко не одинаково. Одни понимают ее буквально, другие аллегорически, третьи историко-культурно или нравственно. Одни считают ее Боговдохновленной, другие видят в ней человеческое творение. Одни живут по ее законам, другие изучают ее методами науки. Впрочем, последнее противопоставление не означает противоречия. Научное изучение Библии не направлено на подрыв веры. Оно не имеет целью доказательство существования или не существования Бога. Оно не нацелено на разжигание конфликта между религией и наукой или между верующими и неверующими людьми. Разумеется, как среди верующих, так и среди неверующих есть зашоренные люди, готовые крикливо навязывать другим свои крайние религиозные или атеистические взгляды. Спорить с такими людьми бесполезно. Они сами своими неумными нападками провоцируют и разжигают тот конфликт, против которого на словах выступают. У всякого серьезного верующего или атеиста знакомство с историей научного изучения Библии и достигнутыми на этом пути результатами вызывает лишь еще большее уважение к этой великой Книге. Оно углубляет понимание ее исторических и нравственных уроков. Оно является источником житейской мудрости и жизненной стойкости. Неслучайно у истоков научного изучения Библии стояли верующие люди, в том числе и евреи; да и сегодня многие, едва ли не большинство исследователей Библии являются представителями религиозных кругов. Эти занятия столь же мало подрывают их веру, сколь увлеченные и эффективные занятия наукой вообще — веру тех тысяч и тысяч современных ученых, которые остаются глубоко религиозными людьми. Со своей стороны, ни один серьезный ученый-атеист никогда не опускался до вульгарного «ниспровержения» великих религиозных идей, пронизывавших и определявших всю человеческую историю. Скорее наоборот: все они несли в душе и вдохновлялись своим, экзистенциальным эквивалентом таких идей. Будем надеяться, что все сказанное выше сразу же очертит наш подход к намеченной теме, и приступим к ней без дальнейших отлагательств. Научное изучение Библии (или, как его еще условно называют, «библейская критика») представляет собой, по существу, попытку ответить на один-единственный вопрос: кто написал Библию? В этом плане перед нами не что иное, как научный детектив, столь часто встречающийся в любых рассказах о науке. Как и всякий детектив, он начинается с загадок. Люди, внимательно читавшие Библию, не могли не заметить, что в ней встречаются многочисленные противоречия. Так, в рассказе о Сотворении Мира один раз (Бытие 1:20–27; здесь и в дальнейшем мы будем цитировать русский перевод, сверяя его с ивритским текстом; читатель, при желании, может произвести эту сверку и сам) говорится, что Бог сначала создал всех пресмыкающихся, животных и птиц, а затем человека — мужчину и женщину; а несколько ниже (Бытие 2:7; 2:18–22) утверждается, что Он сначала создал мужчину, затем всех животных и птиц и лишь после этого женщину. В рассказе о Потопе сначала говорится (Бытие 6:19), что Господь повелел Ною ввести в ковчег по паре из всех животных, а потом (Бытие 7:2–3) сообщается, что «чистых» (то есть пригодных для жертвы) животных и птиц велено взять по семи. И даже о самом Себе Господь (если считать Его первовдохновителем библейского текста) говорит на удивление противоречиво: в книге «Берешит» (Бытие 4:26) Он сообщает, что Его имя начали призывать (то есть произносить) уже в древнейшие времена, после рождения Адамова внука; а в книге «Шмот» (Исход 6:3) рассказывает Моисею, что это же Свое имя Он не открыл даже Аврааму, Ицхаку и Яакову. Таких примеров можно привести множества Верующие люди, читавшие эту книгу на протяжении столетий, не могли не задумываться над ними. Традиция учила их, что первые пять книг ТАНАХа, или Тора, были написаны Моисеем. Но читавшие не могли не видеть противоречий между этим утверждением и самим текстом. В тексте упоминаются многие события, о которых Моисей знать не мог. Рассказывается, например, о смерти Моисея. Говорится, что Моисей был самым скромным человеком на Земле. Трудно думать, что самый скромный человек на Земле станет говорить о себе, что он самый скромный человек на Земле. И так далее. Все это порождало законные недоумения. Мы знаем, что такие недоумения высказывались очень часто, — хотя бы потому, что уже в III в. н. э. христианский богослов Ориген написал специальный трактат, направленный против тех, кто сомневался в моисеевом авторстве. Он предложил разъяснения некоторых противоречий. Аналогичные разъяснения предлагали раввины. Они утверждали, что противоречия являются мнимыми и могут быть сняты с помощью дополнительных комментариев и интерпретаций. В частности, упоминание событий, о которых Моисей якобы не мог знать, объясняется тем, что Моисей был пророк, а текст Торы вдохновлен Богом. В подобных интерпретациях особенно были искусны великие еврейские комментаторы Раши и Нахманид. (Много позже Бабель с любовной иронией спародировал этот метод интерпретации в одном из своих «Одесских рассказов»: «Ночью… — читал Арье-Лейб. — Что говорит нам Раши? Раши говорит нам: ночью — это ночью и днем».) Были, однако, люди, которых не удовлетворяли такие способы решения загадок библейского текста. Принимая в целом авторство Моисея, они высказывали предположения, что в отдельных местах моисеев текст мог быть дополнен теми или иными фразами, вставленными более поздними переписчиками. Первым из известных нам людей такого рода был еврейский врач Ицхак Ибн Яхуш, живший в XI веке при дворе одного из мусульманских правителей Испании. Он обратил внимание на то, что в книге Бытия (36:31–39) перечисляются цари Эдома, жившие намного позже смерти Моисея. Неизвестно, почему его смутило именно это противоречие, но он высказал мысль, что данный перечень является более поздней вставкой. За это он был назван «Ицхаком-путаником». Назвал его так Авраам Ибн Эзра, испанский раввин XII века. Он даже добавил, что книга Ибн Яхуша «заслуживает сожжения». Но тот же Ибн Эзра в своих собственных сочинениях намекнул, что в ТАНАХе имеются фразы, которые никак не могли принадлежать Моисею: упоминания о Моисее в третьем лице; описание мест, где он никогда не бывал, и событий, которые случились после его смерти, и так далее. Ибн Эзра, однако, был осторожнее Ибн Яхуша. Он просто написал: «Тот, кто понимает, будет хранить молчание». В XIV веке ученый из Дамаска Бонфилс впервые высказал вслух дерзкое предположение, призванное разъяснить все упомянутые загадки: «Они являются свидетельством того, что эти фразы вписаны в Тору позже и не Моисеем; скорее их вписал какой-то более поздний пророк». В XV веке епископ Тостатус, развивая эту мысль, предположил, что этим более поздним автором был Йегошуа Бин-Нун, преемник Моисея и первый еврейский завоеватель Ханаана. Но столетием позже немецкий ученый Карлштадт обратил внимание на то, что описание моисеевой смерти излагается точно в том же стиле и тем же языком, что и весь остальной текст. А это делало затруднительным приписать «добавки» кому-либо другому. Его современник, фламандский католик Андреас ван Маес, и два иезуита, Перейра и Бонфрер, попытались преодолеть эту трудность, выдвинув гипотезу, что Моисею принадлежал только исходный текст Торы, но до нас дошел текст, слегка измененный какими-то более поздними «редакторами», которые своими вставками и. исправлениями пытались сделать его более понятным читателям. Книги этих авторов были немедленно запрещены католической цензурой. На третьем этапе этой истории — в XVII веке — английский философ Томас Гоббс выдвинул еще более радикальное предположение: основная часть текста Торы вообще не принадлежит Моисею. Гоббс собрал множество аргументов в пользу этого своего тезиса и изложил их в специальной книге, которая получила широкую известность среди читателей. Одновременно аналогичный тезис выдвинул и французский протестант Перьер. Ему повезло меньше, чем Гоббсу, — его книга была конфискована и сожжена, а сам он был арестован и купил свободу только ценой отречения от своих слов и перехода в католицизм. Но вскоре к мнению Гоббса и Перьера присоединился также Спиноза, Мало того, что он систематизировал все противоречия, найденные в библейском тексте его предшественниками, — он добавил к ним новые наблюдения. Он, например, обратил внимание на фразу (Второзаконие 34:10): «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей», — которая явно была написана кем-то, жившим через много лет или даже столетий после Моисея. Как известно, Спиноза был отлучен от иудаизма, а его книги были осуждены не только еврейскими раввинами, но также католиками и протестантами. Однако все эти преследования не могли, конечно, остановить пытливую мысль, и уже вскоре после осуждения трудов Спинозы французский католический священник Ришар Симон выступил со своей версией происхождения Торы — самой радикальной из всех, предлагавшихся до тех пор. Спиноза был первым, кто показал, что логические и композиционные несообразности в Торе представляют собой не изолированные, худо-бедно объяснимые противоречия, а систематическую особенность всего текста. На этом основании он предположил, что текст этот принадлежит не Моисею, а более поздним авторам, которые имели в своем распоряжении несколько старинных источников. Эта идея получила дальнейшее развитие у трех авторов следующего века — немецкого священника Виттера, французского врача Астрюка и немецкого историка Эйхгорна. Их книги сосредотачивались главным образом на анализе так называемых библейских дублетов. Под таким названием среди специалистов известны те места Торы, которые рассказываются в ней дважды. Таких эпизодов особенно много в ее первых книгах. Процесс Сотворения мира, история Потопа, заключение Богом завета с Авраамом, объяснение имени Ицхака, объявление Авраамом своей жены Сары сестрой, путешествие Яакова в Месопотамию, откровение Яакову. возле Бейт-Эля и изменение его имени На Исраэль, эпизод высекания Моисеем воды из скалы — все это и многое другое излагается в Торе в двух версиях, детали которых зачастую противоречат друг другу. Богословы — раввины и священники — не могли пройти мимо этих противоречий. Поэтому они объявили их мнимыми. Две версии дублета, разъясняли они, не противоречат, а дополняют друг друга. Тем самым они преподносят верующему более глубокий урок. Исследователи Библии не были удовлетворены этими разъяснениями. Они обратили внимание на странную закономерность. В большинстве дублетов различия между составляющими их версиями весьма устойчивы. Говоря о Боге, одна версия всегда использует слово «Элогим», другая всегда пользуется обозначением «Ягве». Вспомним, например, рассказ о Потопе. В шестой главе книги Бытия (Берешит) пятый стих открывается словами: «И увидел Ягве…», шестой: «И раскаялся Ягве…», седьмой: «И сказал Ягве…», восьмой заканчивается словами: «Перед очами Ягве». Но в стихе девятом уже говорится, что «…Ной ходил перед Элогим». Этот стих открывает длинный ряд других, до самого конца главы, в которых Бог именуется исключительно словом «Элогим». В них подробно излагается, какой ковчег «Элогим» повелел Ною построить и каких тварей в него взять: «…от всякой плоти по паре». После чего «сделал Ной все, как повелел ему Элогим». Однако следующая глава немедленно открывается повторением: «И сказал Ягве (!) Ною… всякого скота чистого (т. е. пригодного для жертвы. — Р.Н.) возьми по семи (!) пар…» Этот повтор продолжается вплоть до пятого стиха, где снова говорится, что «…сделал Ной все, что Ягве повелел ему», — после чего начинается отрывок, в котором Бог опять начинает именоваться словом «Элогим». Такие отрывки, повторяющие друг друга в разных выражениях и с разным наименованием Бога, чередуются вплоть до конца рассказа. Примем как гипотезу, что история Потопа — это искусная комбинация двух различных рассказов. Продолжается ли каждый из них также и в последующем тексте? Оказывается, да. Если продолжить сопоставление дублетов, то нетрудно заметить, что почти все они содержат те же две версии, четко различающиеся наименованиями Бога. И вот что интересно: если собрать по порядку все те куски текста, в которых Бог именуется «Ягве», то образуется вполне связный рассказ, повествующий о событиях от Сотворения мира до Исхода из Египта. А если собрать все куски, в которых Бог именуется «Элогим», получится другой связный рассказ, повествующий о тех же (!) событиях — от Сотворения мира до Исхода из Египта, — но уже по-своему, со своей стилистикой и своими особыми приметами. Эти различия не сводятся только к разным наименованиям Бога. Оба рассказа отличаются и другими устойчивыми разночтениями. В одном коренные жители Ханаана всегда называются аморитами, в другом — хананеянами. Один всегда именует пустыню, в которой евреи скитались после исхода из Египта, Хоревской, другой — Синайской. В одном имя моисеева тестя — Итро, в другом — Ховав. И так далее. Заслуга Виттера, Астрюка и Эйхгорна состояла в том, что они первыми заметили этот удивительный факт. Независимо друг от друга они выдвинули гипотезу, что по крайней мере первые две книги Пятикнижия являются контаминацией двух разных древних источников. В соответствии с разным наименованием Бога в этих источниках первый из них получил название «Ягвист», а второй — «Элогист». Для краткости их часто обозначают первыми буквами соответствующих слов — J и E. Их различие состоит не только в разных наименованиях Бога и других деталях. Как уже сказано, они отличаются и чисто литературно. «Ягвист» намного более талантливый писатель, чем «Элогист». Вот как характеризует его современный историк Драйвер: «Ягвист рассказывает свою историю, удивительно точно взвешивая необходимое количество деталей; его рассказ никогда не бывает затянут и всегда держит читателя в напряжении до самого конца. Он пишет легко, без усилий, избегая вычурных красот. Элогист, рассказывающий, по существу, те же истории, обнаруживает куда меньшую литературную искушенность». Вы можете сами оценить справедливость этой характеристики, перечитав, например, рассказ «Ягвиста» о сотворении мира и человека. Он начинается со второй половины четвертого стиха 5-й главы книги Бытия («В то время, когда Ягве создал небо и землю…») и кончается 25-м стихом той же главы («И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились»). Совершенно иначе, суше и пространней, повествует о том же вся 1-я глава той же книги и три первых стиха главы 2-й. Забавно, что на переходе между этими двумя рассказами обнаруживается своеобразная «связка», призванная как-то замаскировать повтор (начало четвертого стиха: «Вот происхождения неба и земли, при сотворении их»). Она явно принадлежит тому человеку, который «сшивал» оба повествования воедино. Современные специалисты условно называют его. «редактором» (хотя в этой роли могли, конечно, выступать несколько людей). «Редактор» был, несомненно, выдающимся специалистом своего дела — его сшивки и вставки с первого взгляда почти незаметны, их обнаружение требует кропотливой работы. Занимаясь ею, исследователи библейского текста вскоре обнаружили еще одну странную особенность. Выделив рассказ E, они обнаружили, что внутри него имеются свои дублеты! Текст «Элогиста» оказался, в свою очередь, распадающимся на два различных текста! «Редактор» (или редакторы) явно дополнили рассказ E вставками из какого-то третьего источника. Этот неизвестный источник был выявлен, прежде всего, по его особому содержанию. Хотя автор этого источника тоже именует Бога неизменным словом «Элогим», но его текст отличается от текста «Элогиста» резко повышенным интересом к наставлениям, заповедям, религиозным предписаниям и деталям священнической службы. Эти вопросы он излагает с большой подробностью и какой-то поистине «канцелярской» сухостью. Создается впечатление, что этот автор был священником-левитом. Исследователи, обнаружившие этот третий источник, назвали его поэтому «Жреческим», сокращенно P — от английского слова Priest. Последующий анализ показал, что «Жрецу» принадлежит весьма значительная часть, что раньше считалось принадлежащим «Элогисту», а в сумме, по всем четырем первым книгам Торы, — самый большой объем их текста, превосходящий источники J и собственно E, вместе взятые. Особенно велика доля P в третьей и четвертой книгах — «Ваикра» (в славянском переводе Библии — Левит) и Бэмидбар (Числа). Но источник P обширно представлен также и в первых двух книгах — Бытие и Исход. Здесь ему принадлежат прежде всего генеалогии Адама, Ноя, Авраама и так далее. Эти генеалогии «Жрец» неизменно начинает излюбленным оборотом: «Эле толдот…» («Вот родословие…»). У него есть и другие излюбленные словосочетания и целые фразы. Он, например, предпочитает пользоваться словом «ани» («я») вместо «анохи», которым пользуется источник E. Если «Элогист» называет Месопотамию Арам-Нагараим, то Жрец именует ее Паддан-Арам. Ему же принадлежит знаменитое «пру урву» («плодитесь и размножайтесь»). Тот рассказ о сотворении мира и человека, который занимает всю первую и три начальных стиха второй главы книги Бытия, тоже взят из источника P (а не E, как думали раньше). Это довольно суховатый рассказ, в котором Бог сначала создает животных, а потом людей — мужчину и женщину одновременно. У «Ягвиста» это излагается куда ярче и увлекательней: сначала Бог создает Адама, потом решает, что «нехорошо человеку быть одному», и пытается дать ему «помощника, соответственного ему», создает для этого животных, видит, что «для человека не нашлось помощника, подобного ему», и только тогда решает создать Еву из адамова ребра. «Редактор» почему-то предпочел в данном случае просто изложить оба рассказа по отдельности, соединив их лишь упомянутой выше короткой связкой. В других случаях он обычно «прослаивает» один рассказ кусками второго или третьего. Замечательный пример этого редакторского искусства дает история Потопа. Эта история изложена в книге Бытия, от пятого стиха 6-й главы до двадцать второго стиха 8-й. Она скомбинирована из двух источников. Мы приведем ее здесь частично. Текст одного источника будет приведен без всяких помет, текст другого будет дан в отдельных абзацах и отмечен скобками. Итак: «И увидел Ягве, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Ягве, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем. И сказал Ягве: истреблю с лица Земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Ягве. (Вот родословие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем: Ной ходил перед Элогим. Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Йафета. Но земля растлилась перед лицем Элогим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Элогим на землю… и сказал Элогим Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег… и введи также в ковчег из всякого скота… по паре… И сделал Ной все; как повелел ему Элогим, так он и сделал.) И сказал Ягве Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя Я увидел праведным предо Мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи пар… а из скота нечистого по две… Ной сделал все, что Ягве повелел ему. (Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю.) И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов их в ковчег от вод потопа. (И из птиц чистых и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся на земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Элогим повелел Ною.) Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. (В шестисотый год жизни ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день, разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей). (В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Йафет, сыновья Ноевы, и жена ноева, и три жены сынов его с ними… и все звери земли по роду их… И затворил Элогим за ним ковчег.) И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей… (…Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней.)» Думается, что и приведенного отрывка достаточно, чтобы сложить из двух его версий два отчетливо разных рассказа, каждый со своими подробностями, своими стилевыми особенностями и даже своей хронологией Потопа. Как читатель уже, наверное, догадался, первый рассказ принадлежит «Ягвисту», второй — «Жрецу». Эти два источника чередуются в книге Бытия и дальше. Собственно «Элогист» впервые появляется в ней только начиная с 20-й главы. Но сложности библейского текста не исчерпываются одним лишь наличием и взаимным проникновением этих трех источников. В середине XIX века немецкий ученый де Ветте опубликовал работу, в которой излагалась еще более революционная гипотеза. Детально изучив текстовые и лингвистические особенности пятой книги Торы, «Дварим» (в славянской Библии — Второзаконие), он пришел к выводу, что она резко отличается от первых четырех. В ней почти нет следов трех древнейших источников — J, E и Р, если не считать нескольких фраз в последних главах. Она написана совершенно иным языком. Ее лексика специфична. Ее автор пользуется иными излюбленными оборотами и повторяющимися фразами. Он заново рассказывает многие эпизоды, уже рассказанные в первых четырех книгах. С другой стороны, он во многом противоречит этим книгам. Даже некоторые формулировки Десяти Заповедей у него иные. Де Ветте выдвинул гипотезу, что Второзаконие представляет собой совершенно отдельный — четвертый — источник Торы. Он обозначил его буквой D (от Deuteronomion — названия книги в греческой Библии, что и означает «Второзаконие»). Итак, у Торы оказался не один автор, а целых четыре! Ее первые четыре книги представляют собой переплетение рассказов трех авторов — «Ягвиста» (J), «Элогиста» (Е) и «Жреца» (Р). Ее последняя книга — Дварим, или Второзаконие — написана четвертым автором (который условно обозначается буквой D). Все эти источники были объединены и связаны друг с другом неким «редактором» или несколькими редакторами, жившими намного позднее. Это утверждение, конечно, не является абсолютной истиной. Это всего лишь научная гипотеза. Но она основывается на множестве конкретных фактов и объясняет многие особенности текста ТАНАХа. Для того, чтобы её опровергнуть, нужно предложить другую гипотезу, которая согласовывалась бы с теми же фактами, но давала им другое объяснение. Пока что такую альтернативу не предложил никто. Исследователи, выступающие против «гипотезы четырех источников» (например, Кассуто или Кауфман), оспаривают ее отдельные положения, но не сам факт наличия в Торе нескольких различных рассказов. Однако гипотеза четырех источников далеко не исчерпывает всех проблем происхождения Торы. Она не отвечает на важнейший вопрос: кто был автором каждого из этих источников и когда они были написаны. Подчеркнем это слово — «написаны». Многие величайшие произведения древности имеют устную предысторию. Древнегреческие мифы столетиями передавались из уст в уста, прежде чем были записаны Гесиодом и Овидием. Та же судьба была и у поэмы о Гильгамеше. Можно думать, что рассказы «Ягвиста», «Элогиста» и «Жреца», составившие первые четыре книги Торы, тоже восходили к более древней устной традиции. Сказания о Сотворении мира, первых людях, Потопе, деяниях Праотцев и Исходе из Египта могли передаваться из одного поколения в другое, пока наконец «Ягвист», «Элогист» и «Жрец» не сложили из них связные рассказы — каждый по-своему, но все — об одном и том же. Попытки обнаружить эти древнейшие слои составляют важнейшую часть поисков современных исследователей. На этом пути достигнуты интересные результаты. Многие исследователи, например, склоняются сегодня к мысли, что некоторые элементы этой древней устной традиции могли действительно восходить к Моисею. Одним из таких элементов был, по всей видимости, перечень Десяти Заповедей. Мы поговорим об этих новейших изысканиях позднее. Сейчас нас интересует авторство и время создания Пятикнижия в том виде, в котором оно до нас дошло. Первыми к этому вопросу подступились немецкие исследователи XIX века Граф и Ватке. Граф пытался ответить на него, исходя из логических и хронологических особенностей библейского текста. Если какой-то из источников рассказывает о более поздних событиях, то он, очевидно, создан позже. Ему удалось найти ряд таких «ориентиров». Это позволило ему предложить возможную датировку всех четырех источников. По Графу, самыми древними были E и J; несколько более молодым — D; а самым поздним — P. Ватке, в отличие от Графа, датировал те же источники на основании их религиозных особенностей. Он исходил из представления, что иудаизм развивался от обожествления сил природы в сторону «духовно-этической» религии, а затем превратился в «священнический культ». Отыскав в каждом источнике приметы той или иной стадии такой эволюции, он пришел к выводу, что первыми возникли источники E и J, затем — D и последним — P. Эти работы были обобщены и продолжены крупнейшим библиеведом XIX века Юлиусом Вельхаузеном. В своих «Пролегоменах к истории Израиля» Вельхаузен свел воедино все найденные предшественниками доказательства гипотезы четырех источников и предложил собственный, более детальный и конкретный вариант их датировки. Он выдвинул предположение, что источники J и E сложились в эпоху, непосредственно предшествовавшую царствованию Саула и Давида; D был создан во времена царя Йошиягу, то есть незадолго до разрушения Первого храма; а P — уже после возвращения евреев из Вавилонского плена. Это предположение Вельхаузен подкрепил огромным множеством аргументов, учитывавших всю совокупность тогдашних знаний об истории древних евреев и эволюции их религии. Столь мощное обоснование позволило его теории продержаться несколько десятилетий, вплоть до середины XX века. Но сегодня она представляется во многом устарелой. Новые археологические и исторические данные привели к появлению более детальных и убедительных гипотез. Они реконструируют историю становления Торы, исходя из современных представлений о том мире, в котором она возникла. Эти представления помогают понять, когда и как это происходило. Сказанное означает, что для того, чтобы ответить на вопрос, кто написал ТАНАХ, нужно, прежде всего, отчетливо представить себе мир, его породивший. Попробуем воссоздать этот мир! Конечно, мы не будем пытаться воскресить здесь всю древнееврейскую историю. Ограничимся лишь теми фактами, которые необходимы для нашей цели. После смерти Моисея евреи, руководимые Йегошуа бин-Нуном, вторглись с востока в Ханаан и расселились здесь среди местных племен, отвоевав себе холмистое плоскогорье, тянувшееся с севера на юг, через Шхем и Хеврон. На западе их соседями были владевшие побережьем филистимляне и, чуть севернее, финикийцы; на севере их земли граничили с Сирией, на юге — с Эдомом. Весь этот регион в целом был зажат между двумя тогдашними сверхдержавами — Ассирией и Египтом. Евреи того времени жили в деревнях и небольших городах, занимаясь в основном земледелием и скотоводством, частично — ремеслом и торговлей. Они разделялись на 12 племен, или колен, каждое из которых владело собственной небольшой территорией. Тринадцатым было колено Леви, не имевшее собственного земельного надела, — его члены жили в городах других колен и, по традиции, составляли группу жрецов (или священников). Каждое колено имело собственных лидеров, которые в ту пору именовались «судьями». Во времена военной опасности они часто становились военачальниками своего колена. Кроме священников и судей (часто в одном лице), заметную роль в тогдашнем еврейском обществе играли еще и пророки («невиим»), вещавшие от имени Бога евреев. Этим Богом был Ягве. В некоторых отношениях он напоминал богов соседних с евреями ханаанейских племен. Эти племена были языческими. Пантеон их богов возглавлял Эль — верховный владыка, божество мужского пола. Эль не отождествлялся с какой-либо природной силой — он восседал во главе совета богов и объявлял их решения. Ягве тоже не отождествлялся с природными силами; но он не был и главой божественного пантеона. Его принципиальное отличие состояло в том, что Он был Один и представлял собой скорее Бога истории, которая, по убеждению евреев, развертывалась в соответствии с Его намерениями. Эпоха Судей завершилась во времена Самуила (Шмуэля). Самуил был одновременно судьей, священником и пророком. Он жил в городе Шило, который был тогда главным религиозным центром всех еврейских колен. Здесь хранилась так называемая «Скиния Завета», где находился Ковчег, внутри которого, как утверждала традиция, находились моисеевы скрижали с высеченными на них Десятью Заповедями. Религиозные церемонии в Шило отправляли священники, которые возводили свою родословную к самому Моисею. Во времена Самуила еврейские колена подверглись сильнейшему натиску филистимлян. Отразить этот натиск можно было только объединенными усилиями, и Самуил, уступая «воле народа», провозгласил полководца Саула первым общеизраильским царем. Так эпоха Судей сменилась эпохой Царей. Но израильская монархия не была абсолютной. Власть царя ограничивалась и уравновешивалась авторитетом священников и пророков. Царь нуждался в их поддержке и одобрении, поскольку религия в ту пору не была отделена от государственной власти. Она вообще не была отделена от всей жизни — в тогдашнем иврите еще не было даже особого слова для «религии». Авторитет Самуила был так велик, что когда Саул нарушил его предписания, пророк низложил его от имени Господа и помазал на царство Давида. А Саул вскоре пал в битве с филистимлянами. В отличие от Саула, принадлежавшего к колену Биньямина, Давид был родом из колена Йегуды. Это самое южное из израильских колен владело самой большой территорией, а воцарение Давида еще более усилило его роль. Давид понимал, что это может восстановить против него северные колена. Он не хотел также раздражать священников Шило во главе с Самуилом, которые оказали ему поддержку в борьбе с Саулом. Поэтому он предпринял ряд искусных шагов для упрочения единства своего царства. Он перенес свою столицу из Хеврона, который был главным городом колена Йегуды, в завоеванный у ханаанейского племени иевуситов Иерусалим. Этот город не принадлежал ни одному из колен, и его возвышение не могло никого обидеть. Сюда же он перенес и Ковчег Завета. Вторым шагом Давида было назначение сразу двух главных священников — одного с юга, другого — с севера. Представителем Йегуды был главный священник Хеврона Цадок; интересы северных колен представлял один из жрецов Шило — Авиатар. Заметим, что первосвященники Хеврона вели свою родословную не от Моисея, как жрецы Шило, а от Аарона, его брата. Назначение двух первосвященников было не только данью двум частям Давидова царства, северной и южной, но и своего рода религиозным компромиссом между двумя древними священническими традициями — Моисеевой и Аароновой. Наконец, Давид создал постоянную профессиональную армию, которая подчинялась только ему и делала его независимым от военачальников отдельных колен. С помощью этой армии он добился значительных военных успехов — завоевал Эдом, Моав, Аммон, часть Сирии и подчинил своей гегемонии Филистию. В результате он создал империю, простиравшуюся от Нила до Евфрата. Давид стал родоначальником одной из самых долговечных в истории династий. Евреи настолько привыкли к царям «из рода Давидова», что впоследствии приписали это происхождение даже мессии (а христиане — Христу). Давид вообще занимает особое место в еврейской истории, сравнимое разве что с местом Моисея. ТАНАХ отводит ему почти такой же объем текста. Судя по этому тексту, Давид был действительно выдающейся личностью — замечательным полководцем, мудрым государственным деятелем, талантливым певцом, музыкантом и стихотворцем. Выдающейся личностью был и его преемник Соломон. Но между ними была одна существенная разница. В то время как Давид делал все для объединения своего царства, Соломон посеял семена его распада. Именно этот распад, как считают современные исследователи, как раз. и стал толчком к созданию первых библейских книг. Сейчас мы поймем, кто именно, когда и почему их создал. Длительное правление Соломона (965–928 гг. до н. э.) стало кульминационным пунктом в истории единого древнееврейского государства. Оно оставило глубокий след не только в еврейской памяти. Арабский фольклор тоже до сих пор хранит многочисленные легенды и предания о великом «царе Сулеймане ибн Дауде» (мир с ними обоими!). Но в это же время были заложены предпосылки для распада государства евреев. Этот распад, по мнению современных исследователей, как раз и подготовил почву для возникновения первых книг ТАНАХа. Поэтому поговорим сначала об истории этого времени. Важнейший вклад в изучение политической истории Соломонова царства внес американский библиевед (тогда еще выпускник Гарвардского университета) Барух Гальперин. Его работа была продолжена другим американским еврейским исследователем — Ричардом Фридманом. Результаты их работы, основанные на тщательном изучении библейских источников, а также исторических и археологических материалов, позволяют восстановить детальную картину интересующих нас событий. Мы выберем из них лишь самые необходимые. Соломон продолжил политику централизации монархии, начатую его отцом Давидом. Еще до восшествия на престол ему пришлось выдержать борьбу с одним из старших сыновей Давида Адонией, которого поддерживал первосвященник из Шило Авиатар. На стороне Соломона в этой борьбе был второй Давидов первосвященник — Цадок из Хеврона. Победив Адонию, Соломон изгнал Авиатара из столицы. Вместе с Авиатаром впали в немилость и все другие священники из северных областей царства, которые возводили свою родословную к Моисею. Главной опорой Соломона стали священники из колена Йегуды, потомки Аарона, во главе с Цадоком. Этот передел священнической власти оказал важное влияние на последующие события. Еще более важным шагом на пути к централизации власти было строительство Иерусалимского Храма. Соломон построил его с помощью финикийского царя Хирама. За это он отдал ему двадцать городов в Галилее, то есть северных областей царства. Утрата галилейских городов нанесла еще один удар по интересам северных колен. Еще более серьезным ударом стала для них проведенная Соломоном административная реформа. Вместо древнего деления страны на уделы двенадцати колен Соломон ввел разделение на 12 новых округов, границы которых не совпадали с традиционными уделами. Каждый из этих округов насчитывал около 50–60 тысяч человек и был обложен своей податью, предназначенной на покрытие расходов по строительству Храма. Распределение этих податей было неравномерным: самыми тяжелыми были поборы с северных округов. Кроме того, Соломон впервые ввел систему постоянных налогов или «мисим». Как подсчитал историк Олбрайт, каждый округ в среднем должен был сдавать в царскую казну почти 10 тонн зерна, 900 быков и 3000 овец в год. Но опять-таки, послабления были сделаны для округов, населенных коленами Йегуды и Биньямина, а главная тяжесть налогов легла на северные колена. Эта несправедливость вызвала глухое брожение на севере царства. Свидетельством этого недовольства может служить следующий показательный факт: когда, после смерти Соломона, в северных округах вспыхнуло восстание, первым царским чиновником, которого убили восставшие, был сборщик «мисим». Стоит отметить и другой важный факт: глашатаем восстания был пророк Ахия а-Шилони, представитель униженного царем священничества из Шило. Восстание началось после того, как преемник Соломона Рехаваам отказался отменить повинности, возложенные его отцом на северные колена. Во главе восставших встал Йороваам из колена Эфраима. Как свидетельствует 3-я книга Царств (12:16), восставшие выдвинули лозунг «Нет нам доли в сыне Ишая (то есть у Давида. — Р.Н.) По шатрам своим, Израиль!» Результатом восстания было отпадение десяти северных колен от царства Давида — Соломона и образование ими особого, северного — Израильского — царства, на власть в котором Ахия помазал Йороваама. Власть Рехаваама оказалась ограниченной наделами колен Иуды и Биньямина, которые с этого времени стали называться Иудейским царством. Израиль был многолюднее Иудеи, но его население не было однородным: значительную его часть составляли ханаанские племена. Их религия была языческой, пантеон их богов — Элогим возглавлял Баал, сын Илу, родоначальника Элогим, и под влиянием хананеян поклонение Баалу, а также другие языческие обряды широко распространились также среди еврейского населения Израильского царства — куда шире, чем в Иудее, где монотеистическая вера в Ягве не имела таких примесей язычества. Эта политическая и религиозная неоднородность Израиля создавала неустойчивое положение, и Йороваам поспешил укрепить свою власть — как среди евреев, так и среди хананеян. Он провозгласил столицей царства город Шхем (во многом еще ханаанейский) и стал утверждать собственный вариант иудаизма, в котором традиционный для евреев культ Ягве сочетался с некоторыми чертами ханаанейских Элогим. Для этого Йороваам создал новые религиозные центры, установил новые даты праздников, назначил новых священников и ввел новые религиозные символы. Эта своеобразная, «израильская» версия общееврейской религии вводилась им, в частности, еще и для того, чтобы подданные его не должны были отправляться на праздники в Иерусалимский Храм — в царство Рехаваама. Новые религиозные центры были продуманно построены на северной и южной границах царства — в еврейском городе Дан и в ханаанейском (судя по названию) городе Бейт-Эль. Дата праздника Суккот была перенесена на месяц позже, чем в Иудее (что, кстати, опять же соответствовало древней северной традиции). И если в Иерусалимском Храме подножьем для незримо присутствующего в «святая святых» Ягве служили два позолоченных херувима (в виде четвероногих животных с человеческой головой и птичьими крыльями), то в храмах Бейт-Эля и Дана Господь незримо опирался на двух отлитых из золота молодых быков («тельцов»). Заметим, что это был также жест в сторону ханаанейских подданных Йороваама — их Эль-Баал обычно изображался в виде молодого бычка. Создавая для себя опору в виде новой религиозной знати, Йороваам руководствовался принципом «политических назначений» — он отобрал новых священников из лично преданных ему людей, а не из левитов Шило, считавших себя потомками Моисея. Эти левиты, из среды которых вышли такие люди, как Самуил, Авиатар и Ахия, помазавший Йороваама на царство, могли ожидать награды за свои заслуги перед Израилем; оттесненные в сторону новыми «назначенцами» царя, они, несомненно, ощутили себя жестоко ущемленными. Запомним и эту деталь — она нам вскоре пригодится. Пока же заключим: несмотря на все усилия Йороваама его царство осталось нестабильным. Ни одна из царских династий Израиля не продержалась дольше двух-трех поколений. Да и само Израильское царство просуществовало не более 200 лет. В 722 году до новой эры оно было разгромлено и покорено Ассирией. 23 тысячи человек были уведены в плен; остальные рассеялись; многие бежали в соседнюю Иудею. 10 северных колен прекратили свое существование. Иудейское царство продержалось еще свыше ста лет, непрерывно управлямое потомками Давида. Но в 586 году до н. э. пало и оно — на сей раз под натиском вавилонян. А теперь вернемся к созданию ТАНАХа. Сквозь первые четыре книги Торы (мы уже об этом говорили) струятся, то переплетаясь, то расходясь, два повествовательных потока — два рассказа, выдающие свои отличия многочисленными повторами, противоречиями и разночтениями. Они рассказывают об одних и тех же событиях: Сотворении Мира, первом Человеке и его сыновьях, о поколении Ноя и Потопе, о Праотцах и египетском рабстве, о Моисее, Исходе из рабства и даровании Торы — и это свидетельствует о наличии в их основе общей древней традиции, принадлежащей одному народу. Но каждый рассказ повествует об этих событиях несколько иначе, и эти различия оказываются устойчивыми сквозными приметами, позволяющими отделить один рассказ от другого. Главным таким различием обычно считают наименование Бога. Так, в одном лишь рассказе о сотворении мира одна версия 35 раз называет Бога словом «Элогим» — и ни разу не употребляет слово «Ягве»; другая 11 раз употребляет для этого слова «Ягве Господь» — и ни разу не прибегает к слову «Элогим». На этом основании эти рассказы приписываются двум разным авторам — «Элогисту» (Т) и «Ягвисту» (J). Но само по себе это обстоятельство еще не является решающим — современный израильский автор вполне мог бы в одних местах своей хроники нынешних событий называть премьера «Нетаниягу», а в других — «Биби». Однако две упомянутые версии Торы имеют и множество других отличий, не менее, а может быть, даже более показательных. В том же рассказе о Сотворении Мира одна версия перечисляет такой порядок создания живых существ: растения; животные; человек (мужчина и женщина), тогда как вторая утверждает, что порядок был иной: человек (мужчина); растения; животные; человек (женщина). Одна версия утверждает, что Ной взял в ковчег по паре всех живых существ, а другая говорит, что «чистых» существ было взято по семь пар. Одна версия различает между «чистыми» и «нечистыми» (непригодными для жертвы) животными; другая такого различия не проводит. Одна рассказывает, что Ной отправил на поиск суши ворона, другая называет голубя. В одной потоп продолжается год, в другой 40 дней и ночей. (Дж. Фрезер в своей книге «Фольклор в Ветхом Завете» уточняет, что в «Ягвистской» версии потоп продолжается 61 день, так как после прекращения ливней Ной проводит в ковчеге еще три недели, пока «земля не обсохла»; в версии же «Элогиста» рассказ о потопе, обработанный более поздним «Жрецом», утверждает, что наводнение и обсыхание суши длились 12 лунных месяцев и еще 10 дней, то есть в сумме 364 дня, что и составляет почти полный солнечный год; это многозначительное прибавление к лунному году 10 дней для получения солнечного свидетельствует, что во времена «Жреца» древние евреи уже научились исправлять ошибку лунного календаря, наблюдая за Солнцем.) Этот перечень можно было бы продолжать еще долго. Но главное уже очевидно. Оба рассказа не только различны, но и целостны в своем различии: каждый из них представляет собой не только обособленное, но и полное повествование, со своим наименованием и своей концепцией Бога, своими деталями, своим порядком событий и своей хронологией. В то же время, как уже сказано, оба они, вне всякого сомнения, принадлежат одному народу, древняя традиция которого сохранила общие воспоминания, общие легенды и сказания, общий тип религии и общий характер Закона. Таким образом, перед нами не столько два совершенно различных рассказа, сколько именно две версии единого национального эпоса. Напрашивается гипотеза, что они были созданы в двух частях одной и той же страны, населенной одним и тем же народом, сохранившим общую традицию, но разделенным обстоятельствами жизни и потому создавшим две версии одной и той же религии. И мы знаем, что в истории еврейского народа действительно был такой период, когда его земля была разделена на два царства, в каждом из которых создавалась и пестовалась своя, особая версия общенациональной религии, и если в одном из этих царств, Иудейском, строго сохранялся культ Ягве, централизованный в его столичном храме, то в другом, Израильском, этот культ был «разбавлен» заимствованиями из ханаанейского, язычески-антропоморфного культа Элогим. Поэтому наша гипотеза (разумеется, не наша собственная: она была впервые робко высказана уже первыми библиеведами, а впоследствии развита и обоснована современными исследователями), в сущности, сводится к предположению, что рассказ Ягвиста (или источник J) был создан в южном, или Иудейском, царстве, а рассказ Элогиста (или источник Т) — в северном, Израильском; объединение же этих версий в единый канонический текст Торы произошло, по всей видимости, в те времена, когда на территории древней Эрец-Исраэль оставалось уже только одно из этих царств (как известно, то была Иудея), то есть в период между завоеванием Израиля ассирийцами и захватом Иудеи вавилонянами. Сейчас мы увидим, что текст Торы подтверждает эту историческую гипотезу. Более того, текст этот дает возможность уточнить и время своего создания. В чем же состоят эти текстуальные подтверждения? Первым из них является различие некоторых географических особенностей. В рассказах «Ягвиста» праотец Авраам неизменно связывается с Хевроном. Хеврон был главным городом колена Йегуды, столицей Давида до завоевания Иерусалима, родиной первого главного священника Иудейского царства Цадока. Заключая завет с Авраамом, Бог (в данном случае Ягве) обещает его потомкам «землю от реки Египетской… до реки Евфрат» — а это именно те границы, до которых раздвинул свои владения Давид, основатель правящей династии Иудейского царства. Зато рассказ о том, как Некто (то ли сам Бог, то ли его ангел) боролся с праотцом Яаковом, благословил его и дал имя «Израиль», мы находим только у «Элогиста», как и должно быть, если этот источник родом из Израильского царства. В этом же источнике говорится, что «нарек Яаков имя месту тому: Пну-Эль, ибо, говорил он, я видел Элогим лицом к лицу» (Бытие 32:30); а Пну-Эль — это город, построенный Йероваамом в Израиле. Оба источника рассказывают о городе Шхеме (который Йороваам сделал столицей Израиля). При этом «Элогист» излагает историю его приобретения евреями следующим образом (Бытие 33:18–20): «Яаков, возвратившись из Месопотамии… пришел в город Шхем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, да котором раскинул шатер свой, у сынов Хамора, отца Шхемова, за сто монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Элогим». Напротив, «Ягвист» (рассказ которого начинается уже в следующем стихе) излагает ту же историю куда драматичнее и жестче (Бытие 34:1–31): «Шхем, сын Хамора, обесчестил дочь Яакова Дину и предложил жениться на ней, а сыны Яакова потребовали от него и всех шхемцев совершить обрезание и, воспользовавшись их недомоганием после операции, перебили их всех до единого и таким образом захватили этот город силой». Заметим, что инициаторами побоища были Шимон и Леви. Это тотчас отражается в еще одной — и принципиально важной для нас — особенности рассказа «Ягвиста». Речь идет о т. н. «пророческом благословении» Яакова своим сыновьям и внукам. Как известно, после завоевания Ханаана евреи расселились в нем двенадцатью коленами. Каждое из них выводило свою родословную от одного из потомков праотца Яакова. В рассказах Торы о рождении этих потомков, как правило, произносится благодарность Богу. В рассказе «Ягвиста» эта благодарность адресуется Ягве, в рассказе «Элогиста» — Элогим. Эпизоды Торы, в которых таким «адресатом» является Элогим, рассказывают о рождении Дана, Нафтали, Гада, Ашера, Иссахара, Звулона, Биньямина, Менаше и Эфраима (двое последних — сыновья Иосифа). Иными словами, вся группа «Элогим» называет имена лишь тех колен, которые составляли Израильское царство. Напротив, в рассказах, где воздается благодарность Ягве, говорится только о рождении Реувена, Шимона, Леви и Йегуды. Трое первых не получили собственных наделов (мы сейчас увидим, почему), причем колено Леви (левиты) рассеялось среди наделенных землею колен, и поэтому единственным сыном, получившим свою территорию, у «Ягвиста» оказывается Йегуда как и следует ожидать от источника, составленного в Иудейском царстве. Но «Ягвист» идет еще дальше: он пытается обосновать особую выделенность колена Йегуды. Такому обоснованию в тексте «Ягвиста» посвящен специальный эпизод (которого нет у «Элогиста»!) — уже упомянутое «пророческое благословение» Яакова. По древним обычаям, придававшим особое значение очередности рождения (вспомним борьбу за «первородство» между Ицхаком и Эсавом), наибольшую часть отцовского наследия (главное благословение) должен получить первый сын. Первенцем Яакова был Реувен. Но у «Ягвиста» Яаков на смертном одре говорит (Бытие 49:3–4): «Реувен, первенец мой!., ты… не будешь преимуществовать, ибо ты вошел на ложе отца твоего; ты осквернил постель мою» (иными словами, Реувен переспал с какой-то из отцовских наложниц). Казалось бы, теперь главное благословение должно перейти ко второму и третьему сыновьям: Шимону и Леви. Но «Ягвист» и этим сыновьям отказывает в таком преимуществе перед Йегудой; его Яаков продолжает (Бытие 49:5–7): «Шимон и Леви братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не внимет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа… проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа; разделю их… и рассею…» Иначе говоря, Шимон и Леви не получают наделов, потому что устроили побоище в Шхеме. В результате единственным (у «Ягвиста») достойным отцовского благословения остается Йегуда, и о нем Яаков у этого автора произносит знаменательные слова (Бытие 49:8): «Йегуда! тебя восхвалят братья твои… поклонятся тебе сыны отца твоего», что как раз и означает, в сущности, что все прочие потомки Яакова должны подчиниться главенству Йегуды, прародителя Давида и его династии, правившей в Иудейском царстве. Более того, «Ягвист» уже знает не только о воцарении этой династии, но и о ее будущем — далее Яаков говорит (Бытие 49:10): «Не отойдет скипетр от Йегуды и законодатель от чресл его…» (Этим «законодателем», скорее всего, является не сам Давид, а его преемник Соломон; как мы видели, именно он установил новое религиозное и административное законодательство). Итак, у «Ягвиста» первородство получает Йегуда — как и можно ожидать от автора, который выражает версию, сложившуюся в Иудее. Кто же получает первородство у «Элогиста»? В Торе рассказу «Ягвиста» о «пророческом благословении Яакова» (изложенному выше) предшествует рассказ о последних днях Яакова (Бытие 48:1–22), в котором Бог именуется только словом «Элогим». Рассказ этот, следовательно, принадлежит «Элогисту» — это его, «израильская», версия того же «благословения Яакова». Она решительно отличается от «иудейской» версии «Ягвиста». «Элогист» рассказывает, что к умирающему Яакову прибыл Иосиф со своими сыновьями Менаше и Биньямином, «и сказал Яаков Иосифу: Элогим явился мне в Лузе… и благословил меня и сказал: «…дам землю сию потомству твоему…» И ныне два сына твои, родившиеся в земле Египетской, мои они, Эфраим и Менаше, как Реувен и Шимон, будут мои… Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе…» Это поразительное благословение. По сути, «Элогист» утверждает, что Яаков приравнял Эфраима к Реувену, то есть к своему первенцу, и отдал ему удел Реувена. «Элогист» не просто сообщает об этом — опасаясь, что не все поймут его скрытый намек, он подчеркивает этот намек еще одной любопытной деталью, которую можно понять лишь в контексте самого намека: «И взял Иосиф Эфраима в правую руку свою против левой Израиля (т. е. Яакова. — Р.Н.), а Менаше в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Эфраима, хотя сей был меньший…» Иосиф, как бы говорит «Элогист», хотел, чтобы главное благословение деда получил, как и положено, первенец Менаше, но Яаков, в нарушение традиционного порядка, нарочно переменил руки и первым благословил Эфраима, тем самым именно ему отдав первородство Реувена; Иосиф пытался протестовать, но Яаков настоял на своем, сославшись на волю Элогим. По «Элогисту», таким образом, главным из еврейских колен является колено Эфраима. Теперь остается лишь напомнить, что колено Эфраима было родовым племенем ИЗРАИЛЬСКОГО царя Йороваама, и Шхем, столица ИЗРАИЛЬСКОГО царства, был расположен на холмах, находившихся в традиционном наделе этого же колена. Тот факт, что отец Эфраима, Иосиф, завещал похоронить себя в том же Шхеме, в уделе сына, думается, известен всем читателям. Упомянем поэтому только изящный — и полный смысла — каламбур, содержащийся в самом конце этого текста, где Яаков говорит через Иосифа его детям (Бытие 48:22): «Я даю тебе, преимущественно пред братьями твоими, один участок…» Этот каламбур совершенно исчезает в русском переводе Библии: в ивритском тексте («Берешит», мем-хет: кав-бет) здесь стоит: «…вэ-ани натати леха ШХЕМ ахад аль-ахиха…» «Шхем» здесь — и «преимущество» (от глагола «леашхим» — опережать), и название все той же израильской столицы. Все эти красноречивые разночтения убедительно свидетельствуют в пользу северного (израильского) происхождения «Элогиста» и южного (иудейского) происхождения «Ягвиста». К ним можно было бы добавить и другие примеры. У «Элогиста» самым главным и самым верным учеником Моисея является Йегошуа бин-Нун — из колена Эфраима; у «Ягвиста» единственным (из двенадцати посланных в Ханаан соглядатаев), который поощряет к походу, является Калев — из колена Йегуды, родоначальник будущих Калевитов, чьи земли в Иудее включали позднее город Хеврон. Каждый из двух этих авторов явно опирается на древние сказания, наиболее популярные в его земле, каждый стремится подчеркнуть заслуги и превосходство легендарных героев именно этой земли, каждый превозносит то племя (колено), которое дало начало правящей династии именно этого, а не другого царства. Иными словами, каждый из них отражает традицию одной из двух племенных групп, двух частей единой нации, на которые распался еврейский народ после возникновения Израильского и Иудейского царств. Одновременно каждый из авторов отражает политическую, социальную и религиозно-культовую реальность того царства, в котором он жил. Еще более пристальное чтение их рассказов дает нам возможность проникнуть в скрытые пласты той далекой реальности и понять, какие причины побудили обоих авторов к созданию этих текстов — со всеми теми знаменательными разночтениями, которые мы отметили выше. Такое чтение позволяет также обнаружить многозначительные и характерные черты самих рассказчиков и тем самым ощутить, в чем состояло их индивидуальное различие. Мы увидим все это, как только обратимся непосредственно к тексту. Гипотеза о том, что рассказ Пятикнижия, именующий Бога словом «Элогим», был составлен и записан в Израильском царстве, а рассказ «Ягвиста» — в Иудейском, выдвинута достаточно давно. Тогда же были предложены и те первые соображения в ее пользу, которые мы привели в предыдущей главе нашего сериала. В последние годы эти соображения были серьезно подкреплены уже упоминавшимся нами американским исследователем Ричардом Фридманом. Замечания Фридмана чрезвычайно любопытны и стоят отдельного рассказа. Они позволяют конкретизировать высказанную выше гипотезу. Свои рассуждения Фридман начинает с анализа загадочных особенностей «элогистского» рассказа о так называемом «золотом тельце». Рассказ этот выглядит у «Элогиста» следующим образом. Пока Моисей находился на горе Синай (получая от Бога начертанные им на скрижалях законы и заповеди), оставшийся внизу первосвященник Аарон собрал у людей золотые украшения и сделал из них «литого тельца». «И сказали люди: вот Элогим твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской». Аарон же провозгласил: «Завтра праздник Ягве». Назавтра действительно состоялся бурный праздник, в разгар которого в лагерь спустился Моисей. Его встретил верный Йегошуа Бин-Нун, который предупредил вождя, что в «стане слышен военный крик». Увидев, что евреи вернулись к идолопоклонству, Моисей в гневе разбил скрижали, уничтожил тельца и собрал вокруг себя колено Леви. Левиты организовали в лагере кровавую «чистку», в ходе которой было уничтожено около трех тысяч человек. Моисей же, со своей стороны, умолил благосклонного к нему Бога не губить «жестоковыйный» народ Израиля. Этот рассказ вызывает ряд вопросов. Почему народ впадает в ересь как раз в момент своего освобождения? Почему инициатором этой ереси оказывается Аарон — ведь он первосвященник Господа? Почему они называют золотого тельца «Элогим», а Аарон говорит о «празднике Ягве»? Почему на роль орудия наказания еретиков выбраны левиты? Почему Йегошуа Бин-Нун упоминается среди тех, кто не поддался ереси? Фридман предлагает убедительное объяснение всех этих загадок. Оно кажется тем более убедительным, что не требует никаких дополнительных гипотез, кроме той, что «Элогист» жил и писал в Израильском царстве. Действительно, вспомним особенности становления этого царства (о них тоже было рассказано в предыдущей главе). Основатель царства, Йороваам сразу же начал утверждать собственную версию культа Ягве. И первым же его шагом, сразу после освобождения от власти Иерусалима, было как раз создание двух храмов, в Дане и Бейт-Эле, в каждом из которых Бог (Элогим) незримо восседал на двух отлитых из золота «тельцах» (молодых быках). Таким образом, рассказ о «золотом тельце» в «элогистской» версии книги Исхода несет в себе все черты того, что в действительности происходило в Израильском царстве: сразу же после освобождения (от власти потомков Соломона) народ впал в религиозную ересь. Рассказ «Элогиста» о золотом тельце в действительности является замаскированным осуждением этой ереси. Автор этого рассказа искусно использовал одну из традиционных легенд своего народа, чтобы выразить свое отношение к религиозной реформе Йороваама. Понятно, что таким автором мог быть, скорее всего, человек, которого живо интересовало то, что происходило именно в Израильском царстве. Этот специфический интерес обнаруживается и во многих других местах «элогистского», текста. Мы уже рассказывали о том, как настойчиво «Элогист» подчеркивает роль колена Эфраима, к которому принадлежала правившая в Израильском царстве династия, как часто он упоминает Шхем, который был столицей этого царства (и находился на территории того же колена Эфраима), как много внимания уделяет Иосифу, отцу Эфраима, похороненному в том же Шхеме, как подробно описывает передачу Яаковом «первородства» от Реувена к Эфраиму, с какой ненавистью относится к введенным Соломоном налогам («мисим»), особенно сильно ударившим именно по коленам, составившим впоследствии Израильское царство. Теперь к этому перечню добавляется и благосклонное упоминание Йегошуа Бин-Нуна в рассказе «Элогиста» о золотом тельце — ведь Йегошуа тоже был родом из колена Эфраима и его могила тоже находилась в Шхеме! Все это вместе окончательно убеждает, что автором «элогистского» текста, скорее всего, действительно был житель Израильского царства. Нельзя ли его опознать? Фридман утверждает, что это отчасти возможно. Он выдвигает предположение, что этим автором был один из левитов города Шило — прежней (до Иерусалима) религиозной столицы еврейских колен. И вот как он это доказывает. При царе Давиде жрецы Шило чрезвычайно возвысились — из их круга вышел пророк Самуил, помазавший Давида в противовес Саулу; из их числа был и Авиатар, объявленный Давидом вторым иерусалимским первосвященником (наравне с Цадоком из Давидова Хеврона). При Соломоне, однако, жрецы Шило получили сильный удар: Авиатар был смещен со своего поста и изгнан из Иерусалима, и в результате левиты Шило потеряли свои места в иерусалимском Храме. Неудивительно, что они стали поддерживать сепаратистские стремления Йороваама — напомним, что инициатором восстания северных колен под руководством Йороваама был жрец из Шило, пророк Ахия. Сыграв такую роль в создании независимого Израильского царства, левиты Шило, несомненно, рассчитывали на благодарность Йороваама, но они ее не получили. Напротив, Йороваам перенес религиозный центр своего царства в Дан и Бейт-Эль, создал там новые храмы (с золотыми тельцами как подножьями незримого бога), а жрецами в этих храмах назначил не левитов Шило, а «лично знакомых ему» людей. Как было не намекнуть царю и народу на несправедливость такой политики? Как было не напомнить о заслугах левитов Шило? Как было не осудить религиозные реформы Йороваама, пусть и в замаскированной форме рассказа о золотом тельце? Более того, намекая современникам, о чем в действительности этот рассказ, автор ввел в него (для облегчения расшифровки) прямую цитату из речи Йороваама. Загадочная фраза поклонников золотого тельца «Это Элогим твой, Израиль» дословно повторяет слова Йороваама в Первой книге Царств, произнесенные им в момент освящения золотых тельцов Дана и Бейт-Эля. Но «Элогист» преследует своим рассказом и другие, уже чисто клановые цели. В этом рассказе снова и снова прославляется Моисей, спасший народ от гнева Господня, — а ведь левиты Шило вели свою родословную именно от Моисея. Есть в нем и другие примечательные детали. Как мы помним, инициатором ереси у «Элогиста» оказывается Аарон. На первый взгляд, странно, что главным еретиком объявляется первосвященник. Но если вспомнить, что левиты Шило наверняка ненавидели иерусалимского первосвященника Цадока, в пользу которого Соломон изгнал «их» Авиатара, а Цадок (как и другие левиты Хеврона) вел свою родословную от Аарона, то все становится на свои места: приписав Аарону зарождение ереси, «Элогист» заодно свел давние счеты со своими конкурентами из иудейского Иерусалима. Напротив, в той версии тех же синайских событий, которую излагает «Ягвист», нет ни слова о неприглядных поступках Аарона. Более того, у него вообще нет истории с золотым тельцом. Зато у него мы находим неприкрытый выпад против жрецов из Израильского царства — его вариант одной из главных заповедей гласит: «Не делайте себе богов литых» (Исход 34:17) — а ведь именно литые «боги» (точнее — подножья Бога) стояли в храмах Дана и Бейт-Эля. (У «Элогиста» та же заповедь звучит иначе: «Не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых» (Исход 20:23), что обращено не только против Йороваама, но и против Соломона, в Храме которого служившие аналогичными подножьями Бога херувимы были хотя и не «литыми», но позолоченными.) Эта религиозная распря вообще является одной из главных линий различия между двумя источниками. «Ягвист», например, превозносит важность Ковчега Завета, который был центральным и самым священным объектом Иерусалимского Храма, но даже не упоминает о Скинии Завета, сооруженной Моисеем; «Элогист», напротив, совершенно не упоминает о Ковчеге, зато подробно описывает устройство Скинии, перенесенной из Синая в Шило. «Ягвист» всячески превозносит Аарона; «Элогист» продолжает свои нападки на него, рассказывая в 12-й главе Книги Чисел историю о том, как Аарон и его сестра Мириам упрекали Моисея за то, что он взял себе в жены «Эфиоплянку», и как Господь разгневался за это на них и даже наказывает Мириам временной проказой (у «Ягвиста», понятно, нет и следов этого эпизода). «Ягвист» сообщает, что Бог сказал Моисею: «Я… иду вывести [народ мой] из земли сей [из Египта]» (Исход 3:8), тогда как у «Элогиста» Господь освобождает народ не сам, а поручает это Моисею: «Итак, пойди… и выведи из Египта народ мой» (Исход 3:10). Это разное отношение обоих авторов к Моисею и Аарону проявляется и еще в одном важном эпизоде — встрече Моисея с Богом у «несгораемого тернового куста», когда Бог открыл Моисею свое Имя. До сих пор мы для простоты говорили, что двух наших авторов отличают прежде всего различные наименования Бога, поэтому они так и называются: «Ягвист» и «Элогист». На самом деле это не вполне точно. В рассказе «Ягвиста» имя Ягве действительно проходит через весь текст от начала до конца. Но у «Элогиста» Бог называется «Элогим» только до Его встречи с Моисеем. А во время этой встречи, говорит «Элогист» (Исход 3:13–14): ««…сказал Моисей Элогим: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Элогим отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «Как Ему имя?» Что сказать мне им? И сказал Элогим: Я есмь Сущий /Ягве/» — или, на иврите, «эхье ашер эхье» («Я есть [пребуду], кто Я есть [пребуду]»). И далее: «Так скажи сынам Израилевым: Ягве [ «эхье»] Элогим послал меня к вам». С этого момента и далее Бог в рассказе «Элогиста» именуется Ягве-Элогим (или даже просто Ягве, как, например, в рассказе о золотом тельце, когда Аарон сразу же после «людей», только что называвших тельца словом «Элогим», говорит, указывая на того же тельца: «Завтра праздник Ягве». Этой постепенной смены имен еврейского Бога — Элогим, затем Ягве-Элогим и, наконец, просто Ягве — нет у «Ягвиста». У него вообще нет истории открытия Богом своего Имени Моисею. Как мы уже сказали, «Ягвист» не очень жалует Моисея. Если бы в нашем распоряжении была только его версия, роль Моисея в еврейской истории, возможно, вообще выглядела бы совершенно иначе. Для «Элогиста», напротив, Моисей — центральный персонаж этой истории. Бог к нему благосклонен больше, чем к кому-либо другому, включая Аарона, Бог посылает его вывести евреев из Египта, Бог именно ему открывает свое Имя. «Элогисту» важно подчеркнуть, что только со времен Моисея евреи узнали настоящее имя Господа. Но он допускает, что до этого времени Бога называли Элогим. Иными словами, он снова отдает дань традиции Израильского царства, где многие евреи под влиянием местных ханаанейцев поклонялись одновременно Ягве и Баалу (даже царь Йороваам, как мы видели, поставил у подножия Ягве «литых тельцов», то есть молодых быков, которые в ханаанской мифологии были символами Баала). «Ягвист», как мы видели, не знает всех этих уступок — для него Ягве есть Ягве, и свое Имя он впервые открыл евреям не через Моисея, а еще через праотца Авраама. Знаменательно, однако, что оба автора, в конечном счете, одинаково преданны одному и тому же Богу — еврейскому Ягве. Это говорит об их глубоком религиозном сходстве. Оба одинаково нетерпимы к ереси идолопоклонства и отступления от монотеизма, В сущности, их религиозные различия состоят лишь в том, что один старается возвысить Моисея и исподтишка бросить тень на Аарона, тогда как другой довольно мало и сухо говорит о Моисее, но Аарона в обиду дать не хочет; один осуждает иерусалимских золоченых херувимов, а другой — израильских «литых богов». Каждый использует для этого общую древнюю традицию, выбирая из нее удобные для его целей детали и опуская неудобные; но важнейшие, основополагающие элементы этой традиции (сотворение мира, потоп, история праотцев, исход из Египта) сохраняют оба. Особенно тщательно оба сохраняют — и особенно детально излагают — все, что относится к закону и заповедям. Это позволяет думать, что оба они — из сословия жрецов. И если верно предположение, что «Элогистом» был человек из Израильского царства, жрец из города Шило, считавший себя потомком Моисея, то следует, видимо, по аналогии предположить, что «Ягвистом» был (судя по всему, что мы теперь о нем знаем) человек из Иудейского царства, священник из рода хевронских жрецов, которые вели свою родословную от Аарона. Два левита — случайно ли это? Некоторые исследователи предлагают этому факту любопытное объяснение. Они выдвигают предположение, что основная масса еврейских колен так и осталась в Ханаане со времен праотцев, а в Египет ушло и там попало в рабство только колено Леви. Они основывают это предположение на том, что именно среди этого колена часто встречаются египетские имена типа Моше, Хофни и т. п. Возможно, они-то и создали культ Ягве и стали его истовыми поклонниками. Когда эти левиты вышли из Египта и, ведомые Моисеем и Аароном, устремились в Ханаан, то здесь они встретились со своими сородичами — поклонниками Элогим, уже поделившими между собой всю землю. В компенсацию за отсутствие территории они были сделаны жреческим сословием и в этом качестве стали утверждать среди остальных еврейских колен свой культ Ягве и его бескомпромиссно-суровый монотеизм. Это предположение подкрепляет выдвинутую выше гипотезу о том, что авторами первых записанных текстов Пятикнижия были, скорее всего, два Священника-левита, один («Ягвист») — из южного Иудейского царства, другой («Элогист») — из северного Израильского. В свою очередь, такая гипотеза объясняет, как мы видели, причину и характер сходств и различий обоих текстов. Но ни это предположение, ни упомянутая гипотеза еще не дают нам ответа на вопрос о том, когда жили эти люди. Кто из них был первым по времени автором, а кто вторым? Кто и когда объединил их тексты? Зачем это было сделано? И почему именно так, как мы сейчас видим, а не иначе? Чтобы ответить и на эти вопросы, нужно проделать еще один виток историко-детективного расследования. Поскольку Израильское царство было разрушено уже в 722 г. до н. э., «Элогист» жил, по-видимому, раньше этой даты. Его очевидный гнев против Йороваама как будто свидетельствует о том, что он писал во времена этого царя или вскоре после него, когда воспоминания о религиозных реформах Йороваама и разочарование в нем были еще свежи среди левитов Шило. Текст «Ягвиста» тоже не мог быть написан позже 722 г. до н. э. — в нем рассказывается о рассеянии колен Шимона и Леви, но ни словом не упоминается о таком важнейшем для евреев Иудейского царства событии, как падение соседнего Израильского царства и уведение в плен десяти северных колен. С другой стороны, в нем имеются нападки на религиозные реформы Йороваама («литые боги»); стало быть, автор уже знал об этих реформах, то есть жил после образования независимого Израильского царства, иными словами — позже 922 г. до н. э. Этот промежуток можно сузить, если обратить внимание на тот факт, что в рассказе «Ягвиста» излагается история Яакова и Эсава, причем последний назван родоначальником эдомитов. Эдом отделился от Иудеи и стал независимым Эдемским царством только при потомке Соломона, иудейском царе Иероаме, который правил между 848 и 842 гг. до н. э., и, стало быть, создание текста «Ягвиста» можно отнести к промежутку 848–722 гг. до н. э. Текст «Элогиста» датировать точнее невозможно — для этого в нем пока не найдено никаких дополнительных примет. Время его написания остается в промежутке между 922 г. до н. э. (когда распалось царство Соломона) и 722-м, когда пало Израильское царство. Существенно, что оба рассказа, при всех своих различиях, основаны на одних и тех же традициях (культ Ягве), упоминают, в общем-то, одни и те же события израильского прошлого (сотворение мира, потоп, приход евреев в Ханаан, исход из Египта) и повествуют об одних и тех же героях (праотцы, Иосиф, Моисей, Аарон). Это неудивительно. Оба они были созданы представителями одного и того же еврейского народа, говорившего на общем языке (иврите), поклонявшегося одному Богу (Ягве) и имевшего общие религиозные традиции и исторические воспоминания. Разной была лишь та окраска, которую придал всему этому каждый из авторов, его трактовка, расставленные им акценты. Кто из них был первым? Быть может, после распада единого царства в каждом из них, независимо друг от друга, возникла потребность создать свою национальную версию священной еврейской истории, связав ее с задачами возвеличения своего царства и принижения другого (а в случае «Элогиста» — еще и критикой своего царя). Но могло быть и так, что кто-то из них написал свой текст раньше, и этот текст, попав в руки другого (царства-то были соседями), побудил его ответить собственной версией. Можно было бы задаться и еще более трудным вопросом: а нельзя ли определить пол каждого автора? Исследователи задумывались и над этим. Относительно «Элогиста» они почти сразу пришли к выводу, что это наверняка был мужчина, потому что он, скорее всего, был жрецом из Шило, а жрецы в древнем Израиле были исключительно мужчинами. К тому же и вся тональность, вся авторская позиция этого текста выдает «мужской» взгляд. С «Ягвистом» дело обстоит сложнее. Не так давно известный американский историк Гарольд Блюм опубликовал работу под названием «Книга J», где утверждает, что создателем этой «Книги», то есть «Ягвистского» текста, была женщина — по его мнению, одна из дочерей царя Соломона (ибо только при царском дворе могли быть женщины с достаточным образованием и правами). Блюм подкрепляет свою гипотезу детальным стилистическим анализом текста, обнаруживая в нем «свойственную женщинам более тонкую иронию» и другие «женские» признаки. Более того, он предполагает, что этот «женский» текст был создан в ходе придворного «литературного соревнования» с аристократами-мужчинами, один из которых изложил те же события в своей, «мужской» версии — что и привело, по Блюму, к появлению текста «Элогиста». Доказательства Блюма не показались мне убедительными; его гипотеза о «шутливом соревновании» двух авторов представляется довольно несерьезной, ибо проходит «поверх» всех перечисленных выше (и куда более убедительных) примет принадлежности «Элогиста» к Израильскому царству, игнорируя те серьезные задачи и религиозные цели, которые его воодушевляли. Ричард Фридман, не присоединяясь к этой гипотезе, тоже не исключает, однако, что автором «Ягвистского» текста могла быть женщина: по его мнению, те симпатии к женской доле, которые «Ягвист» выражает в своем рассказе о Фамари, были бы свойственны скорее женщине, чем суровому древнееврейскому мужчине. Добавим, что некоторые исследователи Полагают, что у этих двух рассказов могло быть больше двух авторов. Они выделяют в этих текстах ряд отрывков, которые, по их мнению, принадлежат разным лицам, и говорят на этом основании о целой «школе Ягвиста» и «школе Элогиста». Но и эти гипотезы выглядят недостаточно убедительными, поэтому мы не будем на них останавливаться. Куда важнее напомнить в заключение, что оба эти текста являются, как мы знаем, частью целого — кто-то третий (или третьи) свел их воедино в текст Пятикнижия. Что руководило этими редакторами? Кем они были? Когда жили? Об этом можно только гадать — они оставили слишком мало следов. Прежде всего — почему они не ограничились каким-нибудь одним текстом, а предпочли свести воедино оба, невзирая на их противоречия, повторы и разночтения? Самое простое и разумное предположение на сей счет состоит в том, что оба текста, видимо, были достаточно известны среди современников редакторов и оба одинаково почитались священными. Нельзя было отбросить один (или какие-то его существенные части) и оставить второй, не оскорбив национальные и религиозные чувства какой-то части читателей, — даже если каждый из текстов противоречил другому в деталях и интенциях авторов. Оставить их существовать раздельно тоже было затруднительно — тогда какой из них читатели должны были считать «истинным»? Эти предположения интересны еще и тем, что приводят нас к вопросу о том, кто, собственно, были эти «читатели», которым предназначался объединенный таким способом текст. Поскольку «Элогист» в свое время явно адресовался жителям Израильского царства, а «Ягвист» — жителям Иудейского, то предположение, будто среди «читателей» единого текста были почитатели как той, так и другой версии, в сущности, означает, что объединение («редактирование») текстов происходило в среде, где наличествовали как «израильтяне», так и «иудеи». Было ли в еврейской истории время, когда существовала такая ситуация? Да, было. Археологические раскопки в Иерусалиме показали, среди прочего, что после падения Израильского царства население столицы Иудеи резко увеличилось. Это можно объяснить тем, что сюда хлынули беженцы из Израиля, спасавшиеся от нашествия ассирийцев. Они могли принести с собой и свою священную книгу — текст «Элогиста». Тогда-то и могла возникнуть обстановка, когда в одной и той же еврейской среде, теперь уже — среди жителей одного и того же царства, получили хождение два разных «священных» источника. А это могло побудить редакторов взяться за работу по их объединению — ведь, кроме всего, это способствовало бы объединению беженцев из Израиля с аборигенами Иудеи в единый, сплоченный общей Книгой народ. Эти соображения позволяют, таким образом, указать и примерное время жизни и работы редакторов: то был период после падения Израиля и до падения Иудеи, иными словами — промежуток между 722 и 587 гг. до н. э. Вот, в сущности, все, что современная библейская критика может предположить о времени создания и авторах двух первых текстов Пятикнижия — «Элогистского» и «Ягвистского». Но не меньше загадок содержат и два других его текста: «Жреческий» и «Второзаконие» (на иврите «Дварим»). Какие это загадки? Какие ответы на них предлагают новейшие исследования? В Пятикнижии история евреев доведена до прихода еврейских колен в Заиорданье и смерти Моисея. Эти события описаны в последней книге Торы — «Дварим» на иврите, «Deuteronomy» по-английски, «Второзаконие» по-старославянски. У этой книги есть свои особенности. В отличие от четырех предшествующих, в ней прямо указан ее автор — она начинается фразой: «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за Иорданом». Это обращение или завещание Моисея четко распадается на две части: «историческую» и «законодательную». В первой кратко повторяется история Исхода; во второй — вторично излагается Закон, то есть заповеди Господни. (Это вторичное изложение Закона и дало основание назвать Моисееву книгу «Второзаконием».) Это, однако, не вполне дословное повторение. Автор опускает некоторые заповеди, упомянутые в первых четырех книгах, зато вводит новые, ранее не упоминавшиеся. Одно из важнейших новшеств такого рода, усиленно подчеркиваемое в тексте, провозглашает запрет совершать жертвоприношения в произвольных местах. Эта новая заповедь появляется уже в начале «законодательной» части книги, в первых стихах 12-й главы: «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом… Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши и жертвы ваши». Видимо, этот запрет крайне важен для автора, потому что буквально через несколько фраз он снова напоминает (Вт. 12:13–14): «Берегитесь приносить всесожжения… на всяком месте… но на том только месте, которое изберет Господь». Самой распространенной целью жертвоприношений у древних евреев было освящение трапезы, прежде всего — мясной. Смысл обряда состоял, видимо, в напоминании, что такой трапезе неизбежно предшествует убийство какого-либо животного. Убийство не должно было восприниматься как заурядное действие, и потому оно было превращено в некий сакральный акт, производимый по определенному ритуалу, специальным лицом (священником-левитом, которому отдавалась часть жертвы) и в специальном месте. Судя по словам «Второзакония», в древнем Ханаане такие места («жертвенники») существовали около каждой деревни, и церемонией там руководили местные священники. Новая заповедь, провозглашенная во «Второзаконии», предписывает евреям уничтожить все эти местные жертвенники «на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом» и приносить жертвы в одном-единственном месте. Иными словами, речь идет о централизации культа. Последовали ли евреи этому предписанию? Не сразу. В эпоху Судей и во времена Объединенного царства (при Давиде и Соломоне) жертвоприношения «на высотах» (то есть на местах) все еще были обычными. Сохранялись они и во времена существования раздельных Израильского и Иудейского царств. Но падение Израиля в 722 г. до н. э., видимо, было истолковано в Иудее как «наказание за грехи» — за невыполнение заповедей, — и тогдашний иудейский царь Хизкиягу предпринял первую серьезную попытку искоренить обычай жертвоприношений «на высотах» и сконцентрировать все богослужение в иерусалимском Храме. Однако реформа Хизкиягу была недолговечной: его сын и внук восстановили в Иудее многие элементы идолопоклонства, включая жертвоприношения на местах. Намного более серьезной была религиозная реформа следующего иудейского царя — Йошиягу (640–609 гг. до н. э.). Историки расценивают ее. как подлинное национально-духовное возрождение. По приказу царя были разрушены идолы и очищен Храм. Жертвоприношения «на высотах» были категорически запрещены. Культ Ягве был заново централизован в Иерусалиме. Всем подданным было вменено в обязанность приносить свои жертвы только на храмовом алтаре. Все провинциальные лейиты были переведены в Иерусалим на должности прислужников при левитах Храма. Поскольку Иудея при Йошиягу в значительной мере освободилась от ассирийского господства и даже захватила часть прежних израильских земель, то реформы были проведены и там: как рассказывает 2-я книга Царей, Йошиягу лично прибыл в Бейт-Эль, чтобы сокрушить тамошние жертвенники, «истер их в мелкий прах и бросил в поток». Во всем. ТАНАХе только еще один человек поступил с идолами столь же сурово — то был Моисей, который не просто уничтожил золотого тельца, но «истер его в мелкий прах и швырнул в поток». Параллелизм поступков великого Моисея и царя-реформатора не ограничивается этим. Куда более глубоким и важным было то, что оба они принесли народу «Книгу Завета». Моисей принес ее с горы Синай; Йошиягу нашел в Храме. Та же 2-я книга Царей повествует, что на 18-м году царствования (т. е. в 622 г. до н. э.) царь приказал провести очистку Храма, и во время этой очистки первосвященник Хилкиягу обнаружил некую книгу, которую передал царскому писцу Шафану. «И читал Шафан ее перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои… и собрали к нему весь народ… и прочел им все слова книги завета, найденной в доме Господнем… и заключил перед лицом Господним завет — последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы… И весь народ вступил в завет». Трижды повторенное слово «завет» не оставляет сомнений, что речь идет о повторении той великой церемонии, которая некогда произошла у горы Синай, где еврейский народ впервые целиком вступил в Завет с Господом. Вновь найденная «книга закона» возродила этот Завет. Ее обнаружение и последующая церемония общенародной клятвы в верности Господу стали сильнейшим стимулом ко всей религиозной реформе Йошиягу. Что же представляла собой эта загадочная книга? Историки давно уже выдвинули предположение, что этой книгой было «Второзаконие». Действительно, как мы помним, «Второзаконие» представляет собой «слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам». Но в ней самой указывается, что, вписав свои слова в эту книгу, Моисей приказал левитам: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную у ковчега завета…» После завоевания Иерусалима и создания Храма ковчег был перенесен туда и помещен в Святая Святых. И именно в Храме первосвященник Хилкиягу обнаружил свою «книгу закона». Моисей во «Второзаконии» адресует свою книгу тем поколениям израильтян, которые «развратятся» и «уклонятся» от завещанного им пути, за что их «постигнут бедствия», — и книга Хилкиягу найдена именно в те времена, как бы специально для того, чтобы вернуть евреев на правильный путь. Эти совпадения слишком знаменательны, чтобы счесть их случайными. Практически все сегодня согласны, что «Книгой Завета» царя Йошиягу является «Второзаконие». Это, однако, не предрешает вопроса о ее авторстве. Вокруг этого вопроса идут давние споры. Я уже говорил, что сомнения в Моисеевом авторстве Пятикнижия высказывались еще в средние века. Эти сомнения распространялись и на «Второзаконие». В 1805 году немецкий ученый де Ветте предположил, что эта книга была написана не Моисеем, а кем-то из приближенных царя Йошиягу с нарочитой целью побудить к проведению религиозной реформы и дать ей впечатляющее сакральное обоснование. Действительно, трудно представить более впечатляющее для народного воображения событие, чем находка древнего свитка Закона, написанного самим Моисеем и в первых же словах призывающего к прекращению жертвоприношений «на высотах» и к централизации всех культовых церемоний в Храме. «И более выгодное для царя и левитов Храма», — добавлял де Ветте. По мнению немецкого историка, «Второзаконие» было «благочестивой подделкой», обманом, совершенным в благих целях, творением самого Хилкиягу или писца Шафана, а то и целой группы придворных, окружавших и направлявших молодого (26-летнего в ту пору) царя. Теория де Ветте подверглась основательной критике. Окончательный удар по ней нанес в 1943 году другой немецкий ученый Мартин Нот. Он обратил внимание на поразительно тесную связь между «Второзаконием» и шестью последующими, чисто историческими хрониками ТАНАХа — книгами Йегошуа бин-Нуна, Судей, 1-й и 2-й Самуила, 1-й и 2-й Царей. «Второзаконие» завершается смертью Моисея в Заиорданье, «напротив Иерихона», а книга Йегошуа бин-Нуна начинается с перехода евреями Иордана и завоевания Иерихона. «Второзаконие» пронизано предсказаниями тех событий, которые осуществляются в исторических хрониках, описывающих последующие столетия. Его законодательные предписания излагаются как назидания на будущее («Когда вы овладеете этой землей…» — делайте то-то и то-то; «Когда вы отвернетесь от Господа..» — вас постигнет-то-то и то-то; «Когда Господь, Бог ваш, рассеет вас среди других народов…» — это будет наказанием за то-то и то-то). Иными словами, «Второзаконие» в целом имеет характер своеобразного исторического пророчества, некоего сквозного мотива всей дальнейшей еврейской истории, описанной в шести книгах танаховских «хроник». Но его связь с этими хрониками оказывается намного глубже. «Второзаконие» объединяет с ними не только преемственность и непрерывность рассказа, но также единство стиля и многих лингвистических особенностей. Все эти семь книг связаны цельной и целенаправленной композиционной структурой: «Второзаконие» занимает в ней место исторического и идейного предисловия, хроники — место «собственно содержания», призванного проиллюстрировать провозглашенную в предисловии центральную идею: все происходящее с еврейским народом обусловлено (и объясняется) исполнением или неисполнением Божественных заповедей. Неслучайно все древнееврейские цари, от Саула и до Йошиягу, оцениваются в «хрониках» исключительно с этой точки зрения. (При этом обо всех них сказано, что они «творили зло перед лицом Господа»; не обойден даже Соломон (его царство распалось «за грехи его»); и исключение сделано только для троих — Давида, Хизкиягу и Йошиягу: первый удостоился особого, «индивидуального завета с Господом, по которому его династия «пребудет вечно»», независимо от прегрешений давидовых потомков; о втором уважительно сказано, что он «ходил путями Господними»; а третий, как мы видели, вообще приравнен к Моисею, ибо только о нем, как и о Моисее, сказано: «Подобного ему не было прежде его… и после него не восстал подобный ему».) Все эти факты побудили Нота высказать гипотезу, что указанные семь книг ТАНАХа образуют единый цикл, принадлежащий одному и тому же автору. Этот свод из семи книг («Второзаконие» плюс шесть «хроник») Нот предложил называть «Дейтерономистской историей», а ее неведомого автора — «Дейтерономистом» (или, сокращенно, D). Разумеется, Нот не мог отрицать, что в этом своде имеются многочисленные вкрапления других авторов. Детальность рассказа о приключениях Давида до его вступления на трон выдает в его авторе человека, близкого к Давиду; многие разделы книг пророка Самуила, по мнению специалистов, принадлежат особому автору. Тем не менее, «Дейтерономистская история» в целом демонстрирует почти очевидные признаки того, что она является произведением одного гения. Этот неведомый автор обработал все доступные ему прежние источники и рассказы таким образом, чтобы они служили раскрытию его центральной идеи, пронизывающей, одушевляющей, организующей и осмысляющей эту грандиозную эпопею национальной истории. Желая утвердить эту идею в сознании единоплеменников, он умышленно приписал ее авторство и авторитет великому Моисею, любимцу Господа. Именно поэтому он предпослал всему своему циклу «предисловие» в виде книги «Второзакония». Эта книга была для него главной, важнейшей книгой цикла, где он изложил свое представление о сквозном законе еврейской истории. Возможно, пишет Нот в заключение, это вообще была его единственная собственная книга — во всем остальном цикле он выступал, скорее, как гениальный составитель и редактор, отбирающий и соединяющий чужие источники так, чтобы наиболее ярко и убедительно проиллюстрировать неумолимое действие этого закона в реальной истории еврейского народа. Эта гипотеза Мартина Нота, утверждающая, что «Второзаконие» вместе с шестью последующими книгами исторических хроник ТАНАХа образует единую «Дейтерономистскую историю», принадлежащую одному автору, получила подтверждение и развитие в работах двух других современных исследователей — американцев Франка Гросса и Баруха Гальперина. Эти работы позволили не только установить время создания грандиозного «Дейтерономистского цикла», но и высказать предположение о личности его автора. Кто же был этим загадочным «автором»? Когда он жил? И могло ли быть, что имя столь гениального писателя, создателя грандиозной общенациональной эпопеи, не сохранилось в еврейской истории? Несколько выше мы говорили о том, что автор этот подчиняет весь свой цикл доказательству некой общей религиозной идеи: судьбы еврейского народа зависят от исполнения или неисполнения им «Господних заповедей». Этот критерий он прилагает и к оценке деятельности различных царей, о которых рассказывает в своих «хрониках». Почти все эти правители получают у автора однообразно-негативную оценку: «И делал он неугодное в очах Господа». Только для двух (не считая Давида) сделано исключение. Это Хизкиягу, правивший в Иудее во времена падения Израильского царства (727–696 гг. до н. э.), и его правнук Йошиягу, время правления которого (640–609 гг. до н, э.) непосредственно предшествовало падению самой Иудеи под натиском вавилонян. Об этих правителях одобрительно говорится: «И делал он угодное в очах Господних». Объяснить эту исключительность политическими успехами обоих царей невозможно: хотя каждый из них пытался проводить независимую политику и предпринимал попытки расширения Иудеи за счет бывшего Израиля, обе эти попытки закончились плачевно: Иерусалим при Хизкиягу был осажден ассирийцами Санхериба, отступившими только после получения огромной дани и признания зависимости Иудеи от Ассирии, а выступление Йошиягу против ассирийцев (уже во времена их борьбы с вавилонянами) завершилось гибелью самого царя в сражении при Мегиддо; через 4 года после этого победоносные вавилоняне вторглись в Иудею, а еще через 20 лет полностью завоевали ее и ликвидировали давидову династию, которой Ягве, по утверждению автора «Дейтерономистской истории», обещал вечное правление. Последний царь этой династии Цидкиягу был ослеплен и вместе с основной частью народа отправлен в вавилонский плен, его дети были убиты, а Иерусалимский Храм разрушен. Даже самый патриотически настроенный автор вряд ли назвал бы «угодными Господу» эти несчастливые политические затеи, навлекшие на страну разрушения и беды. Несомненно, особое отношение «Дейтерономиста» к Хизкиягу и Йошиягу продиктовано иными причинами. И, действительно, в его рассказе о них основное внимание уделяется не столько политическим акциям обоих царей, сколько инициированным ими религиозным реформам. Этот рассказ рисует Хизкиягу и Йошиягу решительными и последовательными борцами против местных культовых традиций и за централизацию культа Ягве, то есть исполнителями той заповеди, которую особенно настойчиво подчеркивает «Второзаконие» («Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом… не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите… жертвы ваши»). Это делает понятным, почему «Дейтерономист» восхваляет именно тех двух царей, которые предприняли религиозную реформу, направленную на такую централизацию. Гросс обратил внимание на тот факт, что из этих двух любимцев автора Йошиягу выделен особо. В историческом цикле «Дейтерономиста» ему отведено поистине выдающееся место. Его религиозным реформам посвящены две полные главы этого цикла (22-я и 23-я во 2-й книге Царств). Ой постоянно сравнивается с самим Моисеем. Только о них двух в ТАНАХе сказано — и притом подчеркнуто одинаковыми словами — что они «возлюбили Господа всем сердцем своим и всей душою своею, и всеми силами своими». Только о них двух сказано — и опять подчеркнуто одинаковыми словами, — что «подобного ему не было прежде его… и после него не восстал подобный ему». Но Гросс подметил и еще одно, вовсе уникальное свидетельство особого внимания «Дейтерономиста» к личности Йошиягу. Речь идет о пророчестве, произнесенном за 300 лет до воцарения этого правителя Иудеи, еще во времена первого израильского царя Йороваама. Едва отделившись от Иудеи, этот царь воздвиг — в противовес Иерусалимскому Храму — в Бейт-Эле и Дане собственные святилища Ягве. 1-я книга Царств, рассказывая об этом, событии, внезапно прерывает свое повествование, дабы сообщить, что в этот момент «человек Божий пришел из Иудеи в Бейт-Эль… и произнес слово Господне, и сказал: жертвенник! жертвенник!.. вот, родится сын дому Давидову, имя ему Йошиягу, и принесет на тебе в жертву священников высот… и человеческие кости сожжет на тебе». Это прямое называние ИМЕНИ будущего царя и само по себе уникально: ему нет аналогов во всем ТАНАХе. Но еще более поразительно, что спустя несколько десятков страниц и, как уже сказано, триста лет во второй Книге Царств, рассказывая о временах Йошиягу, автор специально упоминает об исполнении древнего пророчества: «Также и жертвенник в Бейт-Эле, высоту, устроенную Йороваамом… он разрушил… и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике… по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, ПРЕДРЕКШИЙ СОБЫТИЯ СИИ». С помощью этой явно продуманной связки «Дейтерономист» представляет еврейскую историю от времен Йороваама до эпохи Йошиягу. как предвестие религиозных реформ этого последнего. Все эти детали побудили Гросса еще в 1973 году предположить, что автор «Дейтерономистской истории» жил и творил именно во времена Йошиягу и был страстно заинтересован в успехе его религиозной реформы, считая ее (в общем духе своего понимания законов еврейской истории) судьбоносной для еврейского народа. Однако другой американский исследователь, Эрнест Райт, подверг эту гипотезу резкой критике. Он указал на тот факт, что в «Дейтерономистской истории» изложение доведено до гибели давидовой династии, а это не согласуется с проходящим сквозь все книги этого цикла утверждением, будто Господь обещал «дому Давида» вечное правление. Критика Райта побудила Гросса уточнить свою гипотезу. В последующих работах он предположил, что у «Дейтерономистской истории» было два автора. Первый действительно жил во времена Йошиягу, когда еще не были ясны ни судьба затеянной царем религиозной реформы, ни судьба самой давидовой династии, второй же, по мнению Гросса, дописывал печальный конец этого цикла уже в Вавилонском плену, не очень заботясь (в силу трагических обстоятельств) о том, чтобы согласовать и «причесать» весь текст лод одну гребенку. В такой видоизмененной форме гипотеза Гросса была принята большинством современных исследователей ТАНАХа, и сегодня мы можем говорить, что новейшая библеистика признает неведомого первого «Дейтерономиста» современником царя Йошиягу. Тем самым она принимает за данность, что «Второзаконие» и примыкающий к нему цикл исторических «хроник» были собраны, обработаны и частично заново написаны одним человеком, жившим в самом конце VII в. до н. э., за каких-нибудь два десятилетия до разрушения Первого Храма и гибели давидовой династии. Быть может, он даже успел дожить до этих страшных событий, похоронивших все его мечты и надежды на религиозное обновление еврейского народа. А мечты и надежды эти были, бесспорно, пламенно сильными — недаром же он сравнивал своего героя, царя Йошиягу, с величайшим еврейским религиозным реформатором всех времен — самим Моисеем… Эта пламенная религиозная пылкость сближает «Дейтерономиста» с самыми выдающимися еврейскими пророками. Не среди них следует ли его искать? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к результатам другого исследователя «Дейтерономистского цикла» — уже упомянутого выше Баруха Гальперина. Эти результаты позволяют еще более сузить тот круг людей, из которого вышел первый «Дейтерономист». Работа Гальперина была опубликована в 1974 году, когда этот молодой ученый только оканчивал Гарвардский университет. В своей работе, посвященной «Второзаконию», Гальперин собрал ряд неоспоримых фактов, свидетельствующих о том, что главная, «законодательная» часть книги (главы 12–26) восходит к источникам, которые, по всей видимости, сложились намного раньше эпохи Йошиягу, возможно, даже за столетия до этой эпохи. Многие ее предписания отражают обычаи намного более древних времен, в некоторых случаях — даже более ранних, чем времена Объединенного царства. Например, перечисленные там законы призыва народа на войну соответствуют системе всеобщей мобилизации колен, характерной для эпохи Судей: с появлением у евреев царей ополчения отдельных колен были заменены профессиональной царской армией. Но с этими древними предписаниями соседствуют другие, явно выдающие свое более позднее происхождение, — например, настойчиво подчеркиваемый и страстный призыв к борьбе с местными культами (жертвенниками на «высотах»). Иными словами, «Второзаконие» имеет более сложный характер, чем полагали прежние исследователи: древний источник здесь включен в более позднюю общую рамку, созданную, судя по всему, уже во времена борьбы за централизацию культа Ягве. Анализируя эту рамку, Гальперин пришел к выводу, что книга в целом, судя по всему, была написана во времена Йошиягу, что подтверждает гипотезу Гросса. Далее, однако, Гальперину удалось продвинуться намного ближе к загадке авторства «Второзакония» — а стало быть, если верить Ноту, и всего «Дейтерономистского цикла». Он обратил внимание на то, что более поздние предписания книги явно свидетельствуют о ее «пролевитской» направленности. Эти предписания ограничивают право царей накапливать богатства и наложниц, что никак не соответствует царским интересам. Такие особенности трудно согласовать с предположением, что книга возникла при царском дворе. С другой стороны, она предписывает царям следовать советам левитов и пророков, а народу — обеспечивать служителей Ягве всем необходимым для жизни. По мнению Гальперина, эти особенности позволяют думать, что «Второзаконие» возникло в кругу левитов Иудеи — современников Йошиягу. С этим предположением согласуется и общая религиозная направленность книги и всего «Дейтерономистского цикла». Остается выяснить, интересы какой именно группы левитов этот цикл отражает. То не могли быть, говорит Гальперин, первосвященник и другие законослужители Иерусалимского Храма. При всем его упоре на необходимость, централизации культа в «избранном Господом месте» «Дейтерономистский цикл» нигде не упоминает, что таким местом должен быть Иерусалимский Храм. Создателем книги не мог быть и провинциальный, «деревенский» левит из числа тех, кто проводил Богослужения «на высотах», — ведь предписания «Второзакония» направлены именно против них. В Иудее наверняка сохранялись еще потомки некогда бежавших туда из Израиля, от нашествия ассирийцев, священников Израильского царства, которых Йороваам когда-то назначил в храмы Бейт-Эля и Дана, но они вообще не были из числа левитов. Перебрав, таким образом, все возможности, Гальперин приходит к выводу, что религиозный кодекс «Второзакония» полнее всего совпадает с интересами и характером потомков давних левитов Шило, этого первого религиозного центра древних евреев, откуда вышел и автор «Элогистского» текста Торы. Действительно, эта группа имела все основания стремиться к централизации культа; будучи отлученной Йороваамом от храмов, она издавна нуждалась в помощи народа; она принимала власть царя, но хотела ее ограничения; она была резкой противницей сползания монархии в идолопоклонство; наконец, она еще хранила память о домонархических порядках (частично сохранявшихся среди северных, израильских колен до самого падения Израиля). Кто-то из этих левитов, продолжает Гальперин, мог еще во времена существования Израильского царства (т. е. до 722 г. до н. э.) записать древний устный закон и обработать его так, чтобы он соответствовал интересам данной жреческой группы; а после падения Израиля этот драгоценный свиток мог быть унесен (для его спасения) в Иудею… Разумеется, этот первый составитель «кодекса Второзакония» не был искомым нами «Дейтерономистом» — он жил на добрых 100, а то и больше лет раньше него. Этот «предтеча Дейтерономиста» попросту зафиксировал давнюю традицию — «Дейтерономист» же, уже во времена Йошиягу, воспользовался этим источником и положил его в основу своей грандиозной схемы еврейской истории. Он прибавил к «кодексу жрецов Шило» свое историческое вступление, в котором описал деяния Моисея, а также заключение, в котором рассказал, как умирающий Моисей записал «книгу Закона» (то есть Тору) на свитке и велел положить этот свиток в ковчег Завета, где он и был «найден» во времена Йошиягу. Так возникла совершенно новая книга — та, которую мы ныне называем «Второзаконием» и которую «Дейтерономист» сделал началом и основой им же созданного исторического цикла, излагающего всю еврейскую историю как последовательное развитие нескольких центральных сюжетов — верности/неверности Ягве; завета Бога с Давидом и его династией; идеи централизации культа и борьбы с местными святилищами; Моисеева Закона. Благодаря такому построению все важнейшие события этой истории получили у «Дейтет рономиста» единообразное причинное объяснение; вся она обретает глубокий религиозный смысл и целенаправленность. Ее конечной целью становится создание религиозной утопии, начатое царем Йошиягу, нашедшим спрятанную Моисеем Тору и решившим поступать в строгом соответствии с ней. Но если все положения Закона, исполнение которых «Дейтерономист» считает обязательным для выживания еврейского народа, соответствуют принципам «кодекса жрецов Шило», то и сам этот автор, заключает Гальперин, скорее всего тоже принадлежал к потомкам этих жрецов. В таком случае он, как и они, должен был вести свою родословную от Моисея (а не от Аарона, как левиты Иерусалима). Это предположение действительно подтверждается текстом цикла: в нем прославляется Моисей и всего лишь дважды упоминается Аарон: один раз, чтобы сообщить, что он умер раньше Моисея, второй — чтобы напомнить, что Господь готов был истребить его за создание золотого тельца. Подобно жрецам из Шило, «Дейтерономист» недоброжелательно относится к Йоровааму и Соломону: его герои, религиозные реформаторы Хизкиягу и особенно Йошиягу, уничтожают идолов Бейт-Эля и Дана, созданных Йороваамом, и медного змия, установленного Соломоном. Итак, автора «Дейтерономистской истории» следует искать среди современников царя Йошиягу, симпатизировавших религиозной реформе царя (или даже инициировавших ее) и одновременно принадлежавших к числу потомков жрецов из Шило, бежавших в Иудею за столетие до того, после разрушения Израильского царства. В то же время чисто литературные особенности «Дейтерономистского цикла», как мы уже говорили выше, сближают этого автора и с еврейскими пророками. Исходя из этих двух примет, Гальперин решил проверить, не было ли среди современников Йошиягу человека, удовлетворявшего обоим требованиям сразу. И он действительно нашел такого человека. По утверждению Гальперина, им был не кто иной, как великий пророк Йеремиягу. Именно Йеремиягу, или Иеремия, по мнению Гальперина, был создателем книги «Второзакония» и всего «Дейтерономистского цикла» в целом. По его гипотезе, он и был искомым всеми гениальным «Дейтерономистом». Эту дерзкую гипотезу, разумеется, трудно принять на веру. Но оказывается, и у нее есть убедительные основания: Мы уже говорили, что «Второзаконие» нельзя рассматривать в отрыве от последующих книг ТАНАХа — так называемых исторических сочинений (книг Йегошуа бин-Нуна, Судей, Самуила и Царств). Их объединяет слишком много лингвистических, исторических и религиозных особенностей, присущих им всем вместе и не встречающихся в других книгах ТАНАХа. Кроме того, их объединяет единая сквозная идея — особое религиозное толкование еврейской историй, заявленное уже во «Второзаконии» и затем последовательно проведенное через все книги «исторического 4 цикла». Эта общность, присущая «Дейтерономистскому циклу», заставляет говорить, что весь он был] составлен (с использованием массы более древних источников) одновременно. А поскольку этот цикл вдобавок объединен еще и настойчивым выпячиванием великой религиозно-реформаторской роли царя Йошиягу, который изображается как «второй Моисей» (появление этого царя предсказывается, если помните, уже в ранних книгах «Дейтерономистского цикла», задолго до его фактического царствования), то остается, пожалуй, лишь одна непротиворечивая гипотеза, способная объяснить все эти особенности. И это — как раз изложенная нами выше гипотеза немецкого исследователя Мартина Нота, согласно которой весь «Дейтерономистский цикл», начиная с «Второзакония» и кончая 2-й книгой Царств, был написан во времена самого Йошиягу. Неслучайно именно эта гипотеза является сегодня практически общепринятой в библейской критике. Но, как мы только что рассказывали, молодой американский ученый Барух Гальперин пошел дальше Нота, проанализировал многие неявные дополнительные признаки «Дейтерономистского цикла» и на основании полученных результатов выдвинул предположение, что автором этого грандиозного историко-религиозного цикла, охватывающего семь книг ТАНАХа, был не кто иной, как пророк Йермиягу. Каковы же те признаки, обнаружение которых позволило Гальперину прийти к столь дерзкому выводу? Прежде всего, это особое место, отводимое в цикле царю Йошиягу. Но из книги пророка Йермиягу известно, что он был пылким сторонником царя Йошиягу и его реформ; что его пророческая деятельность началась во времена этого царя; и, что именно он /согласно свидетельству «Хроник») после гибели царя составил «Плач на смерть Йошиягу». Далее, для всего «Дейтерономистского цикла» характерна сквозная мысль о том, что зигзаги еврейской истории определяются, прежде всего и более всего, выполнением или невыполнением евреями заповедей Господних. Но в точности та же мысль является главной и для пророческой книги Йермиягу: в ней он предсказывает Иудее судьбу Израиля, поскольку она, как некогда Израиль, «отступила от Завета», и видит в вавилонянах орудие этой Божьей кары (кстати, именно поэтому он призывает там евреев покорно подчиниться вавилонянам, сдав им Иерусалим, и даже, кажется, подобно Иосифу Флавию, пытался перейти на сторону врага). У гипотезы Гальперина есть и более конкретные подтверждения. Оказывается, Йермиягу был связан со всеми теми людьми, которые имели отношение к «находке» книги «Второзакония» в Храме. Например, письмо пророка к евреям, находившимся в вавилонском плену, было послано через Гемарию, сына первосвященника Хилкиягу, и Эласу, сына писца Шафана. Пророчества Йермиягу, направленные против преемника погибшего Йошиягу, царя Иегоякима, были зачитаны при дворе другим сыном того же Шафана, Гемарией. Тот же Гемария и его брат Ахикам спасли пророка от побиения камнями за эту книгу. А сын Ахикама (и внук Шафана) Гедалия, которого вавилоняне назначили наместником завоеванной ими Иудеи, взял пророка, под свое покровительство. Когда Гедалия был убит восставшими иерусалимцами и на Иудею двинулись разгневанные этим вавилоняне, пророку пришлось бежать вместе с остатками населения города в Египет, (где он и умер). Все эти факты свидетельствуют о том, что Йермиягу имел прямое касательство к тому кругу, где появилась (была «найдена») книга «Второзакония», так удачно обосновавшая реформы царя Йошиягу. И в этом кругу пророк был «своим». Судя по сказанному, то был круг главных инициаторов религиозных реформ, а затем — наиболее влиятельных сторонников провавилонской политики при дворе иудейских царей. В этом кругу Йермиягу, несомненно, был человеком самого большого литературного дарования, как о том свидетельствует его собственная пророческая книга. Поэтому было бы только логично заключить, что когда здесь возникла идея создать убедительное обоснование актуальности и важности религиозных реформ («восстановления Завета») в виде какой-нибудь книги или цикла книг, за реализацию этого замысла взялся именно Йермиягу. Тому есть и косвенное свидетельство: многие литературные особенности пророческой книги Йермиягу дословно соответствуют особенностям стиля «Второзакония» и «Дейтерономистского цикла» в целом. Йермиягу, например, пишет: «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца своего…» — а во «Второзаконии» мы читаем: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего…» У Йермиягу: «…перед всем воинством небесным»; во «Второзаконии»: «…перед всем воинством небесным». У Йермиягу: «…из земли Египетской, из железной печи»; во «Второзаконии»: «…из печи железной, из Египта». И так далее. Если бы такие выражения и словосочетания встречались и в других местах ТАНАХа, этим совпадениям можно было бы не придавать особого значения; но они встречаются именно и только в двух книгах — у Йермиягу и во «Второзаконии». На основании всех этих многозначительных совпадений и фактов Гальперин и заключил, что религиозный закон, составляющий основу «Второзакония», равно как и весь «Дейтерономистский цикл», содержащий семь книг ТАНАХа, а также книга пророка Йермиягу вышли из одного и того же круга людей, к которому принадлежал и сам пророк. В этом кругу Йермиягу действительно кажется самым вероятным автором. И эта вероятность становится еще выше, если учесть одно дополнительное обстоятельство. Как мы видели, основу этого «Дейтерономистского кружка», объединенного страстным стремлением подтолкнуть Йошиягу к проведению религиозных реформ, составляли видные царские придворные — первосвященник Хилкиягу, царский писец Шафан. Один лишь Йермиягу был там представителем совершенно иных, далеких от двора слоев. Как мы уже говорили в предыдущей главе, весь «Дейтерономистский цикл», включая «Второзаконие», написан с позиций жрецов-левитов — выходцев из израильского города Шило. Так вот, Йермиягу, утверждает Гальперин, является одним из этих левитов. В самом деле, он — единственный библейский пророк, в чьей книге прямо упоминается Шило (и даже целых четыре раза). При этом оно именуется там в точном соответствии со стилем «Второзакония» — как «место, где Господь повелел пребывать Имени своему». В терминах «Второзакония» это означает центральное место культа Ягве. Наконец, Шило в ТАНАХе связано с именем жреца Авиатара, которого Давид назначил одним из двух иерусалимских первосвященников, а Соломон отправил в ссылку в село Анатот под Иерусалимом. Между тем, первая же фраза пророческой книги Йермиягу гласит: «Слова Йермиягу, сына Хилкиягу, из священников, которые в Анатоте». Иными словами, пророк действительно был потомком левитов Шило. Этот факт сильнейшим образом подкрепляет гипотезу о том, что именно он был автором «Дейтерономистского цикла». Гипотеза Гальперина была развита другим американским исследователем, Ричардом Фридманом, который, пользуясь теми же приемами и методами доказательства, показал, что окончание «Дейтерономистского цикла», описывающее начальный период вавилонского плена (и созданный, следовательно, уже после взятия Иерусалима вавилонянами в 597 г. до н. э.), было, скорее всего, дописано тем же Йермиягу, но уже после его бегства в Египет. Мы не будем приводить здесь все аргументы и доводы Фридмана (они представляются весьма логичными и правдоподобными, хотя, как и у Гальперина, не на сто процентов убедительными; но от библейской критики такой абсолютной доказательности нельзя и требовать). Отметим лишь, что в заключение своего анализа Фридман напоминает о любопытном подтверждении из самого неожиданного источника — Талмуда. Оказывается, та же талмудическая традиция, которая приписывает авторство Пятикнижия Моисею, а книги Йегошуа бин-Нуна — самому Йегошуа, утверждает, что автором обеих книг Царств был пророк Йермиягу! Работы Фридмана, опубликованные в середине и конце 70-х годов, отчасти решили давний спор о так называемой «Дейтерономистской школе». Некоторые историки-библеисты утверждали, что «Дейтерономистский цикл» был создан не одним автором, а несколькими, но принадлежавшими к одной и той же школе и потому писавшими в одном стиле, с одинаковыми литературными и прочими особенностями. По Фридману, мера близости основного корпуса Дейтерономистских книг друг к другу и к заключению всего цикла (написанному в изгнании) является настолько феноменальной, что написать все это мог только один й тот же человек, но никак не группа людей. В этой связи хотелось бы отметить одну любопытную деталь. Существуют историки, которые утверждают, что книгу пророка Йермиягу (а, возможно, и все другие произведения этого пророка, включая «Дейтерономистский цикл») написал в действительности часто упоминаемый в этой книге писец «Барух, сын Нерия». О нем известно, что он переписывал для Йермиягу ряд документов, был близким к нему человеком и отправился с ним в изгнание в Египет. В сущности, не так уж важно в действительности, кто написал книги пророка — сам он или его писец; куда важнее, что все они были написаны одним и тем же человеком. Но любопытная — и я бы даже сказал, волнующая — деталь, связанная с писцом Барухом, состоит совсем в другом. В 1980 году израильский археолог Нахман Авигад нашел оттиск печати, запечатленный на древнем (между VII и VI вв. до н. э.) папирусе, где совершенно ясно и недвусмысленно читается: «Принадлежит Баруху, сыну Нерия, писцу»! Это был первый в истории предмет, лично связанный с человеком, имя которого упоминается в тексте ТАНАХа. И какого человека — писца пророка Йермиягу, возможно, даже автора великого танахического Семикнижия! Ощущение поистине волнующее — словно прикоснулся к живому Йермиягу… Теперь, завершив затянувшийся рассказ о создании и авторстве «Второзакония», мы должны сделать еще одно, последнее, усилие и разобраться в том, что говорит библейская критика о двух оставшихся главных источниках (или, как их еще называют, «документах»), из которых состоит еврейская Библия, — текстах «Жреца» и «Редактора». Кто их авторы, когда они были созданы, каков их исторический контекст и значение? Прежде, однако, подытожим уже сказанное — это поможет нам лучше понять последующее. История научной библеистики, или, как ее еще называют, «библейской критики», распадается на два отчетливых исторических периода. Водоразделом является вышедшая в 1878 году книга Вельхаузена «История Израиля». Эта работа оказала огромное влияние на развитие научной библеистики. Вельхаузен обобщил все, сделанное до него в этой области такими исследователями, как Спиноза, Гоббс, Симон, Астрюк, Эйхгорн, Граф и де Ветте; он впервые соединил методы и результаты исторического и литературно-лингвистического анализа Пятикнижия; наконец, он предложил систематическую трактовку возникновения библейского текста. Эта трактовка была основана на специфическом представлении об эволюции еврейской религии (во многом навеянном идеями Гегеля). По Вельхаузену, эта эволюция прошла три этапа. На первом то был культ богов природы и плодородия; на втором — духовно-этический монотеизм; а на третьем — формальная жреческо-законническая религия. Вслед за своими предшественниками Вельхаузен выделил в Пятикнижии четыре источника (или четыре «документа», как он их назвал) — Элогистский (Т), Ягвистский (J), Дейтерономистский (D) и Жреческий (Р) — и связал их с указанными этапами эволюции иудаизма. Он утверждал, что «документы» J и T отражают характерные черты еврейской жизни и верований первого этапа; «документ» D относится ко второму этапу, а «документ» H был составлен самым последним — уже на третьем, «жреческом» этапе развития еврейской религии. Исключительно четко изложенная, аргументированная колоссальным количеством материала «документальная гипотеза» Вельхаузена произвела огромное впечатление на научные круги и легла в основу всего дальнейшего развития научной библеистики. Она составляет ее основу и сегодня. Разумеется, многое в трактовке Вельхаузена устарело и отброшено, а многое, напротив, развито и углублено. Сегодня уже понятно, что основные четыре «документа» сами являются контаминацией множества более древних источников; поэтому понятие «времени создания» того или иного «документа» означает не более чем датировку объединения этих источников в связный текст (J, T и т. п.), который затем вошел в библейский канон. Как мы видели выше, сегодня куда более точно и детально известно также время и обстоятельства создания этих окончательных текстов, а в некоторых случаях выдвигаются даже гипотезы относительно личности их авторов. В частности, согласно этим гипотезам, тексты T и J были составлены во времена разделенного царства: T — в Израиле, J — в Иудее; первый — между 922 и 722 гг. до н. э. (период существования Израильского царства), второй — между 848 и 722 гг. (поскольку в нем упоминаются события, произошедшие при иудейском царе Йегораме, вступившем на трон в 848 г.). По тем же гипотезам, вскоре после того, как беглецы из завоеванного ассирийцами Израиля принесли текст T («свою» Тору) в Иудею, этот текст был соединен с «местной» Торой, т. е. с текстом J, в единый источник, послуживший первой основой будущего Пятикнижия. Таким образом, по современным представлениям, эта основа, или текст TJ, возникла в ее окончательном виде в Иудее и после 722 г. до н. э. Мы посвятили много места увлекательной истории поиска времени и места создания и авторства третьего «документа» — D, или Дейтерономистского (составляющего основу книги «Второзаконие»). Как мы видели, совокупные усилия многих ученых, включая израильских, позволили выдвинуть довольно убедительную гипотезу, относящую, создание «Второзакония» (а также примыкающих к нему исторических книг, совместно образующих т. н. «Дейтеронимистский исторический цикл») ко временам иудейского царя Йошиягу (639–609 гг. до н. э.), а завершение — ко временам вавилонского плена (587–537 гг. до н. э.), и приписывающую его авторство пророку Йеремиягу (или его писцу Баруху). Не следует думать, будто это единственная гипотеза; в современной библеистике есть и другие предположения относительно времени создания и авторства «Второзакония» и исторических книг ТАНАХа; мы выбрали гипотезу Гальперина — Фридмана лишь в силу ее большей простоты и правдоподобности, а также для показа с ее помощью приемов и методов анализа, используемых в библейской критике. Чтобы завершить заявленную в заглавии тему, нам остается еще рассказать о том, как представляет себе современная библеистика возникновение последнего из четырех основных «документов», составляющих Пятикнижие, — источника P, или т. н. «Жреческого кодекса». Как мы только что отмечали, Вельхаузен выдвинул предположение, что этот текст был создан позже всех остальных — уже в послепленную эпоху (т. е. после возвращения евреев из вавилонского плена, которое произошло в 537 г. до н. э.). Эта датировка опиралась на ту специфическую периодизацию еврейской религиозной эволюции, которая лежала в основе всей работы Вельхаузена. Однако со временем вельхаузеновская периодизация была подвергнута серьезной критике (в работах Макса Вебера и его продолжателей, а также в «Истории еврейской религии» израильского исследователя Кауфмана и др.), а новейшие археологические открытия в Эрец-Исраэль вовсе поставили под сомнение ряд ее основных положений. Поэтому вопрос о датировке «документа» H тоже подвергся пересмотру. Что же говорит об этом документе современная библеистика, то есть библейская критика конца XX века? Грубо говоря, текст P — это все то в Пятикнижии (в Торе), что не есть T, J или D. Вообще-то можно было бы ожидать, что этот «остаток» представляет собой беспорядочную смесь всевозможных вкраплений. Но поразительный факт (обнаруженный уже первыми исследователями Библии) состоит в том, что если вычленить из Торы такой остаток, то окажется, что на самом деле он представляет собой вполне связный текст, некое особое повествование, которое почти без пропусков излагает примерно то же, что и текст E-J, — всю историю мира, от сотворения до праотцев, и всю историю евреев, от праотцев до египетского рабства, исхода и возвращения в Ханаан. К этой обширной исторической части автор P добавляет еще более пространную обрядово-культовую часть, которой почти не было в E-J. Из нее видно, что, в отличие от авторов текстов T и J, автора H вопросы культа и его исполнения интересуют едва ли не в первую очередь, как могут интересовать только жреца (отсюда и название данного текста — «Жреческий»). Неслучайно они занимают основную часть его текста — половину книги Исхода, половину книги Чисел и почти всю книгу Левит. А в целом текст H оказывается самым большим в Пятикнижии — его объем равен объему всех трех остальных источников, вместе взятых. И при этом весь он лингвистически и стилистически однороден и индивидуален, как может быть однороден лишь текст, принадлежащий перу одного автора. Уже в 1833 году Э. Рейсс обратил внимание на тот странный факт, что в книгах пророков имеются отсылки лишь к тексту E-J, но не упоминаются те пункты 1 (заповеди) Закона, которые содержатся в P. Из этого он сделал вывод, что текст H был записан позже основных пророческих книг. Поскольку эти книги (Исайи, Йермиягу и Йехезкеля) были завершены уже после разрушения Первого Храма, во времена вавилонского плена, следовало предположить, что в эпоху Первого Храма текст H еще не существовал. Поэтому Рейсс отнес его создание к более поздней эпохе, то есть ко временам Второго Храма. Впоследствии ученик Рейсса, Граф, вычленил в тексте H его основные моменты: четко оформленную легально-юридическую культовую систему, концепцию сосредоточения всех культовых отправлений в одном месте и представление о центральности этого места (и его жрецов) в религиозной жизни народа — и, проанализировав их, высказал предположение, что такая детальная разработанность указанных концепций, какая характерна для текста H, может быть только результатом длительного религиозно-исторического развития, и, стало быть, опять же — текст H является весьма Поздним. Наконец, уже упоминавшийся выше Вельхаузен добавил к этим аргументам свои. Поскольку в его схеме развитие еврейской религии шло от духовно-этического монотеизма к «бездуховной» жреческой теократии, то и внешние формы религиозности, по его мнению, развивались от децентрализации культа к его централизации. В тексте E-J нет упоминаний о необходимости такой централизации — стало быть, заключал Вельхаузен, этот текст является самым ранним; в тексте D идет яростная борьба за централизацию богослужений в едином месте, «избранном самим Богом», — стало быть, этот текст, по Вельхаузену, более поздний; и, наконец, в тексте H централизация упоминается как нечто само собой разумеющееся, то есть существующее и укоренившееся, — а такое, заключает Вельхаузен, может быть только на самом позднем этапе — этапе «жреческой теократии», установившейся в Иудее при Эзре и Нехемии, после возвращения евреев из вавилонского плена. Противники гипотезы Рейсса — Графа — Вельхаузена давно указывали на весьма важный сомнительный пункт в ней: если текст H написан во времена Эзры, когда Храм играл центральную роль в религиозной жизни евреев, почему в самом тексте нет никаких упоминаний о Храме? Граф и Вельхаузен ответили на это утверждением, что такое упоминание есть, только «замаскированное»: повсюду, где в источнике H идет речь о т. н. «Скинии Завета», «в действительности» подразумевается Храм. На первый взгляд, это утверждение кажется не только изобретательным, но и отчасти обоснованным. В самом деле, текст H уделяет Скинии подчеркнуто большое внимание: если в E-J она упоминается лишь трижды, а в D не упоминается вообще, то в H о ней — свыше двухсот упоминаний! Более того, там даны подробные указания, как и из чего она должна быть сооружена, каковы должны быть ее размеры, какие обряды в ней следует отправлять и т. д. Второе обстоятельство, позволяющее думать, что под Скинией имелся в виду. Храм, состоит в том, что размеры Скинии, указываемые в тексте P, подозрительно точно соответствуют размерам Храма, названным в 6-й главе 1-й книги Царств: если Храм имел 60 локтей в длину и 20 в ширину, то Скиния — 30 локтей в длину и 10 в ширину, то есть была ровно вдвое меньше. Исходя из этих соображений, Граф заключил, что никакой Скинии не было вообще (в самом деле — кто бы мог нести такое громоздкое сооружение по пустыне до самого Ханаана?!), и весь рассказ о ней придуман автором текста H. Этот автор, живший во времена Второго Храма, стремился, по Графу, придать этому Храму надлежащий авторитет и святость. Поэтому он решил приписать этому центру еврейского культа преувеличенную историческую давность и для этого ввел в свой текст рассказ о том, будто заповедь построить некое единое (и единственно законное) помещение для жертвоприношений и Богослужений (в виде упомянутой Скинии Завета) была дана уже во времена Моисея самим Господом у горы Синай. Как показали современные исследования, все эти хитроумные гипотетические конструкции были излишними. Гипотеза Графа — Вельхаузена о позднем происхождении текста H оказалась ложной в своих основных посылках. Сначала в книге Йермиягу, а затем в книге Йехезкеля были обнаружены хоть и немногочисленные, но достаточно достоверные ссылки на источник H. Их не могли найти раньше, потому что они были ссылками, так сказать, «от обратного»: Йермиягу, например, цитировал H, переворачивая — и тем самым отрицая — его текст. Там, где H говорит: «Вначале создал Ягве небо и землю, и земля была безвидна и пуста… и сказал Ягве: «Да будет свет»», — Йермиягу пишет: «Смотрю на землю, и вот она безвидна и пуста, — на небеса, и нет на них света». Автор H в книге Левит говорит о «Торе (то есть о заповеди) всесожжении и жертв», а у Йермиягу Господь провозглашает: «…отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди о всесожжении и жертве». И так далее, все в том же духе. Аналогичные скрытые переклички с H имеются и у Йехезкеля. Это означает, что пророкам данный источник был знаком, и, стало быть, он существовал уже до разрушения Первого Храма. К тому же выводу привели многолетние лингвистические исследования израильского ученого Ави Гурвица из Еврейского университета, показавшего, что язык источника H представляет собой более ранний вариант иврита, чем язык книги Йехезкеля. Это заключение было впоследствии подтверждено несколькими лингвистами из США и Канады. Что же касается «кратности» размеров Скинии и размеров Храма, то Ричард Фридман, посвятивший этому вопросу специальное исследование, обратил внимание специалистов на два важных факта. Во-первых, те «размеры Храма», о которых говорили Граф и Вельхаузен, относятся к Первому, а не ко Второму Храму; поэтому заключать из этого, будто под Скинией «подразумевается» Второй Храм, нет никаких оснований; а, следовательно, нет и оснований думать, будто рассказ источника H о Скинии был создан во времена Второго Храма. А, кроме того, более детальное изучение предписаний книги Левит о постройке Скинии показывает, что ее истинные размеры вообще были несколько иными, нежели названные в тексте (деревянные рамы, из которых она составлялась, немного находили друг на друга — для прочности, и потому истинная длина всей постройки была чуть меньше 30 локтей; это доказывается размерами покрывала, накрывавшего все сооружение). Поэтому о «кратности» размеров Скинии и Храма вообще не может быть речи. С другой стороны, подсчитав истинные (с учетом наложения деревянных рам) размеры Скинии, Фридман обнаружил совершенно иную «кратность», даже полное совпадение. Оказалось, что эти размеры были в точности такими же, как впоследствии и размеры самого внутреннего помещения Соломонова (т. е. Первого) Храма — его знаменитой «Святая Святых», где находились позолоченные херувимы, под распростертыми крыльями которых помещался Ковчег Завета. В этой связи Фридман напомнил, что уже при описании Соломонова Храма сказано, что туда принесли не только Ковчег Ягве, но и «Скинию со всем, что в ней было». О переносе Скинии в Храм согласно говорят также Иосиф Флавий и Вавилонский Талмуд. В Псалмах Храм и Скиния тоже всегда упоминаются совместно, а в «Хрониках» («Паралипоменон») о Храме говорится как о «доме Ягве, доме Скинии». Собрав все эти факты, Фридман выдвинул предположение, принципиально противоположное гипотезе Графа — Вельхаузена: не Скиния была «придумана» автором H по образцу существовавшего в его время Храма, а сам этот Храм (его Святая Святых) был задуман по образцу задолго до него существовавшей Скинии. Сама же она после постройки Храма была перенесена из Шило в Иерусалим и помещена во внутреннем храмовом помещении (т. е. в Святая Святых). Автор H, поместивший Скинию в центр своего рассказа и поднявший ее до уровня центрального символа всей еврейской религиозной жизни, имел поэтому все основания отождествлять Скинию с самим Храмом (ведь она в нем находилась!) — но только с Первым Храмом, а не со Вторым! Иными словами, по Фридману, текст H мог быть написан лишь в те времена, когда Первый Храм еще существовал. По всей видимости, он был записан там же, где этот Храм существовал, — то есть в Иудее, может быть, — в самом Иерусалиме. Его автором был, скорее всего, храмовый священнослужитель (ибо весь текст, как мы уже отмечали, выражает интересы жреческой группы), а поскольку священнослужителями Иерусалимского Храма были коэны-аарониды (прямые потомки Аарона), то и автор H был, надо думать, одним из этих коэнов. Время создания текста можно еще более сузить. Как показал шведский ученый Мовинкель, автор H целых 25 раз повторяет рассказы из текста E-J (начиная с истории сотворения мира). А это значит, что он писал уже после создания этого единого текста, то есть, как мы говорили выше, после 722 г. до н. э. С другой стороны, текст H, как мы видели, был известен пророку Йермиягу, предположительно, — автору «Дейтерономистского цикла», начатого при царе Йошиягу (639–609 гг. до н. э.); стало быть, H был написан раньше этого царствования. В целом это дает следующие (разумеется, гипотетические) временные рамки для его написания: между 722 и 639 гг. до н. э. Фридман выдвигает еще более точное предположение, относя создание текста H ко временам царя Хизкиягу (727–698 гг. до н. э.), когда была предпринята первая попытка религиозной реформы — уничтожения местных жертвенников и централизации всех культовых отправлений в Храме. По мнению Фридмана, подчеркивание роли Скинии («Храма») выражает желание автора H обосновать эту реформу, приписав традиции сосредоточения культа в одном месте давнее (еще от Моисея) и сакральное (одна из Господних заповедей) происхождение. Текст H не имеет тех литературных и прочих достоинств, которые отличают тексты T и J, но и он по-своему замечателен. Прежде всего, замечательны его повторы, или «дублеты», как мы назвали их в первой главе. Сравнение рассказов H и E-J сразу обнаруживает, что автор H был решительно недоволен тем образом Бога, который возникал из книги его предшественника, и пытался последовательно провести свое, иное представление о Нем. Так, уже в первом дублете (рассказ о сотворении мира) у E-J сказано (Бытие 2:4): «Элогим создал землю и небо», а у H (Бытие 1:1): «Вначале сотворил Ягве небо и землю». Эта, казалось бы, простая перестановка слов — «небо и земля» вместо «земля и небо» — на самом деле скрывает за собой стремление придать Богу более «небесные», более трансцендентные черты. Автор H решительно борется с той антропоморфизацией Бога, которая присуща T и J. Бог Элогиста и Ягвиста ходит по райскому саду, разговаривает с первыми людьми, закрывает за Ноем и его семейством двери ковчега и с удовольствием обоняет запах жертвы (одного из семи «чистых» животных), принесенной Ноем по случаю завершения Потопа. У H этого Ноева жертвоприношения нет, ибо Ною велено взять с собой лишь одну (а не семь) пару от каждого вида «чистых» тварей, и он не может убить ни одну из этих тварей, ибо тогда не останется пары для размножения данного вида. Соответственно, H получает возможность изгнать из рассказа режущее его слух слово «обонять» применительно к Господу. Господь у H не обоняет, не ходит, не разговаривает, не творит людей «по Своему образу и подобию», ибо у Него нет «образа» — Он бестелесен и безлик. Он пребывает на небесах. Он — творец того грандиозного космического порядка, что запечатлен в Торе и является основой также и порядка земного, подчиняющего себе всю жизнь еврейского народа: Храм, коэны, жертвы, праздники, строжайшее соблюдение заповедей и ритуала. Нарушителей этого порядка ждет суровое наказание, ибо, если у E-J Бог прежде всего «милосерд», «человеколюбив» и тому подобное (вспомним, как Он пощадил Ицхака, как уступал Аврааму в торге за Содом и множество других аналогичных случаев), то H рисует Его прежде всего суровым и беспощадным (хотя и справедливым) судьей. Судьба Кораха и его сторонников, описанная в 16-й главе книги Чисел, — яркая тому иллюстрация. Раз уж мы коснулись этого эпизода с Корахом, используем его, чтобы показать еще одну особенность Жреческого кодекса. Как уже было сказано, автор его — не просто жрец, но, скорее всего, жрец-ааронид. И, действительно, — для всех его дублетов, в которых речь идет об Аароне, характерен сквозной мотив возвеличивания этого первого еврейского первосвященника (порой даже за счет преуменьшения заслуг Моисея). И это тоже элемент скрытой полемики с текстом E-J (одна из составных частей которого T создана левитами из Шило — потомками Моисея — и потому всячески возвеличивает Моисея). Там, где у E-J: «Ягве сказал Моисею», у P (в том же рассказе) добавлено: «Моисею и Аарону». Где Аарон для Моисея «брат-левит» (то есть из одного колена), у H он — родной, кровный брат, причем — первенец. P изгоняет из своего повествования имевшиеся в E-J не только рассказ о жертвоприношении Ноя, но также рассказы о жертвоприношениях других библейских героев: Каина, Авеля и праотцев — и все для того, чтобы получить возможность утверждать, будто первое жертвоприно шение было произведено в честь назначения Аарона первосвященником; отсюда следует и сама концепция — коэнов: все последующие жертвоприношения могут, производиться либо самим Аароном, либо его прямыми потомками, ибо они выше всех по святости, они — избранные среди избранных, единственные законные посредники между народом и Богом. Упомянутый выше рассказ о восстании Кораха ярко иллюстрирует эту тенденцию автора Жреческого «документа». Две с половиною тысячи лет миллионы людей читали этот рассказ, не подозревая, что перед ними на самом деле — некая литературная мистификация. Действительно, если вчитаться в текст 16-й главы книги Чисел, то неизбежно возникает ощущение; некой странности, чтобы не сказать — сумбура. Здесь есть Корах из колена Леви и, как бы отдельно от него, три других руководителя мятежа — Дафан, Авирон и Авнан из колена Реувена, и рассказ о каждой из этих групп совершенно не соотносится с рассказом о другой. Скажем, события связанные с Корахом, происходят вблизи Скинии, между тем как события, связанные с реувенидами, — в их шатрах; Корах предъявляет Моисею одни требования, реувениды — совершенно иные; Кораха Моисей увещевает, реувенидам грозит. Вообще куски рассказа, связанные с Корахом, настолько лишены связи с кусками, посвященными реувенидам, что возникает ужасное подозрение: а в самом ли деле это один общий рассказ? Попробуйте сами произвести над текстом несложную операцию: извлеките из него всё, что относится к реувенидам (вторая часть первого стиха и начальные слова — «восстали на Моисея» — стиха второго, стихи 12–15-й, 25-й, вторую фразу 27-го и стихи 28–31-й, первую часть 32-го, а также 33-й и 34-й стихи), — и вы тотчас увидите, что, будучи вычлененными, они образуют вполне связный, последовательный и ОТДЕЛЬНЫЙ рассказ о восстании (и наказании) потомков Реувена, разочарованных тем, что Моисей не выполнил своего обещания привести народ в землю, текущую молоком и медом. А что же оставшиеся стихи? Поразительно, но они, оказывается, тоже образуют связный рассказ — только совсем иной: о бунтаре Корахе. В нем никаких упоминаний о реувенидах и их восстании: речь идет исключительно о представителе колена Леви (Корахе), который посмел выразить недовольство определенных левитских кругов тем, что Моисей назначил Аарона первосвященником: по мнению Кораха, в «царстве священников» (каковым, по слову Господню, должно быть еврейское сообщество) любой левит имеет право на такой сан и прерогативы. Моисей поначалу пытается пристыдить недовольных, напоминая им, каким почетом пользуются в народе левиты, как велика милость Господня к ним, какова их слава, и авторитет; и лишь затем, видя, что их дерзость зашла слишком далеко, предлагает им «испытание Божье»: пусть они наравне с Аароном попытаются возжечь курения перед Господом, а Господь сам решит, чьи претензии законны. Попытка Кораха оборачивается страшной карой: его самого и других недовольных левитов поглощает расступившаяся земля — и это служит доказательством кощунственности их претензий: Господь благоволит только к Аарону и его прямым потомкам — коэнам. Только им Он вручил право руководить (теперь и впредь) «царством священников». Первый рассказ — вполне естественная и живаядеталь истории Исхода: уставшие, разочарованные люди слабодушно ропщут против руководителя трудной затеи, их наказывают, другие в страхе замолкают, и поход продолжается. Второй рассказ производит впечатление неуклюжей вставки, вся цель которой состоит исключительно в прославлении Аарона и утверждении власти Ааронидов. Два эти рассказа явно написаны разными авторами, в разные времена и по разным причинам. И действительно: рассказ о реувенидах принадлежит тексту E-J, рассказ о Корахе сочинен и вставлен в этом место истории Исхода намного — позже — автором H. Еще более поздний редактор, для которого оба текста были одинаково древними и святыми, не решился выбрасывать что-либо и попросту постарался как можно более незаметно, пусть и чисто механически, соединить оба повествования. Все сказанное выше об особенностях текста H поддается обобщению: его автор как бы сознательно, шаг за шагом, противопоставляет Торе E-J «свою» версию Торы, последовательно проводящую идею трансцендентного Божества вместо антропоморфного Бога и идеал еврейской теократии, возглавляемой жрецами-коэнами вместо племенной демократии и Светской монархии. Текст H написан в идеологической полемике с текстом E-J; но если припомнить сказанное чуть выше о скрытой полемике «Дейтерономиста» с автором текста Н, то мы увидим любопытную закономерность: ВСЕ главные источники («документы») Торы написаны как идеологическое отрицание друг друга. Иудейский текст J записан в противовес израильскому тексту T; в ответ на их объединение тотчас возникает полемически противопоставленный им текст H, а еще через два поколения — текст «Дейтерономиста» (Йермиягу?), полемизирующий с H. Каждый из них проводит свои религиозные идеи, воплощая их в своих рассказах и в их композиции. Поэтому одна из самых поразительных особенностей Пятикнижия в целом состоит, пожалуй, в том, что какой-то безвестный (и, несомненно, гениальный) редактор ухитрился так продуманно и искусно соединить все эти четыре разных и внутренне ПОЛЕМИЧНЫХ документа, что они образовали единое целое, и притом — не просто целое, а такое целое, которое превышает сумму своих частей. Дублированные рассказы стали оттенять и углублять друг друга в литературном, психологическом и смысловом плане (что, конечно, никак не могло быть задумано ни одним из авторов, который и предполагать не мог, что его текст будет соединен с текстами его антагонистов); а сама концепция Бога (то есть еврейского монотеизма) обрела глубочайшие взаимодополняющие измерения — отвлеченной трансцендентности и антропоморфного человеколюбия, гневной справедливости и любовного милосердия, качественной непостижимости и диалогической близости. Такая редактура была, несомненно, творческим актом, который поставил редактора вровень с титанами T, J, H и D, составившими окончательный свод основных «источников» Торы. Кто мог быть этим редактором? Многие исследователи полагают, что составление канонического текста Пятикнижия происходило не в один прием, а через множество этапов, возможно, — в разные времена, и поэтому редакторов тоже было несколько. Мне более симпатична другая гипотеза, которая приписывает редактуру одному человеку — Эзре, тому ааронидскому священнослужителю и «книжнику, сведущему в Законе Моисеевом», второму (после Моисея) «законоучителю» еврейского народа, который в 458 году до н. э. вернулся в Иудею с предписанием персидского царя Артаксеркса учить народ «закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей». «Закон, находящийся в руке…» — это наверняка свиток Торы, и мы действительно знаем, что главным деянием Эзры было перезаключение Завета евреев с Господом (Эзра 10:3). Впрочем, может быть, это был вовсе не Эзра, а какой-нибудь иной, неведомый книжник тех же времен; а, может быть, редакторов и в самом деле было несколько. Послепленные времена темны и загадочны: неизвестно, что происходило с евреями в вавилонском плену и египетском галуте; неизвестно, куда исчезли (именно в это время) Ковчег Завета и Скиния; неизвестно, куда девались потомки дома Давидова Шешбазар и Зерубавель, приведшие назад в Иудею первую группу отпущенных из плена евреев в 537 г. до н. э. (они исчезают бесследно, так и не восстановив почему-то давидову династию), и так далее. От всего почти 150-летнего периода, начиная с разрушения Первого Храма (587 г. до н. э.) и до составления книги Эзры (после 458 г. до н. э.), сохранилось лишь несколько имен, названных Эзрой в его книге, упоминание о постройке Шешбазаром и Зерубавелем скромного и неказистого Второго Храма да рассказ об одном-единственном событии, которому, собственно, и посвящена книга Эзры, — о расторжении им еврейских браков с нееврейками. Понятно, что в отсутствие других сведений исследователи невольно хватаются за тот скудный набор фактов, который сообщает Эзра, и за него самого. Но все это не принципиально. Принципиальным является вывод, который мы можем теперь сделать на основании всего сказанного в предыдущих страницах этого очерка. Этот вывод, подкрепленный всей совокупностью собранных за прошедшие два столетия культурно-исторических, лингва-текстологических и других фактов и их научного анализа, состоит в том, что ТАНАХ (во всяком случае, Пятикнижие, ибо мы говорили здесь преимущественно о нем) писался (записывался) на протяжении многих сотен лет, разными людьми, в разные исторические эпохи, с разными целями. Таков, в самом кратком виде, суммарный итог всех библейских исследований. Подчеркнем, однако, снова: речь идет о составлении (порой на основе более древних источников) окончательных текстов. Это, несомненно, сделали люди. Но это не отвечает на вопрос: кто или что вдохновляло этих людей? Писали T, J, H и D «по откровению Божьему» или по собственному, чисто человеческому вдохновению — это было и остается вопросом веры. (В конце концов, ведь и устную Тору, когда ее записали, пришлось задним числом «сакрализовать», провозгласив, что и она была — вместе с Торой Письменной — дана Моисею на горе Синай, но с тех пор передавалась изустно, хотя — без искажения даже единой буквы за все эти столетия.) Напомним в этой связи, что когда-то, еще в XIV веке, Йосеф Бонфильс, первый еврейский ученый, провозгласивший по поводу одного из стихов Торы, что «Моисей этого не писал», многозначительно добавил! «Впрочем, что мне до того, писал это Моисей или другой пророк, коль скоро слова всех этих людей суть истина, явленная в пророчестве». Действительно, тексты могут быть написаны разными людьми; истина, в них содержащаяся, может быть при этом единой. Неслучайно еврейские религиозные мыслители, размышляя над теми же противоречиями и разночтениями Торы, что и светские библеисты, всегда использовали для объяснения этих загадок принцип объединения противоположностей, полагая, что только в таком объединении и вскрывается истинная, глубинная суть кажущегося «несообразным» отрывка. Вот один из примеров такого подхода. Книга Исхода (12:15), говоря, о празднике Песах, предписывает: «СЕМЬ дней ешьте пресный хлеб» — между тем как «Второзаконие» (16:8) говорит: «ШЕСТЬ дней ешь пресные хлебы»; и раввины, естественно, вынуждены объяснить, как совместить оба этих предписания. Они разъясняют это следующим образом: «Седьмой день был сначала включен в более полное («объемлющее») высказывание, а затем изъят из него». То, что изъято из более полного высказывания, предназначено для более глубокого уяснения нами самого этого высказывания. Следовательно, если в седьмой день это (съедение пресного хлеба. — Р.Н.) возможно, но не обязательно, то и во все остальные дни это возможно, но не обязательно. Может ли быть, что так же, как в седьмой день это возможно, но не обязательно, так и в остальные, ВКЛЮЧАЯ ПЕРВУЮ НОЧЬ? Решает сказанное (Исход 12:18): «В первый месяц С ВЕЧЕРА ешьте пресный хлеб…» Стало быть, в первую ночь есть пресный хлеб заповедано (а в прочие, как видим, не обязательно; обязательным и безусловным. является только ЗАПРЕТ есть хлеб дрожжевой (как и вообще употреблять «хамец»). Я хотел было завершить свой рассказ еще несколькими примерами такого же рода, но он без того затянулся и буквально взывает к немедленному завершению: слишком много пришлось бы еще рассказывать — и о современных взглядах на загадки пророческих и других книг ТАНАХа; и о нынешних, после Гункеля и Вебера, Луццато и Кауфмана, представлениях об эволюции еврейской религии; и о поразительных тайнах ТАНАХа в целом — постепенном «сокрытии Божьего лица» из истории и нарастании сферы свободы человеческой воли, равно как и о многом другом, не менее интересном — и, увы, не менее пространном. Последуем же примеру Шехерезады и прекратим дозволенные речи. Лишь поблагодарим напоследок долготерпеливых читателей, которые сопровождали нас на протяжении всего этого многостраничного пути сквозь лабиринты светской библеистики. >ГЛАВА 4 В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА (по мотивам книги Г. Хэнкока «Знак и печать») Сказано в Книге Исхода, в обращении Господа к Моисею: «Сделайте ковчег из дерева ситтим; длина ему два локтя с половиною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя… И положи крышку на ковчег сверху; в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе. Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою… о всем, что не буду заповедыватьчрез тебя сынам Израилевым». И сказано в первой книге Царей (III книге Царств), в речи Соломона при освящении Первого Иерусалимского Храма: «Я вступил на место отца моего Давида, и сел на престоле Израилевом… и построил храм… и приготовил там место для ковчега, в котором Завет Господа, заключенный Им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли Египетской». С этим Ковчегом (Скинией) Завета в еврейской истории связана странная и до сих пор до конца не проясненная загадка. Исход (или «вывод») евреев из «земли Египетской» датируется современными учеными серединой XIII века до новой эры; царствование Соломона — серединой X. Их разделяет, таким образом, около трех столетий. События этих столетий — скитания в пустыне, обретение Торы, завоевание Ханаана, эпоха Судей, царствования Саула и Давида — весьма подробно описаны в Библии. В этих описаниях Ковчег Завета, сооруженный Моисеем в самом начале 40-летних странствий по пустыне, упоминается не менее 200 раз. Но после воцарения Соломона Ковчег навсегда исчезает из поля зрения еврейских источников. Этот странный и необъяснимый факт не может не вызывать недоумения. Видимо, что-то произошло в ту пору с Ковчегом. Но что? Огромный вопросительный знак повисает над древней еврейской историей. Первым приходит на ум предположение: а, может, Ковчег исчез? Был-похищен или перенесен куда-то и спрятан? Но Библия не могла бы умолчать о такой трагической утрате. Сами евреи посягнуть на Ковчег не могли: то была, как-никак, национальная святыня! — а завоеватели в те годы к Иерусалиму еще не подступали. Тогда, быть может, дело обстояло проще: с появлением Храма Ковчег утратил былое значение? Но ведь Храм и был построен для хранения Ковчега. Опять неувязка. К тому же и первое, и второе предположения противоречат духу одного из последних упоминаний о Ковчеге, которое мы находим в книге пророка Иеремии. Там, в главе 3-й, сказано о грядущих временах: «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни… не будут говорить более: «Ковчег Завета Господня»; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет». Иеремия жил, как считает, современная наука, в конце VI века до новой эры. И если пророк говорит об эпохе, когда Ковчега «уже не будет» и к нему «не будут приходить», как о далеком будущем, значит — в его время Ковчег существовал и к нему приходили. Более того — вся тональность этого отрывка свидетельствует, что во времена Иеремии Ковчег все еще рассматривался как важнейшая национальная святыня. Ведь Иеремия известен как пророк, восставший против внешней религиозной символики — жертвоприношений в Храме, храмовых богослужений и так далее. В сущности, приведенный выше отрывок выдержан в том же духе: вот сейчас вы поклоняетесь Ковчегу, а придет время, исполнится завет Господень, и поклонение это станет излишним. Стало быть, современники еще поклонялись. Утопические времена, описанные Иеремией, не наступили, Завет не «исполнился», но поклонение Ковчегу, тем не менее, прекратилось. В конце жизни Иеремии, в 597 г. до н. э., знаменитый вавилонский владыка Навуходоносор штурмом взял Иерусалим, разрушил Храм и увел часть народа в «вавилонский плен». И поскольку Иеремия был самым последним, кто упоминал Ковчег в качестве существующего, историки получили отличную возможность связать решительное исчезновение всяких дальнейших упоминаний о Ковчеге с этими трагическими событиями. Теперь уже не было надобности в искусственных предположениях. Загадка объяснялась просто и логично. Ковчег был захвачен победителями при взятии Храма вместе со всей прочей добычей и увезен в Вавилон — гласила одна из версий. Ковчег был спрятан последними жрецами Храма, а после возвращения народа из плена уже не найден — гласила другая. Но была еще третья версия, самая романтическая. Она не довольствовалась предложенными объяснениями и снова ставила вопрос: почему источники упоминают о разрушении Храма, но ни словом не поминают судьбу хранившегося там Ковчега? И давала ответ: а потому, что ко времени взятия Иерусалима Ковчег давно уже исчез из Храма и был укрыт в совершенно иных местах, далеко от Страны Израиля, а умолчание ТАНАХа об этом, что ни говори, сенсационном факте продиктовано вполне серьезными и вескими причинами… Эта версия бытовала в еврейских и нееврейских кругах долгие столетия. Она породила множество догадок о местонахождении Ковчега и длинную вереницу его искателей, а уже в наши дни отразилась, хоть и в совсем уж вульгарной форме, в фильме «Искатели утраченного ковчега», а также в незаслуженно нашумевшем детективе Д. Брауна «Код да Винчи» (почти дословно повторяющем серьезную книгу М. Бежана, Р. Лея и Г. Линкольна «Святая кровь и святой Грааль»). Несколько лет назад на прилавках книжных магазинов (в том числе западных, российских и израильских) появилась книга английского журналиста Грэма Хэнкока «Знак и печать». Эта объемистая (ровно 600 страниц) книга сразу сделалась сенсацией года. И неудивительно: Хэнкок утверждал, что ему, наконец, удалось разгадать тайну пропавшего Ковчега, установить место его нахождения и проследить всю его загадочную судьбу с самого момента исчезновения из Храма. Многолетние поиски Ковчега привели автора из Лондона в далекую Эфиопию, оттуда в Шартр и снова в Лондон, а затем — назад в Эфиопию. Рассказ и гипотезы Хэнкока настолько интересны сами по себе, что даже если и не убеждают читателя до конца, заслуживают подробного изложения. Любители исторических загадок наверняка найдут в них пищу для увлекательных размышлений. Вопреки всем правилам детективного повествования, Хэнкок начинает свой рассказ сразу с разгадки. Как мы увидим, у него есть на то основания: напряженность сюжета от этого не только не уменьшается, но даже возрастает. Так вот, с этим-то дальним прицелом на постепенное усложнение загадки Хэнкок в первой же главе повествует о том, как в 1983 году судьба забросила его в Эфиопию. Интерес к старине привел его в древний город Аксум, что стоит на одном Из притоков Голубого Нила. В книгах, посвященных истории Эфиопии, он прочел, что, согласно местным легендам, именно в Аксуме, в одном их старинных храмов, хранится знаменитый Ковчег Завета, столь многократно упоминаемый в Библии. Хэнкоку удалось разыскать этот храм и разговорить его настоятеля. Тот подтвердил, что легенда истинна: в его храме действительно находится тот выложенный золотом деревянный ящик, в который Моисей некогда поместил Иерусалимский Храм. — Оттуда, — сказал старик, — эта святыня вскоре была принесена в Эфиопию. — Кем? — нетерпеливо спросил Хэнкок. — Из ваших легенд я знаю только, что знаменитая царица Савская была владычицей Эфиопии, именно отсюда отправилась в Иерусалим к Соломону и там родила ему сына… — Его звали Менелик, — подхватил настоятель, — и хотя он был зачат в Иерусалиме, но родился в Эфиопии, куда царица вернулась, едва узнала, что понесла. В 20 лет Менелик и сам отправился в Иерусалим и какое-то время жил при Дворе отца. Но уже через год он стал ощущать, что придворные завидуют его возвышению и требуют, чтобы Соломон удалил от себя принца. Видя это, Менелик решил не искушать судьбу и вернуться домой. Царь дал сыну в спутники самых знатных юношей своего двора, и среди них — Азарию, сына верховного жреца Иерусалимского Храма. Этот-то Азария перед уходом и украл Ковчег из Святая Святых Храма, но признался в этом Менелику. Менелик счел, что такое воровство не могло свершиться без воли Господней, и потому оставил Ковчег у себя. Так Ковчег, в конце концов, и попал в Аксум… Рассказ был похож на тысячи других аналогичных легенд, но, в отличие от них, имел ту особенность, что мог быть немедленно проверен. — Могу ли я увидеть этот Ковчег? — осторожно спросил Хэнкок. — Нет, — ответил старик. — Только мне одному разрешено к нему приближаться. Но каждый год, в январе, мы выносим его для специальной церемонии Тимкат… — Значит, я смогу увидеть его в январе? — Не знаю, — уклончиво произнес настоятель. — В стране идет гражданская война, вокруг много злых людей, я не уверен, что в этом году мы вынесем Ковчег на всеобщее обозрение… Но и тогда вы ничего не сможете увидеть — Ковчег завернут в ткани. — Зачем?! — Чтобы защитить людей от него. Он способен проявить страшную силу. Хэнкок явился в храм подготовленным. Накануне он беседовал с одним из эфиопских администраторов в Аксуме и именно от него впервые услышал легенду о Ковчеге. По словам администратора, свергнутый незадолго до того император Хайле Селассие считал себя 225-м прямым потомком пресловутого Менелика, сына Соломона и царицы Савской, и даже именовал себя так в некоторых официальных документах. Сама легенда о Ковчеге, несомненно, была очень древней, поскольку называла первым местом его хранения храм Богородицы, построенный в Аксуме в самом начале IV века, когда христианство только что проникло в Эфиопию. В XVI в., во время вторжения в страну мусульманских полчищ, Ковчег был перепрятан, а затем, сто лет спустя, по утверждению легенды, возвращен на прежнее место и лишь в 1965 году перемещен в более пышный храм, построенный Хайле Селассие. Именно там Хэнкок и встретился со старым настоятелем. Дела Хэнкока в Эфиопии подходили к концу, продолжать расспросы о судьбе Ковчега в той накаленной эфиопской обстановке показалось ему опасным, и он покинул страну, чтобы, вернувшись в Лондон, обратиться за консультацией к специалистам. Одним из лучших знатоков эфиопских древностей считался в Великобритании профессор Панкхерст, основатель императорского Института эфиопских исследований в Аддис-Абебе, и Хэнкок направился к нему. Панкхерст подтвердил, что легенда о Менелике бытует в Эфиопии с незапамятных времен, а самая первая ее письменная версия содержится в манускрипте XIII века, именуемом «Кебра Нагаст». Сам Панкхерст, однако, не очень верил этой легенде. Связи между Эфиопией и древним Израилем, несомненно, существовали: эфиопская культура неслучайно имеет сильный привкус иудаизма, а одно из племен страны, фалаши, совершенно явно исповедует еврейскую религию; но это может быть результатом длительных контактов с древней еврейской общиной в Йемене, возникшей в I в. н. э., после завоевания Палестины римлянами. Что же касается Ковчега, то во времена Соломона он просто физически не мог быть доставлен в Аксум, потому что город этот возник лишь через восемь столетий после смерти Соломона. Разумеется, он мог быть перенесен в любое другое место, но легенда содержит и многие другие анахронизмы и сомнительные моменты. Например, в ней говорится, что со времен появления Ковчега в Эфиопии все христианские церкви усвоили обычай помещать в своих алтарях миниатюрные его копии, получившие название «табот» (сам Ковчег иногда именуется поэтому «Табота Цион»). Знает ли Хэнкок, как выглядят эти «таботы»? Нет? Так вот — это попросту несколько деревянных брусков, аккуратно уложенных в деревянный ящик. Если это — копия Ковчега, то как же выглядел тогда настоящий Ковчег? — Выходит, тут и конец красивой легенде? — пробормотал Хэнкок и разочарованно усмехнулся. Он не знал тогда, что для него это только начало. * * *Итак, эфиопская легенда о Похищении Ковчега из Иерусалима оказалась, по-видимому, красивой выдумкой. И, тем не менее, мысль о ней продолжала жить где-то в подсознании Хэнкока и заставляла его время от времени возвращаться к размышлениям о загадке Ковчега. Порой его возвращали к ней случайные упоминания в печати. Так, в одной из английских газет он натолкнулся на перепечатку рассказа группы израильских туристов, которые побывали на торжественной и таинственной религиозной церемонии в эфиопском городе Алибела, неподалеку от Аксума, где Хэнкок некогда разговаривал с хранителем Ковчега. Туристы рассказывали, что в этом древнем городе, с его высеченными в красных скалах одиннадцатью христианскими церквами, они стали свидетелями многотысячного ежегодного шествия, во главе которого выступали наряженные в ритуальные одеяния священнослужители, несшие на плечах покрытый тканью «Ковчег Завета». Этот Ковчег — или что бы там, ни было под тканью — священники вносили в шатер на берегу озера, и всю ночь, пока Ковчег пребывал в шатре, проводили в молитвах над ним. На следующий день, после торжественного молебна, который открывал сам архиепископ Аксума, Ковчег возвращался в храм и вновь поступал в распоряжение своего «хранителя». На все просьбы израильтян показать им Ковчег хранитель отвечал, что это невозможно. «Ковчег — это огонь живой, страх Господень, и он поглотит любого, кто явится к нему без спроса». Эти слова живо напомнили Хэнкоку ответ хранителя на его собственную просьбу показать Ковчег. Были и другие поводы для воспоминаний. В ходе работы над очередной книгой об Эфиопии Хэнкоку пришлось заняться изучением фалашей, и это заставило его прочесть, наконец, перевод того знаменитого манускрипта «Кобра Нагаст», о котором ему рассказывал профессор Пэнкхерст и в котором содержалась самая ранняя письменная версия эфиопской легенды о царице Савской и царе Соломоне, их сыне Менелике и похищении им Ковчега Завета из Иерусалимского Храма. И снова легенда произвела неотразимое впечатление на Хэнкока, хотя к тому времени он уже знал, что историки считают царицу Савскую вовсе не эфиопской, а йеменской владычицей, трон которой находился в Сабе, или Саве, и поныне остающейся столицей Йемена. Но самое глубокое впечатление, по сути — подлинное потрясение, заставившее Хэнкока. снова вернуться к поискам Ковчега, ожидало его впереди. И настигло оно его в совершенно неожиданном месте. Летом 1989 года, закончив упомянутую книгу об Эфиопии, он вместе с семьей отправился в отпуск во Францию. Отпускные маршруты привели его в город Шартр, и он решил осмотреть тамошний знаменитый собор — чудо готической архитектуры, сооружение которого было начато в XI и завершено в XII веке. Путеводители рассказывали, что строители собора широко пользовались так называемой «гематрией» — древним еврейским шифром, связывающим числа с буквами алфавита, и с ее помощью зашифровали в архитектурных пропорциях собора множество сакральных тайн. Такие же сложные и понятные только посвященному знаки были скрыты в других деталях собора — в его скульптурах, арках и витражах. Вооружившись путеводителем, Хэнкок провел все утро в разглядывании этих сложнейших архитектурных ребусов. Проголодавшись, он направился в кафе напротив. Каково же было его удивление, когда он увидел вывеску. Кафе называлось «Царица Савская». Как очутилась здесь героиня древней легенды? Хозяин кафе охотно объяснил: «Прямо напротив, в южной арке собора, стоит статуя этой царицы». Действительно, присмотревшись к скульптурам и сверясь с путеводителем, Хэнкок убедился, что среди одиннадцати скульптурных фигур арки, изображавших еврейских пророков и царей, была и фигура царицы Савской с цветком в левой руке. Путеводитель извещал также, что арка с ее фигурами была сооружена в первой четверти XIII века как раз в то время, когда в Эфиопии был написан манускрипт «Кебра Нагаст», содержавший историю Менелика и Ковчега. Появление языческой царицы среди героев еврейской истории было довольно странным. Библейский рассказ о ней ни словом не упоминает о ее переходе в иудаизм, который мог бы объяснить ее соседство с Соломоном и Давидом в арке собора. Зато в «Кебра Нагаст», напротив, утверждалось, что во время пребывания в Иерусалиме царица приняла иудаизм. И дополнялось это утверждение рассказом о том, как ее сын, принц Менелик, тоже бывший правоверным иудеем, принес иудаизм в Эфиопию. Но как могли создатели Шартрского собора узнать о легендах, содержащихся в манускрипте, написанном почти в то же время в далекой Эфиопии? С другой стороны, совпадение дат наводило на размышления. Охваченный этими размышлениями Хэнкок снова заглянул в путеводитель и к своему изумлению обнаружил, что в соборе есть еще одна статуя царицы Савской. Она находилась в северном портале, куда Хэнкок торопливо и направился. В правой арке портала он увидел фигуру царицы, у ног которой свернулся маленький африканец. Путеводитель сообщал, что это фигурка «эфиопского слуги». Иными словами, путеводитель недвусмысленно отсылал царицу в Африку, как будто создатели собора действительно были уверены в ее эфиопском происхождении, на котором настаивала книга «Кебра Нагаст». Но еще более любопытным было то, что на колонне, отделявшей статую царицы от стоявшей в центральной арке статуи легендарного библейского царя-жреца Мельхиседека, Хэнкок обнаружил изображение небольшой тележки с установленным на ней ящиком или сундуком. Тележка стояла точно посредине между двумя фигурами, а под ней красовалась какая-то плохо различимая надпись. Угадать можно было только два слова: Archa Cederis — но и их Хэнкоку оказалось достаточно, потому что первое из этих слов тотчас напомнило ему английское «Ark», то есть «Ковчег». В лихорадочном возбуждении он начал рассматривать колонну и, обойдя ее кругом, обнаружил еще одно каменное изображение той же тележки. На этот раз над ней склонился какой-то человек, а надпись под изображением тоже по-латыни — была подлинной. Что особенно поразило Хэнкока — так это то, что, на сей раз, тележка была изображена удаляющейся от Мельхиседека и приближающейся к царице Савской. Как будто бы строители собора намеренно хотели запечатлеть в камне эфиопскую легенду о похищении Ковчега из древнего Израиля (символом которого был Мельхиседек, поименованный в Библии «царем Салема», что обычно толковалось как древнее название Иерусалима) и переход его во владение Эфиопии (которую символизировала фигура царицы Савской). Хэнкок заметил еще, что царица здесь изображена без цветка, зато Мельхиседек держит в правой руке кадило (очень похожее на те, которые он видел в эфиопских церквях), а в левой — что-то вроде чаши или кубка, но не с жидкостью, а с каким-то цилиндрическим предметом внутри. На сей раз путеводители не дали ответа. Правда, в путеводителе надпись, сопровождающая изображение тележки с Ковчегом, приводилась полностью, но познаний Хэнкока в латыни оказалось недостаточно, чтобы этот текст понять. Что же касается странных предметов в руках Мельхиседека, то один путеводитель сообщал, что это символы христианского причастия (поскольку легендарный царственный жрец считается предшественником Христа), зато другой утверждал нечто неожиданное: «Мельхиседек держит в левой руке чашу святого Грааля, в которой находится Камень» — и добавлял: «Это позволяет связать данную фигуру с известной поэмой Вольфрама фон Эшенбаха (согласно некоторым преданиям, члена ордена тамплиеров), считавшего, что Грааль — это Камень». В истории Ковчега — и без того запутанной — явно проступали новые, загадочные детали. Тележка с Ковчегом, направлявшаяся от статуи Мельхиседека к статуе царицы Савской, явно связывала историю похищения Ковчега (если создатели собора действительно хотели рассказать о нем) с легендарным «царем Салема», а он был изображен, если верить путеводителю, с чашей святого Грааля в руке. Таким образом, эфиопская легенда о Ковчеге неожиданно переплеталась с христианской легендой о Граале. Тут было над чем подумать. Но в одиночку распутать все эти нити Хэнкок не мог — ему нужна была квалифицированная помощь. Он нашел ее в Тулузе, где в это самое время проводил свой отпуск его давний знакомый, известный историк искусства профессор Питер Ласско. С трудом дождавшись встречи, возбужденный Хэнкок обрушил на Ласско поток недоуменных вопросов. «Что означает чаша в руке Мельхиседека? Могла ли проникнуть в средневековую Европу эфиопская легенда? Что гласят латинские надписи на колонне Шартрского собора?» Легче всего оказалось ответить на последний вопрос. Слою Arena действительно обозначало «Ковчег». Зато Ctdtris могло быть либо искаженным словом Foederis, то есть «Завет», либо необычной формой латинского глагола «cedere», то есть «отдавать» или «отпускать на волю». В сочетании это давало либо просто «Ковчег Завета», либо «Ковчег, который ты отдашь». Что же касается второй — более длинной надписи, то ее Ласско истолковал как «Сим отпускается Ковчег, который ты отдаешь» или как «Здесь скрыт Ковчег, который ты отдаешь» — в зависимости от того, каким образом были искажены резчиками старинные латинские слова. С толкованием Мельхиседека как символа древнего Израиля Ласско, однако, решительно не согласился: «Мельхиседек большинством ученых воспринимается как библейский прообраз Христа, поэтому чаша и прочие предметы в его руках, скорее всего, — символы христианского причастия». А вот на второй вопрос Ласско затруднился ответить: «Нет, я никогда не слышал, чтобы строители Шартрского собора вдохновлялись какими-либо иными рассказами, кроме библейских и христианских. Я не знаю ни одного источника, где бы отмечалось влияние эфиопских, да и вообще африканских мотивов на архитектуру собора…» Потом он замолчал, задумался и неожиданно добавил: «Впрочем, ошибаюсь… Мне кажется, что когда-то я читал статью, в которой говорилось о проникновении эфиопских идей в средневековую Европу. И знаете — речь там шла именно о святом Граале! Насколько я помню, автор утверждал, что Вольфрам фон Эшенбах находился под влиянием какой-то эфиопской христианской традиции». — «Да кто он такой, этот Эшенбах?» — нетерпеливо вскричал Хэнкок. «О, это довольно известная личность. Один из первых, кто писал о святом Граале. Он написал целую книгу о его поисках. Она называется «Парсифаль»…» — «По-моему, так называется опера Вагнера…» — неуверенно пробормотал Хэнкок. «Вот именно! Вагнер вдохновлялся романом Эшейбаха». — «И этот Эшенбах… когда он жил?» — «В конце двенадцатого — начале тринадцатого века. Тогда же, когда создавался северный портал Шартрского собора». Какое-то время оба собеседника молчали. Потом Хэнкок с надеждой спросил: «Эта статья, о которой вы упоминали, — кем она написана?» — «Убейте, не помню, — сконфуженно ответил Ласско. — Это было лет двадцать назад. Помню только, что это был какой-то Адольф. Имя немецкое, и оно связалось в моей памяти с именем Эшенбаха — он ведь тоже был немец». Теперь в руках Хэнкока была уже не одна, а целых три загадки: загадка исчезнувшего Ковчега, загадка его непонятной связи с легендой о святом Граале и загадка имени автора той давней статьи, который, судя по воспоминаниям Ласско, уже двадцать лет назад заинтересовался той же проблемой. Прошло больше года, прежде чем он нашел ответ на третью загадку. И этот ответ действительно пролил некий свет на первые две. Но, как это часто бывает, в более ярком, свете стали видны новые, еще более загадочные детали. * * *Итак, Хэнкок обнаружил загадочную цепочку: древняя Эфиопия — средневековая Франция, легенда о похищенном Ковчеге — легенда о святом Граале. Но что могло связывать эти отдаленные друг от друга места? Что могло быть общего между древнееврейской святыней и мистическим христианским сокровищем? Если о Ковчеге история, как мы уже знаем, молчала, то о Граале она упоминала часто и пространно. Стоило Хэнкоку погрузиться в эти упоминания, как поиск немедленно привел его к любопытным и неожиданным выводам. Самым известным источником сведений о фантастической чаше Грааля был знаменитый роман Томаса Мэллори «Смерть Артура». Написанный в XV веке, этот свод легенд о знаменитом английском короле Артуре, за Круглым столом которого собирались самые выдающиеся рыцари страны, посвящал Граалю одну из семи своих книг, озаглавленную в духе эпохи витиевато и велеречиво: «Повесть о святом Граале в кратком изводе с французского языка, каковая есть повесть, трактующая о самом истинном и самом священном, что есть на этом свете». Начиналась повесть с того, что однажды ко двору короля Артура явилась девица благородных кровей, которая попросила помощи королевских рыцарей в неком важном и запутанном деле. Эта просьба, которую рыцари, разумеется, сочли необходимым уважить, привела к запутанной череде невероятных приключений славного рыцарского коллектива, включавшего сэра Ланселота, сэра Галахада, сэра Гавейна и других сэров. В конце концов, им удалось найти искомый заколдованный замок, в глубинах которого обнаружилась скрытая комната, в центре которой виднелся серебряный престол, на каковом престоле покоилась некая таинственная чаша. Чаша эта оказалась способной на всевозможные необыкновенные чудеса. Одним из первых таких чудес было явление благообразного седовласого старца, который сообщил рыцарям, что он является первым христианским епископом Британии Иосифом Аримафейским, умершим двести лет назад. Поведав это, — старец исчез, уступив место самому Иисусу Христу, который сообщил пораженным рыцарям, что из найденной ими чаши он некогда ел и пил на Пасху, а позже ученик его, вышеупомянутый Иосиф Аримафейский, собрал в нее его кровь, пролитую во время распятия. Из примечаний к книге Хэнкок узнал, что упоминание о ее французском, первоисточнике не было случайным — сочиняя свой роман в одиночестве тюремной камеры, куда его привели политические авантюры, английский дворянин Томас Мэллори действительно вдохновлялся более ранними французскими хрониками. Обратившись к этим хроникам, Хэнкок столь же быстро выяснил, что у их авторов не было еще никаких представлений ни о священной чаше, ни об Иосифе Аримафейском, ни об «Иисусовой крови». Король Артур в этих ранних рыцарских романах отправлялся не на поиски заколдованного замка, а, наподобие многих фольклорных героев, спускался в царство мертвых и искал там вовсе не чашу, а сказочный «котел изобилия» по имени «Анвен». Лишь позднее, к началу XII века, в романах артурова цикла стала появляться фигура пресловутого Иосифа, которая все чаще и чаще наделялась чертами «первокрестителя» бриттов и англосаксов. Одновременно с этим стала упоминаться в этих романах и христианская легенда о некой чаше, в которую тот же Иосиф якобы собрал кровь Иисуса. А потом произошло «сращение» двух предметов: артуров «котел изобилия» слился в воображении хронистов с чашей Иосифа. Даже название чудесной чаши пошло отсюда: кельтское слово «сгуо!» (корзина изобилия) превратилось в старофранцузское «sang real», или «истинную кровь», а это, в свою очередь, стало читаться, как «san great», то есть святой Грааль. С этого момента похождения рыцарей короля Артура стали приобретать совершенно новый, христианско-мистический смысл. Теперь это были уже не просто странствия в поисках схваток и приключений, а целенаправленные поиски чаши святого Грааля, предпринимаемые ради содержащейся в ней Божественной благодати. Чудесная чаша начинает появляться также в живописи и скульптуре того времени, в том числе и на стенах тогдашних соборов, вроде Шартрского. А немного позже она уже оказывается в центре пространных романов, посвященных ее поиску и обретению. Первый такой роман написал в конце XII века знаменитый бретонский автор Кретьен де Труа, создатель пятитомного цикла о короле Артуре. О Граале там говорится много и возвышенно: он-де способен на то и на се, и на это, и вообще он «поддерживает жизнь во всей ее силе», но, как ни странно, при этом ни разу не сказано, как же выглядит этот необыкновенный предмет. Из контекста же совершенно невозможно понять, то ли это действительно чаша, то ли сосуд побольше, вроде супового котла (в одном месте Кретьен так и заявляет: герою, мол, подали в Граале очередную порцию пищи), то ли еще что-то третье. На мысль о «третьем» Хэнкока навело чтение второго по времени появления прославленного романа о Граале — написанной уже в начале XIII века книги немецкого автора Вольфрама фон Эшенбаха «Парциваль». Тут Грааль вообще именовался… «Камнем». В тексте Эшенбаха прямо и недвусмысленно говорилось: «Как бы ни был болен человек, с того дня, что он увидит Камень, он проживет, по меньшей мере, неделю, и даже цвет лица у него не изменится. Такая сила дана этому Камню над смертными, что их плоть и кости вскоре делаются такими же, как у молодых. Камень этот называется Грааль». История явно усложняется. Оказывается, в момент своего первого появления в литературе Грааль не имел фиксированного облика: Кретьен представлял себе что-то вроде сосуда, Эшенбах — что-то вроде камня. Как же он превратился в «чашу»? Кто был «виновником» этого превращения? Как и в детективных романах, исторический «преступник» тоже оставляет за собой следы, и в данном случае цепочка таких следов вела, как вскоре выяснил Хэнкок, к знаменитому в раннем средневековье монашескому ордену цистерцианцев. Это его братья первыми составили свод апокрифов под общим названием «В поисках святого Крааля», после появления которого загадочный «сосуд» из романа Кретьена и «Камень» из книги Эшенбаха были полностью вытеснены новым представлением о Граале как о чаше с кровью Христовой. Но вскоре представление это претерпело еще один неожиданный и странный поворот. В конце XII века орден цистерцианцев был преобразован и устроен совершенно по-новому. Инициатором и руководителем этого преобразования был знаменитый церковный деятель того времени — епископ Бернард Клервосский. Влияние Бернарда сказалось не только на деятельности ордена цистерцианцев и на христианском богословии; он наложил свой отпечаток также на тогдашнюю церковную живопись и архитектуру. А одной из основных его идей в этой области было символическое отождествление Богородицы со «священным сосудом», а проще говоря — с чашей Грааля. Подобно тому, как чаша эта, согласно легенде об Иосифе Аримафейском, содержала Иисусову кровь, чрево Богородицы в свое время содержало Иисусову плоть. Вот почему в скульптурах соборов, посвященных Богородице, строительство которых было вдохновлено Бернардом Клервосским, так часто появлялось изображение-чаши Грааля — это был попросту символ девы Марии. Но у Бернарда, оказывается, была еще одна навязчивая идея. Он считал, что дева Мария подобна не только сосуду с плотью Христовой, но и хранилищу Христова учения! Вместе с Божественным младенцем ее чрево содержало в себе также и будущий Завет Христа с человечеством — так называемый Новый Завет, который, по убеждению христиан, отменил и заменил собой Ветхий Завет, заключенный Богом с праотцем Авраамом. И вот тут-то и возник в сознании Бернарда тот неожиданный поворот мысли, о котором мы только что упомянули. Если дева Мария хранила в себе Новый Завет в облике Иисуса, то она была подобна в этом тому знаменитому Ковчегу, который, согласно Библии, хранил в себе Ветхий Завет в виде скрижалей Моисея! И вот в молитвах, сочиненных епископом из Клерво, появляется выражение «Богоматерь Ковчега Завета». Родившись в XII веке, оно сохранилось до нашего времени: в Кирьят-Йаарим, что между Тель-Авивом и Иерусалимом, стоит построенная в 1924 году доминиканская церковь, которая так и называется «Храм девы Марии-Ковчега Завета». И украшен он изображением Ковчега. Итак, дева Мария и «живой Грааль» с его Иисусовой кровью, и «живой Ковчег» с его каменными скрижалями. Это позволяет понять, почему Мельхиседек в арке Шартрского собора — посвященного, кстати, той же деве Марии! — держит в руках чашу Грааля, а рядом с ним находится скульптурное изображение Ковчега. Остаются, однако, две загадочные детали: «камень» в чаше, что в руках Мельхиседека, и тележка, на которой лежит Ковчег. Камень в чаше Грааля явно намекает на очень архаичное, еще доцистерцианское, эшенбаховское толкование Грааля как «Камня», а тележка напоминает об эфиопской легенде, рассказывающей о похищении Ковчега из Иерусалима и транспортировке его в Эфиопию. И тут в мозгу Хэнкока вспыхнула дерзкая догадка: а не могло ли быть так, что именно эта эфиопская легенда, проникнув в христианскую Европу, и легла здесь в основу рассказа о чаше святого Грааля? Вообразим такую цепочку: европейским христианам известен евангельский рассказ о чаше, в которую тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого учителя; с другой стороны, имеются смутные воспоминания, что какой-то Иосиф когда-то пришел из Иерусалима проповедовать христианство; а? с третьей, становится популярной легенда, что кто-то унес из того же Иерусалима Ковчег Завета, который есть символ девы Марии, которая, в свою очередь, есть символ чаши с кровью Иисуса. Так, может, чаша эта и есть вместилище каменных скрижалей, унесенное не каким-то там Менеликом, а Иосифом, и не в Эфиопию, а в Европу?! Если это так, то никакой чаши Грааля никогда и не было. В обоих рассказах — о короле Артуре и о принце Менелйке — речь шла не о двух разных предметах, а об одном и том же — и предметом этим в обоих случаях был утраченный Ковчег! Догадка была действительно дерзкой. Но хуже того — она была еще и фантастичной. В самом деле, даже согласившись с тем, что святой Грааль — это просто Ковчег Завета, как объяснить проникновение эфиопской легенды в средневековую Европу? И не просто проникновение, но и такое распространение, которое позволило Вольфраму фон Эшенбаху назвать Грааль «Камнем», а великому Бернарду Клервосскому связать оба предмета в единый религиозный символ? Мыслимо ли это и как это могло произойти? Свет на загадку пролила та статья, о которой в давнем разговоре с Хэнкоком упомянул, если помните, профессор Ласко. В конце концов, Хэнкок все-таки статью эту разыскал. Ее автором оказалась известная медиевистка (специалистка по средним векам) Елена Адольф. Название статьи было сложным и академически занудным: «Новые соображения о восточных источниках романа «Парциваль» Вольфрама фон Эшенбаха». Одно слово в этом названии приковало внимание Хэнкока: «ВОСТОЧНЫЕ…» Он трясущимися руками развернул журнал. И сразу же понял: да, Елена Адольф утверждает, что Эшенбах «знал историю Грааля в ее восточном, точнее — эфиопском, варианте». Эфиопский вариант легенды о Граале… Это означало, что его дерзкая гипотеза переставала, по крайней мере, быть фантастичной. Ибо слова Елены Адольф Давали этой гипотезе первое, но зато вполне серьезное подтверждение. И подталкивали мысль к новому поиску. Следы утраченного Ковчега, несомненно, следовало искать в Эфиопии. Елену Адольф, эту авторитетную специалистку по средневековой литературе, интересовал чисто литературоведческий вопрос: почему Вольфрам фон Эшенбах, взявшись завершить незаконченный роман Кретьена де Труа о поисках святого Грааля, вдруг повернул своего «Парцифаля» в совершенно неожиданную сторону — превратил тот Грааль, что у Кретьена выглядел скорее как сосуд, в какой-то непонятный «Камень»? Эту загадку она объясняла тем, что Эшенбах, судя по всему, был знаком с эфиопским источником под названием «Кебра Нагаст» — тем самым, в котором рассказывается история похищения иерусалимского Ковчега Завета Менеликом, сыном царя Соломона и царицы Савской, первым «царем Эфиопии». Легенда из «Кебра Нагаст», утверждала Адольф, видимо, произвела на Эшенбаха такое впечатление, что он решил как-то совместить ее с легендой о Граале. Может быть, он рассчитывал, что это сделает его роман еще более популярным среди читателей, чем роман Кретьена. * * *Елена Адольф не пыталась объяснить, каким образом эфиопская легенда могла попасть в средневековую Европу. Ее как литературоведа это и не особенно интересовало. Она лишь мельком заметила, «что переносчиками предания могли быть еврейские купцы, которые в те времена смело странствовали по различным частям света, наверняка бывали в Эфиопии, где было свое иудейское население, фалаши, а уж в Европе и вообще чувствовали себя как дома». Хэнкока, напротив, не интересовали литературные влияния. Ему было куда важнее, что Адольф тоже, в сущности, связала Грааль с Ковчегом. Но его предположения шли куда дальше, чем гипотезы Елены Адольф. Не может ли быть, что Эшенбах не столько намеревался расцветить свое повествование о Граале еще одной красивой легендой, сколько хотел рассказать именно о судьбе и поисках загадочно исчезнувшего Ковчега, а для этого зашифровал его историю — скрыл ее под маской рассказа о поисках Грааля? Коль скоро дело было так, то. и в тексте романа могли содержаться — скрытые, конечно, и понятные лишь для посвященных — указания на место, где и доселе хранится эта древняя священная реликвия. Как дешифруются тайные послания? Один способ состоит в поиске ключа к шифру. Для этого применяются всевозможные научные методы в сочетании с интуицией и косвенными соображениями. Однако куда надежнее другой способ: нужно хорошо знать, что вы хотите найти. И тогда успешная расшифровка вам почти гарантирована. Хэнкок выбрал именно этот путь. Он стал вчитываться в текст «Парцифаля». Мелкие детали, не замеченные при первом чтении, теперь останавливали его буквально на каждом шагу. Вот, например, у Эшенбаха говорится, что Грааль способен прорицать будущее, и в Библии о Ковчеге сказано примерно то же самое. Грааль — источник плодородия, и библейский Ковчег — источник плодородия. Грааль сам собой светится, и Моисей, возвратившийся с горы Синай со скрижалями Завета, тоже светился, да так, что сыны Израиля боялись к нему приближаться. Мало того! Когда Моисей первый раз спустился со скрижалями, он увидел, что евреи за время его отсутствия начали поклоняться Золотому тельцу. А у Эшенбаха рассказывается о неком Флегетанисе, который тоже «поклонялся тельцу, как Богу». Совпадение? Нет, явно не просто совпадение. Этому Флегетанису в романе отведена важная роль: именно ему небеса открывают имя Грааля. Иными словами, Грааль имеет прямую связь с небесами. Но ведь и скрижали Завета имеют такую связь! Сказано же в Библии, что они продиктованы («открыты») Моисею Богом. Какой реальный смысл может стоять за этим настойчивым упоминанием о небесном характере обоих предметов? Не идет ли речь о метеорите? Некоторые историки давно предположили, что моисеевы «скрижали» были в действительности двумя кусками «небесного камня». Древние народы весьма почитали такие «послания небес». Знаменитый черный камень, вмурованный в угол мекканской Каабы и почитаемый всеми мусульманами мира, — это ведь тоже не что иное, как метеорит. По преданию, он упал с неба на землю еще во времена Адама, чтобы вобрать в себя адамов «первородный грех»; затем перешел к Аврааму; а уже потом оказался во владении пророка Магомета. Любопытная деталь вдруг приковала внимание Хэнкока: у мусульман амулеты из метеоритного камня назывались «бетиль», что в средневековой Европе превратилось в «ляпис бетилис». А у Эшенбаха имя Камня-Грааля, открывшееся Флегетанису, было «ляпис экзилис» — словно нарочито искаженное «ляпис бетилис», да еще со своим многозначительно намекающим смыслом: ведь «ляпис экзилис», если перевести с латыни, — это «камень с неба». Нет, решительно все дороги, то бишь все намеки и совпадения, вели в Эфиопию. Недоставало лишь прямо указующего туда перста. Но и перст, оказывается, был! Нужно было только проникнуть в еще более глубокие пласты эшенбаховского шифра — и Хэнкок это сделал. Вчитываясь в текст «Парцифаля», он обнаружил одно странное и, на первый взгляд, мало связанное с основным сюжетом место — что-то вроде вставной легенды. Рассказывалось о неком рыцаре Гамурете, который отправился в страну Зазаманк и там встретился, с прекрасной ТЕМНОКОЖЕЙ царицей Белаканой. От этой встречи родился сын по имени Фейрефиз, но случилось это уже после того, как рыцарь Гамурет покинул свою темную возлюбленную и вернулся в Европу. Там он сошелся еще с одной красавицей, на сей раз белой, которая родила ему Парцифаля — истинного героя романа и главного искателя Грааля. Оставим на время Парцифаля и зададимся вопросом: что можно сказать о его отце? Или его история — роман любвеобильного белого аристократа и темнокожей царицы из экзотической страны — не напоминает нам что-то мучительно знакомое? Разумеется! При некотором усилии воображения можно немедленно опознать в рассказе основные черты истории Соломона и царицы Савской: любвеобильный герой, темная царица, экзотическая страна, незаконный сын. А вот и решающее доказательство: в «Кебра Нагаст» царь Соломон прямо говорит: «Этот сын, который похитил Ковчег Завета, он от женщины иного цвета, из другой страны, и даже вовсе черный…» Кстати, что это за имя такое — Фейрефиз? Звучит, конечно, экзотически, но поскольку автор романа — европеец, легко предположить, что свои экзотические имена и названия он изобретал, искажая знакомые слова какого-нибудь европейского языка. И, действительно, знающему человеку в слове «Фейрефиз» тотчас и отчетливо слышится французское «vrai fils», то бишь «истинный сын». И тут уж ему легко припомнить, что в той же «Кебра Нагаст» Соломон приветствует Менелика словами: «Ты мой истинный сын». Если у кого-то еще оставались сомнения в тождестве Фейрефиза и Менелика, то теперь они наверняка развеялись. И только повисший в воздухе след этих сомнений, их, можно сказать, исчезающий аромат заставляет все-таки вяло запротестовать: зачем же, зачем понадобилось Эшенбаху так сложно зашифровывать имена и географические названия? Написал бы просто: Менелик, Соломон, Эфиопия!.. Ответ на этот вопрос у Хэнкока готов — поскольку немецкий автор писал поверх французского первоисточника, явно используя роман о Граале для зашифровки истории Ковчега, то, видимо, у него были на то серьезные основания, и, дальнейшее терпеливое изучение текста должно вскрыть и эти основания, и самый шифр. Оставим поэтому вредные сомнения и всмотримся в дальнейшие злоключения Фейрефиза, уже обнаружившего себя в качестве зашифрованного Менелика — похитителя Ковчега. Достигнув соответствующего возраста и совершив положенное по жанру рыцарского романа количество подвигов, сей темнокожий принц, сообщает нам Эшенбах, женился на благородной даме Репансде Шойе, о которой ранее в романе мельком сообщалось, что она была той, кому Святой Грааль дал себя нести! Но мало этого — от брака Фейрефиза и Репанс родился сын, имя которого так знакомо, так легендарно, так знаменито, что не может не отозваться в сердце каждого знатока средневековых легенд. Имя это — пресвитер Иоанн. Тут мы окончательно убеждаемся, что Вольфрам фон Эшенбах весьма последовательно держался правила приплетать к истории Грааля все интересное и загадочное, о чем рассказывалось в то время длинными зимними вечерами в немецких деревнях. Сначала он поселил в своем романе Менелика-Фейрефиза из эфиопской легенды, а теперь впустил туда еще и пресвитера Иоанна. Напомним для начала, кто такой этот Иоанн. Впервые поведал о нем европейцам епископ Отто из Фрейзингена в 1145 году. Сославшись на сообщение некого «сирийца», епископ заявил, что где-то на Востоке живет могущественный царь-христианин, который готов предоставить в распоряжение крестоносцев свои огромные армии для отражения арабской угрозы. Еще через 20 лет в Европе распространился слух, что этот царь прислал европейским монархам личное письмо, в котором называл себя «пресвитером Иоанном, владыкой четырех Индий» и повторял предложение прийти на выручку крестоносцам в Святой земле. На письмо «пресвитера» ответил сам папа римский Александр III, который счел необходимым упомянуть, что о царе Иоанне ему давно известно из другого источника: сообщили, мол, из Святой Земли, что посланцы «пресвитера» просили выделить для своего монарха один из алтарей в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. (Запомним эту деталь, она сейчас окажется существенной.) * * *История пресвитера Иоанна положила начало розыскам — христианского царства «на Востоке» (об этом увлекательно рассказывал Лев Гумилев в книге «В поисках вымышленного царства», написанной еще до того, как автор всецело отдался делу разоблачения «врагов рода человеческого» в лице коварных евреев). Во всех этих исканиях царство Иоанна неизменно помещали «в Индиях». У Эшенбаха место, где поселились Фейрефиз и Рапанс и родился их сын, будущий пресвитер Иоанн, называется иногда «Трибалибот», иногда «Зазаманк», а иногда просто «Индия». Получается как будто, что и темнокожая царица Белакана — тоже родом из Индии (она ведь из Зазаманка). Но вся эта географическая путаница заметно упрощается, если вспомнить, что уже византийский монах Руфинус, первым описавший распространение христианства в Эфиопии, упоминая в своей книге мельчайшие детали ЭФИОПСКОЙ географии, саму страну, тем не менее, упорно именует ИНДИЕЙ. В средние века знаменитый Марко Поло тоже писал: «Абиссиния — это большая провинция, которая называется срединной, или второй Индией». А падре Альварец, который в 1520-526 гг. совершил путешествие по Эфиопии, прямо назвал свою книгу об этом путешествии «Правдивое описание страны Пресвитера Иоанна из Индий». Вслед за Альварецом многие другие европейские путешественники и картографы начали именовать христианского монарха Эфиопии «пресвитером Иоанном». Да и как было именовать его иначе, если в «Индиях» никакого христианского царства не обнаруживалось, зато в Эфиопии оно было издавна?! Обратим внимание, что такой авторитетный источник, как «Энциклопедия Британника», «сведя воедино все рассказы о «пресвитере Иоанне», недвусмысленно заявляет, что этот титул издавна присваивался абиссинскому королю, хотя какое-то время его — царство помещали в Азии». Итак, можно считать доказанным, что страна, в которой происходит действие вставной новеллы о Гамурете, Белакане, Фейрефизе, Репанс де Шойе и «пресвитере Иоанне», — это Эфиопия, как бы она ни называлась у любителя экзотических имен Эшенбаха. А теперь обратим внимание на некий совсем уж малоизвестный факт. Оказывается, у Эшенбаха, в свою очередь, был продолжатель. Через 50 лет после его смерти некто Альбрехт фон Шарфенберг решил довести до счастливого конца историю поисков святого Грааля, рассказанную Эшенбахом в «Парцифале», и написал роман «Молодой Титурель», утверждая, что в его основе лежит неопубликованный эпилог «Парцифаля». Чтобы сделать свое утверждение правдоподобным, Альбрехт так рабски следовал в своей книге манере Эшенбаха, что многие исследователи до сих пор убеждены в наличии прямой связи между обеими книгами. Так вот, в финале «Титуреля» святой Грааль найден и благополучно доставлен на вечное хранение — куда бы вы думали? В страну пресвитера Иоанна! Добивать — так добивать окончательно. Если вы помните, папа римский, отвечая «пресвитеру» (ответ датирован 1177 годом), писал, что узнал о нем благодаря просьбе о выделении алтаря. Так вот, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, начиная с 1189 года, действительно был такой алтарь — только принадлежал он ЭФИОПСКОЙ церкви, а пожалован был не крестоносцами, а великим арабским полководцем Саладином, который в 1187 году изгнал крестоносцев из Святого города. Этот переход святых мест в руки мусульман произошел буквально за несколько лет до того, как Вольфрам фон Эшенбах начал писать свой роман о поисках Грааля-Ковчега, а мастера Шартрского собора приступили к созданию скульптур, изображающих историю тогр же загадочно исчезнувшего предмета. Такое совпадение во времени явно не случайно. Человек с живым воображением не может не ощутить во всем этом привкус тайны. Наложение дат, имен и событий слишком уж осязаемо, чтобы от него отмахнуться. И, если вдуматься, то есть только одна правдоподобная гипотеза, которая способна прочертить вразумительный пунктир причинно-следственной связи сквозь всю эту запутанную сеть совпадений и намеков. Отдадим должное Грэму Хэнкоку — он сформулировал этот факт очень четко и убедительно. Гипотеза, навязываемая всей совокупностью отмеченных выше совпадений, формулирует Хэнкок, требует предположить, что захват арабами Иерусалима и изгнание оттуда крестоносцев почему-то заставили размышлять о судьбе Ковчега Завета. Кому-то каким-то образом стало известно, что эта великая реликвия не досталась Саладину, а была спрятана в Эфиопии, причем место его пребывания является величайшим секретом — знать о нем надлежит только «посвященным в тайну». Этот «кто-то» сообщил о тайне Вольфраму фон Эшенбаху; возможно, он же поведал секрет и мастерам из Шартра, ученикам Бернарда Клервоского: этим мастерам, строившим в то время храм Пресвятой Богородицы, которую их учитель Бернард считал мистически связанной с Граалем и Ковчегом, тайна Ковчега наверняка тоже была интересна. Мастера запечатлели основные моменты рассказа в глухих намеках скульптурной процессии, изображенной на колоннах северной арки собора. Что же касается Эшенбаха, то он попытался сохранить и передать потомкам тайну местопребывания Ковчега, только зашифровал все это в форме рассказа о Граале — чтобы поняли только «посвященные». * * *Кто же был этот загадочный «кто-то»? То должен был быть человек (или группа людей), хорошо осведомленный о событиях в далеком Иерусалиме, знавший легенды, связанные с утраченным Ковчегом (в том числе и легенды из эфиопской книги «Кебра Нагаст»), и заинтересованный в сохранении всей этой истории для «посвященных» из следующего поколения. Этот человек (или люди) должен был находиться в Святой Земле уже в момент прибытия туда посланцев «пресвитера Иоанна», то есть в 1145 году, и, по всей видимости, оставался там до прибытия посланцев эфиопского царя, то есть до 1177 года (контакт с этими посланцами мог, кстати говоря, объяснить знакомство с эфиопской легендой о Ковчеге). С другой стороны, этот человек (или люди), до поры до времени хранивший все эти сведения при себе, с какого-то момента стал проявлять решительное желание сохранить их для потомства хотя бы и в зашифрованном виде. И, судя по всему, он имел достаточные связи в Европе, чтобы это желание реализовать — например, через. Вольфрама фон Эшенбаха, подсказав тому облечь сообщение в форму рыцарского романа о Граале. Мысль, построившая эту логическую цепочку, неизбежно и немедленно должна устремиться на поиски следов этого загадочного человека. Но отдельный человек вряд ли способен осуществить такой сложный и разветвленный план. Стало быть, здесь действовала целая группа. Нет ли в истории упоминаний о; какой-то группе, которая, находясь в Иерусалиме, в то же время сохраняла связи с Европой, имела там, недюжинное влияние и к тому же была по каким-то своим причинам заинтересована сохранить для будущего тайну утраченного Ковчега? Стоит нам так поставить вопрос, как мы тотчас вспоминаем, что мы, в сущности, знаем такую группу. О ее могуществе, тайнах и разветвленном влиянии, о ее возникновении и кровавом конце написаны сотни научных трудов и увлекательных романов. И, что самое важное в данном контексте, о ней прямо упоминает сам Эшенбах, который, судя по некоторым сведениям, к группе этой и принадлежал. Речь идет о знаменитом ордене «Нищенствующих рыцарей Иисуса Христа и храма Соломона», а, проще говоря, «храмовниках» или — «тамплиерах» (от французского «temple», то есть «храм»). Основанный в 1118–1119 годах в Иерусалиме, орден этот имел свою — штаб-квартиру как раз на месте бывшего Соломонова Храма — того самого, откуда некогда, в библейские времена, так загадочно исчез Ковчег Завета. После изгнания крестоносцев из Палестины тамплиеры обосновались во Франции, где в начале следующего — XIII — века против них был возбужден знаменитый инквизиторский процесс, закончившийся казнью руководителей ордена и не менее знаменитым проклятием французским королям, которое провозгласил перед смертью великий магистр храмовников (и которое, добавим, не замедлило сбыться). В этом промежутке, между возникновением и исчезновением ордена, тамплиеры, судя по всему, и проникли в тайну Ковчега. Что ж, значит, поиск этой утраченной святыни ведет нас теперь прямиком к недолгой, но бурной истории загадочного, окруженного мистической тайной ордена, и нам остается лишь, перефразируя популярное нынче название «назад в будущее», воскликнуть: вперед в прошлое, и пусть любознательность нам поможет! * * *Итак, мы вернулись в XII век, к истокам рыцарского ордена храмовников-тамплиеров. Согласно гипотезе Хэнкока, именно они находились в центре всех тех загадочных событий, которые разыгрались вокруг утраченного Ковчега. Напомним, в чем состояла загадка. Ковчег Завета, столько раз упоминавшийся в Библии вплоть до нашествия вавилонян, внезапно и без всякого объяснения перестает упоминаться. Складывается впечатление, что Ковчег исчез. То ли евреи взяли его с собой в вавилонский плен, то ли он был спрятан, чтоб не попасть в руки захватчиков, а позже так и не найден. Существует, однако, и третья, куда более романтическая версия: Ковчег был похищен из Иерусалима еще во времена царя Соломона и увезен в другую страну. Эта версия основана на легендах, излагаемых в древнем эфиопском манускрипте «Кобра Нагаст». Там рассказывается, что сын Соломона и знаменитой царицы Савской, Менелик, тайком доставил Ковчег в Эфиопию, где эта священная реликвия находится до сих пор. Каким-то странным образом эта легенда проникла в средневековую Европу. Во времена крестовых походов в Европе неожиданно стали распространяться романы о поисках святого Грааля, который, судя по многим приметам, есть иное имя Ковчега Завета. В одном из самых знаменитых таких романов «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха местопребывание Ковчега-Грааля напрямую связывается с Эфиопией. Легенды «Кобра Нагаст» находят также отражение и в скульптурных изображениях относящегося к той же эпохе Шартрского собора, строители которого были вдохновлены знаменитым религиозным деятелем того времени епископом Бернардом Клервоским. Видимо, кто-то, знавший эфиопскую версию судьбы Ковчега, познакомил с ней и Бернарда и Эшенбаха, а, может быть, и содействовал тому, чтобы эта версия была зашифрована как в «Парцифале», так и в шартрских скульптурах. Проблема осложняется еще одним обстоятельством. Примерно в то же время, когда в Европе вспыхнул неожиданный интерес к судьбе давно утраченного Ковчега, получило распространение странное «Письмо», якобы присланное папе и европейским монархам неким «пресвитером Иоанном», который именовал себя повелителем христианского царства на Востоке и предлагал крестоносцам свою помощь в борьбе с полчищами арабского полководца Саладина. В качестве платы за это он просил выделить его подданным место для молитвы в иерусалимском храме Гроба Господня. Многочисленные факты говорят за то, что «царство пресвитера», если оно вообще существовало, находилось все в той же Эфиопии. Это подтверждается и тем. обстоятельством, что посланцы эфиопских христиан действительно побывали в то время в Иерусалиме и добивались для себя такого места в храме. (Они и получили его, но только после захвата города Саладином в 1187 году.) И словно для того, чтобы окончательно запутать всю историю, в романе «Молодой Титурель», продолжившем и завершившем эпопею поисков Грааля-Ковчега; местом его окончательного упокоения было названо «царство пресвитера Иоанна». Теперь уже и непосвященному становится ясно, что нити загадки тянутся в Палестину и Эфиопию времен крестовых походов, и остается лишь опознать тех людей, которые были связаны с этими местами и обладали достаточным влиянием, чтобы внушить европейцам мысль о том, что Ковчег существует и находится в Эфиопии. Заслуга Хэнкока состоит в том, что он такую «подходящую» группу людей нашел. Согласно его гипотезе, то были члены знаменитого рыцарского ордена тамплиеров. Действительно, история этого ордена с первых же шагов связана с Палестиной. В 1119 году, когда палестинское государство крестоносцев возглавлял король Болдуин, девять французских аристократов прибыли в Иерусалим и попросили разрешения основать здесь новое «Братство бедных рыцарей Христовых и Соломонова Храма», в просторечье — храмовников, или тамплиеров. Болдуин разрешил им построить здание на Храмовой горе, неподалеку от мечети Эль-Акса. Храмовники заявили, что их главной задачей будет охрана дороги Иерусалим-Яффа от нападений арабских отрядов. На самом же деле охраной они почти не занимались — это вполне успешно делали их конкуренты из ордена иоаннитов. Храмовники же занимались чем-то другим. Судя по сохранившимся сведениям, они усиленно исследовали недра Храмовой горы. Спустя почти 800 лет израильские археологи обнаружили пробитый ими туннель, уходивший далеко под основание Эль-Аксы — туда, где в Соломоновы времена находилось основание Первого Храма. Что именно искали там храмовники, неизвестно — этот орден с самого начала окружил свою деятельность непроницаемой завесой тайны. Нарушителям клятвы молчания грозило исключение из ордена и суровое наказание. Можно, однако, догадаться, что воображение; храмовников, по всей видимости, воспламеняла еврейская легенда, согласно которой в недрах Храмовой горы спрятаны сокровища древнего Храма, в том числе и сам Ковчег Завета. Надежда на обретение этих древних реликвий сыграла немалую роль в истории крестовых походов вообще. Как пишет в своем исследовании «Поиски Грааля» Эмма Юнг (жена знаменитого Карла Густава Юнга), «глубоко укорененная в средневековом воображении мысль о «скрытых сокровищах» была одной из причин того, что призыв к освобождению Гроба Господня вызвал такой мощный отклик во всей тогдашней Европе». Видимо, первые храмовники не нашли того, что искали, потому что семь лет спустя они вернулись в Европу и здесь обратились за помощью к уже упоминавшемуся Бернарду Клервоскому (среди членов «девятки» был родной дядя епископа). По настоянию Бернарда церковь собрала специальный собор в Труа и утвердила там новый орден и его устав. В уставе ничего не говорилось о тайных целях ордена, но один из более поздних источников утверждает, что «истинной задачей храмовников были поиски свитков, запечатлевших тайные традиции древних евреев и египтян». Бернард начал чуть не в каждой проповеди прославлять новый орден и призывать к вступлению в него. Толпы молодых людей хлынули в ряды храмовников, и уже к концу века их орден стал одним из самых могущественных, самых богатых и, добавим, самых засекреченных среди европейских монашеских орденов того времени. * * *Хэнкок полагает, что первые храмовники все же что-то нашли. Не Ковчег, конечно, — об этом сразу стало бы широко известно, но, возможно, какие-нибудь древние рукописи. Во всяком случае, именно со времен храмовников в Европе — под влиянием того же Бернарда — зарождается совершенно новая, готическая архитектура, одним из первых образцов которой и был Шартрский собор. Не исключено, говорит Хэнкок, что эта архитектура и была воплощением «древних традиций», открытых храмовниками в каких-то документах, относящихся к постройке Первого Храма. Как я уже сказал, Шартрский собор впервые отразил в своих скульптурах эфиопскую легенду о похищении Ковчега Менеликом. А вслед за тем — почти в те же годы легенда эта проникла и в рыцарский роман о поисках Грааля — с легкой руки Эшенбаха и его продолжателей. Можно думать, что и она пришла в Европу через храмовников. Вспомним, что храмовники должны были стать свидетелями прибытия в Иерусалим посланцев эфиопских христиан. От них они могли узнать и о существовании в Эфиопии огромного христианского царства, и о легендах, изложенных в манускрипте «Кобра Нагаст». Первая новость могла положить начало слухам о «царстве пресвитера Иоанна» — тем более что официальный титул тогдашних эфиопских царей включал слово «Иан» (произведенный от «Иано», что означало пурпурное одеяние царей), а это слово легко могло превратиться в европейское «Иоанн». Что же до второй новости — о местонахождении исчезнувшего Ковчега, — то она тем более могла подхлестнуть воображение храмовников, которые вот уже долгие годы разыскивали эту реликвию. Более того, она могла дать новый толчок этим заглохшим к тому времени поискам. Подтвердить или опровергнуть все эти догадки могут только детальные исследования. Прежде всего, необходимо установить, не содержится ли в источниках упоминаний о связях между храмовниками и Эфиопией. История тогдашней Эфиопии известна относительно неплохо. Примерно в 1000 г. н. э. здесь была свергнута царствовавшая до того династия потомков Менелика, этого легендарного сына Соломона и царицы Савской, и на престол взошла некая Гудит (возможно — Йегудит), предводительница эфиопских еврейских племен, давно воевавших с христианскими царями страны. Однако в северной части Эфиопии сохранилась власть другой Династии, Загве, и царем ее во второй половине XII века стал некто Харбай. Свое правление он начал с того, что изгнал из страны младшего брата Лалибелу, опасаясь, что тот покусится на трон. В 1160 году Лалибела бежал из Эфиопии в Иерусалим, где и провел последующие четверть века. Отметим несомненную возможность прямого контакта Лалибелы с Иерусалимскими храмовниками и пересказа им эфиопской легенды о судьбе Ковчега. Но, прежде чем вдаваться в последствия этого знакомства, проследим за дальнейшей судьбой изгнанного принца. В 1185 году, после смерти Харбая, он вернулся в Эфиопию, вступил на трон и перенес столицу царства в свой родной город Роха. Здесь он воздвиг 11 великолепных христианских церквей, высеченных из монолитных скал (они сохранились до наших дней и совсем недавно — решением ЮНЕСКО — объявлены одними из Величайших архитектурных памятников мира, подлежащих тщательной охране). В память о своем пребывании в Иерусалиме Лалибела переименовал реку, текущую через город, в Иордан, а холм над нею — в «Дебра Зейт» («Масличную гору»). Судя по всему, он хотел превратить Роху в Новый Иерусалим — неслучайно одна из новых церквей получила название «Бета Голгота», по аналогии с иерусалимским Храмом Гроба Господня, где Лалибела получил от Саладина специальный «эфиопский алтарь». Чтобы закончить историю принца, скажем еще, что вскоре после его смерти династия Загве сошла со сцены — ее последний монарх отрекся от трона в пользу потомков Менелйка, и с 1270 года династия этих «Соломонидов» продолжала царствовать в Эфиопии: ее последним представителем был император Хайле Селассие, свергнутый марксистами в 1974 году. А теперь вернемся к храмовникам-тамплиерам. Мы отметили возможность их личного знакомства с Лалибелой, а через него — с легендами эфиопской книги «Кебра Нагаст». Косвенным подтверждением этого знакомства являются все упомянутые выше факты, говорящие о том, что именно с этого момента начинается распространение в Европе «эфиопской версии» судьбы Ковчега, причем — прежде всего в, кругах, связанных с тамплиерами: через Бернарда Клервоского и Вольфрама фон Эшенбаха. О связях Бернарда с храмовниками мы уже говорили; что же; касается Эшенбаха; то согласно некоторым источникам ом сам был тайным членом этого ордена. Более того, перед тем как приступить к своему роману, он, по слухам, побывал в Иерусалиме. Но самое интересное состоит в том, что в своем «Парцифале» Эшенбах прямо пишет, что «хранителями Грааля» (а Грааль. у него, судя по всему, символ или шифр Ковчега) были «рыцари достойнейшего ордена тамплиеров». Если исходить из того, что в тексте «Парцифаля» зашифрованы реальные события, поведанные Эшенбаху иерусалимскими храмовниками, то из этого следует, что они действительно добрались до местонахождения Ковчега. А этим местом была, если верить легендам «Кебра Нагаст», Эфиопия. Не могло ли быть так, что, познакомившись с Лалибелой и узнав от него, что Ковчег хранится в Эфиопии, храмовники последовали за принцем, когда он вернулся на свою родину? Глухие намеки на такую возможность содержатся в том же «Парцифале». Эшенбах, упомянув, что хранителями Грааля-Ковчега являются тамплиеры, сообщает далее такую странную подробность: «Бог повелел им помогать, изгнанникам вернуть свои законные права… И если какая-нибудь страна потеряла своего повелителя и ее люди просят нового монарха из Братства Грааля, Бог отвечает на их молитвы и посылает людей этого Братства в великой тайне». Не слышен ли здесь отзвук реальной истории принца Лалибелы, изгнанного своим братом из Эфиопии и возвратившего себе трон после смерти Харбая? Если так, то слова Эшенбаха следует понимать буквально: воцарение Лалибелы совершилось с тайной помощью «Братства Грааля», то есть тамплиеров. Тому есть еще одно «перекрестное» доказательство. Вчитываясь в пресловутое «Письмо пресвитера Иоанна», Хэнкок подметил в нем один загадочный пассаж: рассказывая о могуществе своей армии, автор неожиданно добавляет: «Есть среди нас и французы, из тех, что сражаются с сарацинами (явный намек на иерусалимских крестоносцев. — Р.Н.). Вы (имеются в виду адресаты письма: папа и европейские монархи) им доверяете, но на самом деле они лживы и коварны, поэтому соберитесь с мужеством и предайте казни этих коварных тамплиеров». Теперь, зная историческую обстановку, в которой появилось «Письмо», и, зная, что «царством пресвитера Иоанна» скорее всего, была тогдашняя Эфиопия царя Харбая (появление «Письма» в. Европе датируется 1165 годом), мы легко можем объяснить все эти странности. По-видимому, храмовники, движимые стремлением проникнуть в страну, где находился вожделенный Ковчег, предложили Лалибеле свою помощь в свержении Харбая, а, возможно, и направили в Эфиопию отряд своих рыцарей. Первые попытки свергнуть Харбая успехом не увенчались (мы знаем, что Лалибела воцарился лишь в 1185 году), но они достаточно напугали царя, чтобы тот начал искать в Европе союзников в борьбе с тамплиерами, — отсюда его «Письмо» с предложением помощи в борьбе с Саладином, расхваливанием своего могущества и призывом к военному союзу. Атмосфера секретности и тайны, неизменно окружавшая дела храмовников, окутала и эту первую; их вылазку — военную экспедицию из Иерусалима в Эфиопию. Но простая логика подсказывает, что тамплиеры не могли на этом успокоиться, тем более что в 1185 году им представился редчайший шанс: смерть Харбая и воцарение их давнего знакомого Лалибелы. Могли ли они не воспользоваться этим обстоятельством для новой попытки обрести Ковчег? Но если дело обстояло так, то в Эфиопии могли сохраниться следы их пребывания. И Хэнкок такие следы обнаружил! Первый след запечатлен, оказывается, все в том же эшенбаховском «Парцифале», только раньше его никто не замечал, потому что не искал. Поведав о том, что «Братство Грааля» помогает изгнанным монархам вернуть свои права, Эшенбах приводит далее рассказ одного из членов «Братства» об одной такой благодетельной экспедиции «далеко в Африку… за Роху»! Исследователи романа, не имея никакого понятия о Лалибеле и эфиопских связях тамплиеров (и начисто игнорируя упоминание об «Африке»), простодушно расшифровали слово «Роха» как искаженное название Роховой горы в австрийской Штирии. Хэнкок же, с его пристальным вниманием ко всему «эфиопскому», тотчас опознал в Рохе — Роху, название столицы Эфиопии при Лалибеле. Но мало того. Перебирая записи, сделанные во время посещения Эфиопии в 1983 году, Хэнкок обнаружил пометку: «Расспросить специалистов о значении красного креста». Речь шла о странном красном кресте, который он увидел на стене одного из знаменитых храмов в Рохе. Крест был необычный: он был образован четырьмя треугольниками, а не двумя перпендикулярными прямыми, как обычно. Теперь, погрузившись в изучение истории тамплиеров, Хэнкок сам ответил на свой вопрос: это был тот самый крест, который на соборе в Труа был утвержден в качестве символа ордена храмовников! * * *Как это обычно бывает, одно открытие повлекло за собой цепь других. Историков давно волновала загадка Рохских скальных храмов. Их архитектурные особенности отдаленно напоминали стиль только что возникшей в Европе готической архитектуры, а их инженерно-технические данные намного превосходили возможности тогдашних эфиопских строителей. Теперь на основании прослеженных взаимосвязей, можно было предположить, что в создании этих храмов участвовали те же люди, которые вдохновили появление европейской готики, — иерусалимские тамплиеры. И Хэнкок нашел подтверждение этой смелой гипотезе. В старинной книге путешественника XVI века падре Франсиско Альвареца, посетившего Эфиопию в 1520–1526 гг., он обнаружил описание храмов Лалибелы, завершавшееся словами: «И они рассказали мне, что вся эта работа была завершена за 24 года и была сделана белыми людьми по приказу царя Лалибелы». Итак, тамплиеры, видимо, действительно последовали за Лалибелой в Эфиопию и оставались. в ней достаточно долго, помогая строить знаменитые храмы Рохи, а заодно, вероятно, занимаясь и собственными поисками утраченного Ковчега. И, если мы хотим узнать историю этих поисков, нам не миновать еще большего погружения в тайную историю ордена храмовников. История эта не менее увлекательна и загадочна, чем история самого Ковчега, и обещает повести нас сквозь века и события, под знакомым обликом которых нам откроется теперь нить запутанной исторической интриги. С падением государства крестоносцев орден тамплиеров окончательно перебрался в Европу. На протяжении всего XIII века орден усиливался и обогащался. Его финансовые связи охватывали все главные европейские столицы. Во Франции представители ордена не раз заведовали финансами всего государства. И все это время тамплиеры, по всей видимости, поддерживали тайные контакты со своими соратниками, оставшимися в далекой Эфиопии — стране исчезнувшего Ковчега. Что они искали там? Если сам Ковчег, то благодаря близости ко двору эфиопских христианских царей, которым именно тамплиеры помогли вернуться на трон, они давно должны были открыть тайну его местонахождения. Тогда остается предположить, что они ждали удобного момента, когда можно будет похитить великую реликвию и доставить ее в Европу. Обладание религиозными реликвиями, мощами и святынями возвысило уже не один европейский средневековый монастырь и монашеский орден. Понятно; что орден, располагающий такой реликвией, как Ковчег Завета, мог рассчитывать на еще большую славу, а, стало быть, — и на власть над умами современников. Поэтому гипотезу о стремлении тамплиеров обрести Ковчег нельзя сбрасывать со счетов. Но что, если в Эфиопии они — Ковчега не нашли и продолжали безрезультатные поиски, уверовав в истинность эфиопских легенд, изложенных в манускрипте «Кебра Нагаст»? Что еще, кроме этого манускрипта да туманных намеков в романе Вольфрама фон Эшенбаха (восходивших, судя по всему, к тому же манускрипту), могло свидетельствовать, что Ковчег действительно находится в Эфиопии? Разумный вопрос. Попробуем на него ответить. Прежде всего, вспомним, что чуть ли не во всех эфиопских христианских храмах — и это удостоверяется всеми, кто побывал в современной Эфиопии, — хранятся особые реликвии, так называемые «табот», которые сами эфиопы называют «табот Моисея». В дни богослужений эти табот играют центральную роль во всей церемонии. Знатоки эфиопских легенд утверждают, что табот — это копии Ковчега, оригинал которого хранится в храме девы Марии в Аксуме, куда он был привезен родоначальником эфиопской царской династии Менеликом из поездки к своему отцу, царю Соломону. Но табот — всего лишь прямоугольные деревянные бруски, к тому же весьма небольшого размера. Как они могут быть копиями Ковчега? Те же знатоки дают ответ и на этот вопрос. Конечно, бруски — не Ковчег и даже не его копия. Правильней сказать, они копия того, что некогда содержалось в Ковчеге, — копия Скрижалей Завета, с которыми Моисей спустился с горы Синай. Это уже звучит убедительней. Скрижали действительно изображаются в виде двух прямоугольных пластин с надписями. Вполне вероятно, что древние эфиопы перенесли представление о самом Ковчеге на то, что в нем хранилось, на святая святых — Моисеевы Скрижали. Отсюда могло пойти и выражение «табот Моисея». Такая гипотеза тотчас находит филологическое подтверждение. В иврите Ковчег всегда именуется «арон», то есть «ящик». Но есть в этом языке и еще одно слово, означающее ящик или контейнер. И слово это — «тейва». Оно встречается в Библии дважды; когда описывается Ноев ковчег и в рассказе о корзине, в которую мать положила младенца Моисея. Очень многозначительные совпадения. И очевидно также, что из «тейва» легко произвести «табот».1:0 в пользу легенды «Кебра Нагаст». Такова первая ниточка. Но она немедленно введет к вопросу: как могло быть заимствовано древнее и редко употребляемое еврейское слово эфиопскими христианами? Да и вообще, откуда взялись в Эфиопии христиане во времена царя Соломона? Уж если кто и мог принести Ковчег в тогдашнюю Эфиопию и хранить его там веками до появления первых христиан, то только евреи. Но разве эфиопские евреи такой древний народ? Еще один разумный вопрос. Он заставляет присмотреться к истории эфиопских евреев. Что мы о них знаем? Сегодня фалаши — это граждане Израиля. Но фалаши — всего лишь остатки эфиопского еврейства. Источники говорят, что некогда евреи в той стране были куда могущественней и многочисленней. Легенды из «Кебра Нагаст» выводят их все от того же Менелика I, сына Соломона и царицы Савской. А на самом деле? Многие авторы утверждают, что иудаизм в Эфиопии появился сравнительно недавно, что-то около начала новой эры, после разрушения Второго Храма, когда евреи бежали из Палестины и рассеивались по всему свету. Эти авторы считают, что первые евреи пришли в Эфиопию из Йемена, где в ту пору возникла крупная еврейская община (просуществовавшая до наших дней). И было это, значит, в первых веках новой эры. Рассуждение вполне логичное, но не учитывающее некоторых странных особенностей эфиопского иудаизма. Во-первых, эфиопские евреи ничего не знают о таких праздниках, как Ханука и даже Пурим. Между тем праздник Хануки был установлен в честь освобождения Иерусалима Маккавеями уже во II в. до н. э., а праздник Пурим — и того раньше: у евреев Эрец-Исраэль он начал входить в моду в конце V в. до н. э. Неизвестен эфиопским евреям и запрет на жертвоприношения вне Храма. В момент создания Храма царем Соломоном (X в. до н. э.) этот запрет еще не был абсолютным, и многие евреи, следуя древним обычаям (времен скитаний в пустыне), приносили жертвы просто на камне, расположенном в центре деревни. Но в конце VII века (опять же, до новой эры) царь Иошиягу (Иосия) наложил окончательный запрет на этот обычай. Что же получается? Эфиопские евреи следуют обычаям, существовавшим в Эрец-Исраэль до VII века, и не знают обычаев, запретов и праздников, возникших позже. Почему? Самое естественное объяснение этому состоит в предположении, что их связь с материнской еврейской общиной прервалась ранее VII в. до н. э. Стало быть, они никак не могут быть потомками йеменских евреев — община в Йемене возникла на много столетий позже. Но если евреи появились в Эфиопии за 7–8 веков до новой эры, то это почти совпадает со временами царствования Соломона! 2:0 в пользу легенды о Менелике. Если за плечами эфиопских евреев столько веков, можно ли хоть отчасти восстановить их древнюю историю? Выясняется, что и здесь кое-что поддается логической реконструкции. Авторитетный эфиопский источник «История и генеалогия древних царей» утверждает: «Христианство пришло в Абиссинию через 331 год после рождения Христа. До этого половину населения составляли евреи, исповедовавшие иудаизм, а вторую половину — поклонники дракона». Шотландский исследователь Брюс (первооткрыватель истоков Нила), хорошо знакомый с эфиопской древностью, продолжает: «Эфиопские евреи видели в новой христианской религии опасную ересь. Поэтому они объединились для борьбы с ней под руководством принца из рода Менелика, сына, Соломона. Но эфиопские христиане тоже провозгласили, что их цари ведут свою генеалогию от Соломона. Наличие двух царей с одинаковыми генеалогическими претензиями привело к многочисленным войнам». Пока шла и развивалась история европейских евреев — сначала в их гетто, а потом в эпоху эмансипации, в далекой Эфиопии их черные соплеменники вели, оказывается, многовековые кровавые войны в защиту своей веры и своего государства от посягательств христиан. И были не раз близки к победе. Зря говорят, будто в рассеянии евреи утратили искусство управлять и воевать… Еврейско-христианские войны в Эфиопии выплеснулись даже за пределы страны; в VI в. н. э. христианский царь Калеб собрал огромное войско для похода на йеменских евреев. В эфиопских хрониках этому царю приписываются самые кровожадные высказывания против евреев и угроза «разрубить их всех на куски». Видимо, у Калеба недостало сил для выполнения своей угрозы: в IX–X веках инициативу в войне захватили евреи под предводительством уже упоминавшейся нами царицы Гудит (или Йегудит), и «соломонова династия» эфиопских христианских царей, правивших в Северной Эфиопии, была свергнута. Ее сменила династия Загве, одним из последних представителей которой был хорошо знакомый нам Лалибела. Существуют смутные указания на то, что цари Загве поначалу сами склонялись к иудаизму или даже вообще были евреями. Позже, однако, они впали в христианство, и война возобновилась. Путешественник XVI века, католический епископ из Овьедо, утверждает, что фалаши, укрывшиеся в горной области юга страны, наносили христианам чувствительные удары. Но в начале XVII века на эфиопский трон взошел император Суснеос, который приступил к систематическому истреблению евреев. В. течение 30 лет погром следовал за погромом, и если в середине XVII века фалаши еще насчитывали около полумиллиона человек, то к концу столетия их было уже почти вдвое меньше. По сведениям еврейского автора XIX века Иосифа Галеви, в его время численность фалашей не превышала 150 тысяч. А к концу нашего века осталось менее трети этого числа. * * *Какое отношение ко всей этой истории имел утраченный Ковчег? Самое прямое. В эпосе «Кебра Нагаст» имеется о том важное упоминание: «И сказал Господь людям Гебра Маскаль (по-эфиопски, «рабам Креста» — М.В.): выбирайте между колесницей и Сионом. И заставил их выбрать Сион. А людям «Бета Исраэль» (самоназвание эфиопских евреев. — М.В.) дал колесницу…» Иными словами, борьба между эфиопскими евреями и христианами шла, в частности, за обладание реликвиями, почитавшимися каждой из этих религий; а в конечном счете, христиане получили «Сион», то есть Ковчег, а евреи удовольствовались каким-то «вторым призом» («колесницей»). Так Ковчег, если верить всем этим рассказам, оказался в руках христианских царей. Поэтому поиски храмовников вовсе не были погоней за миражом. Евреи, видимо, действительно пришли в Эфиопию во времена Соломона, и потому в легенде о похищении ими Ковчега могло содержаться зерно истины — это раз; Ковчег, видимо, действительно перешел позднее от евреев к христианам, и Лалибеле, как их царю, могло быть известно его местонахождение — это два. Значит: Ковчег нужно искать в Эфиопии. Тогда почему храмовники не наложили свою тяжелую рыцарскую лапу на эту величайшую реликвию? А, судя по тому, что Ковчег в Европе так и не объявился, видимо — не наложили. Но кто сейчас способен проникнуть в запутанные тайны тогдашних времен, тем более в дела и интриги небольшого тамплиерского отряда, покинувшего Палестину вместе с Лалибелой ради Эфиопии и Ковчега? Можно допустить, что силы эфиопских тамплиеров были попросту слишком малы. В результате им пришлось ограничиться наблюдением и ожиданием подходящего момента — смуты, например, или войны, когда Ковчег будут перепрятывать и подвернется возможность его похитить. Как бы то ни было, существует одна странная деталь, которая позволяет предположить, что в какой-то момент тамплиеры были на грани осуществления своего дерзкого плана. Деталь эта — события знаменитой «черной пятницы» 13 октября 1307 года. Любители истории знают эту дату. В этот день король Франции Филипп Красивый неожиданно обрушился на орден тамплиеров. Все французские члены ордена были арестованы и брошены в тюрьму. К ночи с четверга на пятницу в кандалы было заковано уже 15 тысяч храмовников. Позже многие из них, включая верховного магистра, были сожжены, сам орден — запрещен, а его огромное имущество — конфисковано. Одновременно преследования тамплиеров развернулись почти во всех европейских странах. Эта грандиозная единовременная акция до сих пор вызывает недоумения историков. Что ее вызвало? Одни говорят, что Филипп, отчаянно нуждавшийся в деньгах, попросту хотел поживиться богатствами тамплиеров. А поскольку местопребыванием папы был тогда французский город Авиньон (знаменитое «авиньонское пленение» пап) и папа Клемент V, что называется, «кормился из рук французской короны», то есть полностью зависел от нее, его нетрудно было убедить опубликовать буллу, объявлявшую орден храмовников «еретическим». Эта булла дала Филиппу формальный повод для акций «черной пятницы». Другие утверждают, что папа не был просто французской марионеткой — у него у самого якобы были вполне реальные основания объявить орден храмовников еретическим. По тогдашней Европе упорно ходили слухи, что все собрания ордена, проходившие, как правило, в глубокой тайне, начинались с ритуала целования гениталий и ануса обнаженного мужчины, который возлежал в центре зала собраний наподобие распятого Христа. Разумеется, это могло быть всего лишь одним из вариантов распространенных в те темные (да и в более поздние светлые) времена поверий о «черной, или сатанинской, мессе»; но вполне возможно, что рыцарей ордена тамплиеров и впрямь скрепляла какая-то реальная гомосексуальная связь (мы очень мало знаем о тайных гомосексуальных братствах средневековой Европы, но вспомним, что нить гомосексуализма пронизывает ткань европейской культуры еще с эллинских времен). Возможна, однако, и третья гипотеза, и вот она-то связана с нашим Ковчегом. Раньше никто такой связи не искал просто потому, что никто не искал и сам Ковчег. Но стоило заняться этими поисками, как в эфиопских источниках тотчас обнаружилось поразительное упоминание: оказывается, в 1306 году, то есть ровно через год после избрания Клемента V папой и ровно за год до разгрома тамплиеров, к папе в Авиньон прибыла высокопоставленная делегация, направленная тогдашним эфиопским царем Ведомом Арадом, и притом — с какой-то тайной миссией! Мало того: это сообщение подтверждается и независимым европейским источником — книгой генуэзского картографа Джиованни де Кариньяно. Почему оно так важно? А вот почему. Как вы помните, в конце XII века на эфиопский христианский престол взошел Лалибела. По нашему предположению, ему помогли в этом тамплиеры. В благодарность за эту помощь он позволил им остаться в Эфиопии (мы уже приводили доказательства их многолетнего пребывания там). Можно думать, что тамплиеры оставались в стране и при последующих царях династии Загве. Но в 1270 году эта династия уступила место монархам «соломоновой династии». Тот эпос «Кобра Нагаст», о котором мы так часто упоминали, был записан при первом же царе этой восстановленной династии. Превращение устной легенды в сакральный письменный текст было явно предназначено для утверждения династических претензий царя — ведь «Кебра Нагаст» утверждала, что новая династия ведет начало от Менелика, сына Соломона, и является хранительницей великого Ковчега. Логика подсказывает, что цари новой династии должны были проявлять враждебность ко всему, что связано с царями Загве, в том числе и к тамплиерам. К последним они должны были к тому же относиться с подозрением: уж очень липли к Ковчегу эти европейцы. А, кроме того, у них были связи с могущественными единоверцами в Европе, и они могли любой момент призвать к себе на помощь целые отряды собратьев-тамплиеров из Франции и других стран. А теперь представим себе, что, вдобавок ко всему этому, цари — «Соломониды» знают, что тамплиеры замышляют похитить Ковчег! Первые цари восстановленной «соломоновой династии» Екуно Амлак и Ягба Цион были слабы и не знали, как избавиться от этой тамплиерской напасти. Но третий, Ведем Арад, правивший с 12(?) по 1314 год, был, видимо, уже достаточно силен и хитер, чтобы придумать: нужно войти в контакт с теми в Европе, кому тамплиеры кажутся подозрительными и опасными. Нужно известить их, что здешние, эфиопские тамплиеры намереваются похитить великую святыню, Ковчег Завета, и доставить ее в Европу. Этого нельзя допустить — могущество ордена станет тогда неодолимым. Он будет диктовать свою волю королям и папам. Орден лучше всего уничтожить. Не будем настаивать, что все происходило именно так. Наш сценарий слишком прямолинеен. История движется более сложными путями. Но совпадения и интриги истории помогают. И наш сценарий помогает разглядеть еще одну возможную ниточку в клубке причин, приведших к разгрому тамплиеров. Кроме того, он удовлетворительно объясняет, почему тамплиерская авантюра с Ковчегом не увенчалась успехом. И что же — исчезли тамплиеры, кончились и поиски Ковчега? Прервалась великая традиция рыцарских поисков святого Грааля? Ничего подобного: Грааль — уже скорее по литературной инерции — продолжали искать еще долгие века (припомним «Дон Кихота»), а судьба тамплиеров и Ковчега так и подмывает меня воскликнуть вслед за Гоголем: «Отыскался след Тарасов!» Мы сказали выше, что орден храмовников был одновременно разгромлен почти во всех европейских странах. Эта оговорка — «почти» — очень важна. Потому что нашлись две страны, где тамплиеры уцелели. И обратите внимание — какие именно страны: Шотландия и Португалия. Вы спросите: а что в них особенного, в этих двух странах? Особенное в них то, что каждая из них в последующие века оказалась активно причастна к путешествиям в Эфиопию. Не куда-нибудь, а именно в Эфиопию. Нет, согласитесь, это явно неспроста… Но если бы только путешествиями в Эфиопию славились эти страны. Так ведь и сами эти путешествия были какими-то особенными, «со значением». Только присмотритесь — и у вас тоже голова пойдет кругом. Самым известным шотландским путешественником в Эфиопию (и, добавим, человеком, который впервые привез в Европу манускрипт «Кебра Нагаст») был некто иной, как упомянутый нами Брюс, первооткрыватель истоков Нила. И кем же был этот Брюс, потомок шотландских королей Брюсов? МАСОНОМ он был, Джеймс Брюс, членом общества вольных каменщиков, старейшая шотландская ложа которого (Кильвиининг) была основана королем Робертом Брюсом… И из кого бы, вы думали, состояла эта ложа? Из потомков шотландских и сумевших бежать из Франции тамплиеров! Если вы помните, именно тамплиеры, по некоторым предположениям, были теми, кто постиг в Иерусалиме тайны древней египетской и еврейской архитектуры и на основе этих тайн создал и распространил по всей Европе каноны средневековой готики. Кому же, как не им, быть создателями ордена вольных каменщиков?! И кому же, как не каменщикам-масонам искать в Эфиопии следы того самого Ковчега, который искали (а по слухам, даже нашли, но снова потеряли) их предшественники-тамплиеры?! Теперь-то мы понимаем, зачем Джеймсу Брюсу, масону и продолжателю тамплиерского поиска, нужна была «Кебра Нагаст»! Что же касается Португалии, то тут изучение продолжения истории тамплиеров вскрывает не менее удивительные тайные пружины вполне известных, казалось бы, событий. Португальский король хоть формально и распустил орден храмовников, но почти сразу же разрешил создать другой орден — Воинство Христово, в который влились уцелевшие португальские тамплиеры и их бежавшие из Испании собратья. Воинство Христово еще долгие века сохраняло большое влияние при лиссабонском дворе, и в начале XV века ее великим магистром был брат тогдашнего короля Генриха. Не исключено, что вы знаете этого Генриха, только под другим именем. В истории путешествий и географических открытий он известен как Генрих-Мореплаватель. Ибо страсть этого человека к морю и морским путешествиям была столь велика, что ради нее он отказался даже от претензий на престол и всю свою жизнь посвятил организации португальских экспедиций вокруг Африки. И что же искали там посылаемые им капитаны? Вы, конечно, уже догадались. Ну, да — царство пресвитера Иоанна, легендарное христианское государство в Эфиопии. Видимо, не из личного каприза или пристрастия к легендам искал принц Генрих эту страну. Иначе не случилось бы так, что человек, родившийся в год смерти принца и совершивший свое великое мореплавание 30 с лишним лет спустя, тоже искал это царство, жадно собирал сведения о нем в каждом африканском порту и только потому не достиг «земли обетованной», что она лежала далеко от берега, в глубинах черного континента. Этот человек вам тоже известен — Васко де Гама, первооткрыватель морского пути из Европы в Индию, совершивший свое плавание в 1497 году (принц Генрих умер в 1460-м). Судите сами, добавляет ли что-нибудь к нашим знаниям то обстоятельство, что, подобно Генриху-Мореплавателю, Васко де Гама тоже был членом братства Воинства Христова… * * *Не слишком ли много совпадений? Все исторические намеки, все упоминания в источниках и глухие отголоски в рыцарских романах, нити многовековых интриг и холодная логика рассуждения — все стягивается к одному и тому же простому утверждению: Ковчег не исчез — он находится в Эфиопии. И теперь, подведя базу под это исходное утверждение Грэма Хэнкока, любознательного английского журналиста и. автора книги «Знак и печать» (где эта гипотеза изложена и обоснована куда более подробно и занимательно), я вынужден поставить последний вопрос: верна ли эта гипотеза? Прежде чем ответить на него, я позволю себе еще сказать, что в 1991 году Грэм Хэнкок, окончательно убедив себя в том, что Ковчег находится в Эфиопии, направился в эту страну снова. В Аксуме он разыскал церковь девы Марии и попросил у хранителя храма разрешения взглянуть на церковную святыню. Ведь, говорят, здесь хранится сам Ковчег Завета, не так ли? Хранитель едва заметно кивнул. — Можно ли увидеть эту реликвию? Такой же еле заметный, но на сей раз отрицательный кивок: — К святыне не разрешено приближаться даже патриарху. — Ну, расскажите хотя бы, как она выглядит! — Об этом запрещено говорить. — Хорошо, ответьте тогда: вот завтра должна состояться самая важная из религиозных церемоний года — вынесут на нее сам Ковчег Завета или это опять будет копия? — Вы увидите это завтра сами. То, что увидел наутро Хэнкок, было еще одной копией пресловутого Ковчега — очень похожей, но, несомненно, копией. Но он увидел и другое: хранитель не пошел вместе с процессией. Хранитель остался в храме, удалился в Святая Святых и там молился за занавеской. «Перед чем он возносил молитвы? — вопрошает в конце своей книги Хэнкок. — Перед чем он молился, если не перед великой реликвией, которая считается такой святой, что ее не хотят выносить даже на самые главные религиозные церемонии? Перед чем еще он мог молиться, если не перед Ковчегом Завета?!» Таков ответ Хэнкока — человека, глубоко увлеченного своим поиском и своей гипотезой. Мы же ответим проще. Не так уж важно, хранится ли в Эфиопии подлинный Ковчег. Может быть, его давно уже нет. Может быть, он исчез в Вавилонии. А, может быть, ждет археологов в глубинах Храмовой горы, как считал покойный главный израильский раввин Шломо Горен. Повторим, это не так уж важно. Важно другое: эта реликвия «легла на сердце» эфиопским евреям (а от них эфиопским христианам), как когда-то русским — Богородица, а не сам Христос. Храмов Богородицы, ее Рождества, Покрова, Успенья и так далее, на Руси куда больше, чем храмов Христа, — наверно, не меньше, чем у эфиопских христиан «табот Моисея», этих «копий Ковчега». И, может, в этом культе Ковчега, возникшем, вероятно, еще у первых эфиопских евреев, было что-то от желания сравняться славой с еврейством Эрец-Исраэль, страны Соломона; а, может, и горечи от ощущения себя «последним сохранившимся (и сохраняющим реликвии) коленом Израилевым» после увода палестинского еврейства в вавилонский плен!.. Как бы то ни было, легенда о первом эфиопском царе Менеликс, сыне Соломона и царицы Савской, похитившем Ковчег из Иерусалимского Храма и доставившем его в Эфиопию, возникла, укрепилась, стала народной и дала начало культу Ковчега и традиции «табот». Этот культ и традиция распространились столь повсеместно и укоренились так глубоко, что даже если Ковчега в Эфиопии нет, она все равно заслуживает названия «Страны Ковчега». И поэтому Хэнкок прав: если искать следы Ковчега — то только в Эфиопии… Однако главное достоинство его книги состоит все-таки не в этом, а в том, что, подобно многим другим, столь же масштабным трудам о «гипотетической истории» (например, Иммануила Великовского), она делает нас свидетелями напряженного интеллектуального поиска. И подлинный ее герой — не утраченный Ковчег Завета, а та настойчивая, ищущая, любознательная мысль, что, словно ткацкий челнок, неутомимо снует между веками и эпохами, людьми и событиями и на наших глазах сшивает их все в единую ткань занимательного рассказа. >ЧАСТЬ 4 БИБЛИЯ И НАУКА >ГЛАВА 1 БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Название этой «интерлюдии» я заимствовал у одного из любимых мною фантастов Джеймса Морроу, а номер поставил свой — потому что он продолжает начатый в предыдущей главе разговор об авторстве ТАНАХа, точнее — Торы. Как мы теперь уже знаем, критическое исследование библейского текста началось уже давно, и к сегодняшнему дню установлено, что авторов у Торы было по меньшей мере четыре. Первый и самый древний из них, написавший основную часть книг Бытия, Исхода и Чисел, обозначается буквой J, так как в его рассказе Б-г всегда именуется Jahweh (в славянской традиции — Ягве); последующие именуются, соответственно, E (поскольку он называет Божественное существо словом Elohim (Элогим); рассказ этого автора содержится в тех же книгах и переплетается в них с рассказом J; далее — P (от английского Priest, что значит «жрец»; считается, что он написал почти всю книгу Левит); и, наконец, D (автор «Второзакония», или, по-гречески, Deuteronomos, откуда английское Deuteronomy). Подозревают, что был еще R, или «Редактор» (который произвел окончательную ревизию всего текста в целом после возвращения евреев из вавилонского плена), а также, возможно, многочисленные другие авторы более мелких разделов текста, но это уже частности, и мы не будем о них говорить. Исследование ТАНАХа все еще не закончено и, наверное, не закончится никогда, потому что книга эта таит в себе бесчисленное множество исторических, литературных и чисто смысловых загадок. Вот буквально на днях в израильской газете «Гаарец» была опубликована беседа с профессором Еврейского университета Менахемом Хараном, который предложил еще одну, совершенно новую гипотезу о том, как возник ТАНАХ в целом. Эта гипотеза основана на десятилетней продолжительности исследования, которое привело Харана к выводу, полностью опровергающему предыдущие толкования. Профессор Харан утверждает, что в еврейский канон (то есть в Тору) были включены не какие-то специально отобранные (из большого множества сохранившихся) книги, а, напротив, буквально все, какие только и сохранились, других якобы попросту не было. «Собиратели канона поистине замели с пола последние крошки, — говорит Харан. — Они включили в канон даже такие крохотки, как книгу пророка Овадии, которая занимает в нем всего одну страничку. После них не осталось ничего, что народная традиция предыдущих столетий считала бы Боговдохновенным». Харан доложил свою гипотезу на недавнем конгрессе библеистов в Лондоне. Он не говорит, как ее там приняли. Он ограничивается туманным: «Во всяком случае, ТАКОГО они никогда не слышали». И это показывает, что в области исследования ТАНАХа еще существует поле для самых смелых гипотез. Об одной из них я как раз и хочу рассказать. Она связана с самым интересным для исследователей (потому что самым древним) текстом канона — текстом J — и с самой интересной для них (потому что самой запутанной) загадкой о времени и месте его написания. Впрочем, эта загадка частично уже решена: среди специалистов царит согласие, что этот текст был написан в X веке до новой эры в Иерусалиме, при дворе царя Соломона. Но, как мы уже поняли из слов профессора Харана, в библеистике всегда есть место другим гипотезам. И та, о которой я намерен сейчас рассказать, идет вразрез с устоявшимся мнением и предлагает совершенно иную трактовку как истории, так и содержания текста J. Нам это особенно интересно, потому что попутно авторы предлагают весьма оригинальное и смелое прочтение древнейшей еврейской истории, способное серьезно поколебать все наши представления. И точно так же они разрушают все наши сложившиеся представления о смысле важнейших эпизодов Торы. Я не хочу этим сказать, что все, что они пишут, истина в последней инстанции; это, конечно, только научная гипотеза. Но очень уж необычная. Авторы этой незаурядной книги — американский историк-библеист Роберт Кут и священник Дэвид Орт. Они сделали следующее: вычленили из общего текста Торы текст, принадлежащий J, заново перевели его на современный английский язык и снабдили пространным комментарием. Тут и появляются неожиданности. Они подстерегают нас с самого начала. С чего вообще начинается Тора? С рассказа о шести днях творения. Так вот, в тексте J этого рассказа не было. Он начинался иначе (я перевожу авторов, а они — вторую главу книги Бытия, стихи 4–7): «В то время, когда Ягве, Господь, создал небо и землю — и прежде, чем появилось хотя бы первое плодовое дерево, и даже злаков еще не было на полях, потому что Ягве, Господь, еще не создал дождь на земле, и не было человека, чтобы обрабатывать эту землю, хотя ручьи уже вышли из земли той и увлажнили всю почву ее, в то время Ягве, Господь (обратите внимание, как старательно автор каждый раз подчеркивает, что Ягве — это Господь, то есть Бог; это нам еще понадобится. — Р.Н.), создал человека из праха земного, вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек превратился в живое существо». Далее следует знакомый рассказ о том, как Господь сотворил всех животных и привел их к Адаму, чтобы он дал им имя, но Адам не нашел среди них «помощника, подобного себе», и тогда Господь сотворил из его ребра Еву и назвал ее «иша» (женщина), потому что она плоть от плоти «иш» (мужчины). Текст продолжается до изгнания из рая: «И сказал Ягве, Господь: человек стал, как один из нас, /…/ и изгнал его из Эдема, чтобы возделывать, землю, из которой он взят». О чем же эта история, спрашивают авторы. И тут же огорошивают нас ответом: «Рассказ J — это, в первую очередь, повествование, призванное разъяснить царское понимание необходимости труда всех его подданных. Этот рассказ является центральным во всем тексте J, и не случайно кульминацией этого текста (в книге Исхода) является определение «Израиля» как всех тех, кто был освобожден из египетского рабства «мощной рукой» Ягве, Господа, — Бога еврейского царства». Это немного напоминает кое-какие знакомые вульгарно-материалистические трактовки религиозных текстов в советской атеистической литературе, не правда ли? Не торопитесь; если бы речь шла об очередном атеистическом произведении, я бы не стал занимать им ваше внимание. Авторы действительно хотят вернуть библейский текст на историческую почву, но идут серьезным научным путем. Свое утверждение они немедленно обосновывают сопоставлением этого текста J с другими, еще более древними ближневосточными сочинениями того же рода. И тут перед нами открывается совершенно нам неизвестный, пожалуй, и поразительно увлекательный (и поучительный) мир ближневосточной мифологии. Оказывается, уже за несколько столетий до текста J (напомним — считается, что он был создан в X веке до н. э.) в Вавилоне уже были записаны два грандиозных, основополагающих мифологических рассказа: «Энума Элиш», легенда о сотворении человека богом Мардуком, и «Атра-Хасис» — сказание о Потопе. За последующие несколько столетий они настолько широко распространились по всему Ближнему Востоку, и пользовались такой огромной популярностью, что наверняка были хорошо знакомы и самому J. Теперь обратим внимание на крайне интересные детали этих рассказов. В «Энума Элиш» описывается, как бог Эа победил восставших богов Апсу и Тиамат и, «познав» свою жену Дамкину, родил бога Мардука. К этому-то Мардуку и являются «боги-рабочйе», которые жалуются на свою трудную работу и тяжкую жизнь; тогда Мардук придумывает создать «луллу» (людей), которые трудились бы вместо богов, причем создать их из того бога, который подстрекал Апсу и Тиамат (помните: «Вот, Адам стал, как один из нас»? Немудрено, если он сделан из той же плоти!). Иными словами, люди созданы из плоти руководителя восстания; поэтому их обязанность работать — это не что иное, как наказание покаранному богу в лице его «потомков». Примерно такую же историю рассказывает «Атра-Хасис»: здесь жалующиеся на тяжкую работу боги приходят к Энлилю, и тот решает сделать людей («шупшикку», или корзину грязи) из глины, а также — опять! — из мяса и крови руководителя жалобщиков. «И пусть в этом мясе останется дух, и пусть скажут ему перед казнью о его судьбе, и дабы он не забыл, пусть дух его останется в них». Иначе говоря, дух покаранного бунтовщика будет напоминать людям о бесплодности всякой попытки отказа от труда; и чем больше будет их труд, и чем сильнее будет в результате «говорить» в них этот дух (то есть стучать от напряжения сердце), тем меньше будет у них соблазн бунтовать и жаловаться. Тот же Энлиль является героем другого рассказа, в котором он, после создания неба и земли, создает соху, а в добавление к ней — человека, ибо «кто-то должен же обрабатывать эту землю этой сохой». А в древнем египетском тексте под любопытным названием «Созданы ли люди так, что они обладают равными возможностями?» (утверждается, кстати, что да) объясняется, что люди созданы со страхом смерти, «дабы не забывали трудиться во имя богов». Здесь, как и во всех других перечисленных выше текстах, в этих «богах», вместо которых должны трудиться простые смертные, легко угадываются правители и знать соответствующих земель. Ведь именно они считались земными воплощениями божества, и построенные ими храмы считались творениями Мардука, Энлиля или Баала. Поэтому и первая же заповедь Ягве, Господа, сообщенная Ною, — «Плодитесь и размножайтесь» (и повторенная затем Аврааму в виде обетования сделать его потомство многочисленным, «как песок морской») — имеет еще и тот практический смысл, что для труда «вместо богов» нужно много людей. Есть, однако, труд и — труд. Из дальнейшего текста J (уже в книге Исхода, в рассказе о египетском рабстве) становится очевидно, что Ягве, Господь (то есть Бог Израиля), категорически выступает только против одного особого вида труда, а именно — «египетского», то есть рабского труда, или барщины, которым — наподобие вавилонских богов — наказали людей боги Египта. Но Ягве, Господь, отнюдь не против труда вообще, напротив: уже в сцене изгнания из райского сада он приговаривает людей к пожизненному труду. Но к какому? К труду свободных земледельцев, а не рабов фараона. Таким образом, Ягве, Господь, оказывается уникальным богом: он расходится со всеми остальными богами региона в определении характера обязательного труда. Поэтому он стоит особняком в региональном пантеоне и вынужден бороться с другими богами за признание, вынужден отвоевывать у них «свой» народ, который будет жить по «Его» и только Его заповедям. В сущности, вся история препирательств Моисея с фараоном и насланных Ягве на египтян «казней египетских» — это и есть история такой войны Ягве, Бога Израиля (о котором фараон презрительно говорит, что «не знает такого бога»), с богами Египта — и его конечного торжества над ними (в виде торжества над фараоном, которому они покровительствуют). Почему же Ягве отвергает рабство и барщину? Потому что в его «понимании» (то есть в понимании еврейских царей, торопливо добавляют авторы) обязательный труд должен быть только таким; каким он сложился в Палестине, а не в каком-нибудь Египте, иными словами — трудом царских земледельцев, которые отдают десятину Б-гу, положенное — царю, а остальным распоряжаются сами. А почему то был именно такой, а не иной труд? Да просто потому, объясняют авторы, что именно такова была в те древние времена структура труда (и общества) на Палестинском нагорье, где и сложилось первое еврейское царство, признавшее Ягве, Господа, своим Б-гом, выведшим народ из рабства «рукою мощною, мышцей простертого». (Кстати, в этой характеристике победоносного Ягве есть и свой насмешливый аспект: обычно обладателями «мощной руки», «сильной руки», «руки, способной пустить сразу десять стрел из одного лука», неизменно именовали себя на своих стелах египетские фараоны, возвеличивая тем самым своих богов; но вот — мышца Ягве оказалась сильнее!) Таким образом, рассказ об Исходе — это страстное возвеличение Ягве, который мощнее всех других богов (прежде всего египетских), и одновременно — это возвеличение силы того царя (и народа), которому покровительствует такой Бог; и одновременно — это идеологическое обоснование власти этого царя и его законов (которые объявляются «заповедями Ягве»), а также обоснование необходимости труда (земледельческого, а не рабского) на этого правителя. Неудивительно, что Кут и Орт (как и еврейская традиция вообще, кстати) считают рассказ об Исходе центральным узлом всех основных мотивов текста J. Удивительней другое — что тотчас после такого признания они объявляют этот «центральный узел» полностью вымышленным! И это ведет нас прямиком к исторической части их гипотезы, не менее оригинальной и дерзкой, чем изложенная выше религиозная. Итак, Кут и Орт призывают нас принять как факт, что рассказ об Исходе в тексте J — вымышленная история. Не было Исхода, не было Моисея, не было завоевания Ханаана и не было двенадцати колен, между которыми была разделена завоеванная земля. Так и хочется спросить: а были ли сами евреи? На это авторы твердо отвечают: были. Но история евреев выглядела иначе, не так, как она излагается в тексте J, столь хорошо знакомом нам по ТАНАХу. Этот текст, говорят Кут и Орт, нужно перечитать под углом зрения того, что известно современной исторической науке. Что же ей известно? Отбирая лишь то, что они считают «надежно установленными фактами» и «разумными гипотезами», авторы рисуют следующую картину. Незадолго до 1000 г. до н. э. на Палестинском нагорье (то есть в нынешних Самарии и Иудее) располагались многочисленные деревни свободных еврейских земледельцев. Между деревнями высились отдельные города (разумеется, города в древнем понимании этого слова, то есть небольшие крепости, окруженные более или менее мощными стенами; Иерусалим принадлежал к их числу). Кстати, многие из этих городов, упоминаемые в истории завоевания Ханаана армиями Йегошуа Бин-Нуна — как, например, Иерихон, — к тому времени уже не были населенными: они, по данным археологии, к тому времени уже были заброшены и безлюдны, так что «завоевать» их евреи никак не могли — там нечего было завоевывать (что, в частности, является одним из аргументов в пользу фантастичности рассказа об Исходе из Египта в Ханаан). Так вот, существовавшие в то время города нагорья были заняты египетскими гарнизонами, поскольку Египет — в ту пору сильнейшая держава Ближнего Востока — контролировал всю Палестину. И, разумеется, нещадно эксплуатировал местное население (что и отразилось в рассказе о «египетском рабстве»). Возможно, имели место народные волнения (истории об этом ничего не известно, но этого нельзя исключить), и можно думать, что в таком случае египтяне очередной раз вторгались в страну, наводили порядок и затем хвастливо запечатлевали сей победный факт на стелах очередного фараона (именно так, по всей видимости, появилось и единственное сохранившееся упоминание такого рода — о побежденном «народе Израиль» на стеле фараона Мернептаха, примерно в 1200 г. до н. э.). Не удивительно, что Египет воспринимался как злейший и сильнейший враг, как постоянная опасность; неудивительно, что «антиегипетский мотив» пронизывает весь текст J, в котором постоянно повторяется-одна и та же сказочная схема: вымышленные еврейские герои (Иосиф, Моисей) побеждают египтян не числом, а уменьем, не силой, а хитростью. (Кстати, не исключено, добавляют авторы, что в рассказе о службе Иосифа у Потифара отразилась реальная история какого-нибудь местного еврейского аристократа, сотрудничавшего с египетским наместником в Палестине.) Была и еще одна группа палестинского населения, которая видела в египтянах постоянную угрозу. То были «бедуинские» (по существу, те же еврейские) пастушеские племена, чьи владения сплошным кольцом окружали нагорье. Собственно, и евреи-земледельцы, утверждают авторы, первоначально были пастухами, а их легендарный «праотец» Авраам — обычным «бедуинским» шейхов, такими же шейхами были и его потомки. Имена типа Авраам, Ицхак, Яаков, — говорят авторы, еще долго сохранялись среди тогдашних пастушеских племен, напоминая об общем происхождении евреев-земледельцев и евреев-пастухов. Постепенно среди тех и других сложилась традиция, возводящая это происхождение к общему предку Аврааму, что и было (полтысячелетия спустя) использовано в тексте J. Автор этого текста, выдающийся писатель-идеолог, искусно соединил земледельческие и пастушеские мифы об Аврааме и его потомках с идеей Ягве — Бога, покровительствующего авраамову роду в его борьбе с Египтом. Кут и Орт приводят ряд примеров такого соединения, из которых я для краткости выберу самый эффектный (он характеризует заодно и текстологические методы этих авторов). Речь идет о посещении Авраама «тремя ангелами», которых тот принимал и угощал под Мамрийским дубом (Бытие, 18:1-15) и «один из которых сказал: Я опять буду у тебя в это же время (в будущем году), и будет сын у Сарры, жены твоей». Эта фраза вызвала у престарелой Сары «внутренний смех», на что «ангел» (то есть Ягве) обиженно вопросил: «Есть ли что трудное для Господа?» Смех Сары, объясняют нам авторы, вызван был тем, что в этот миг она ощутила сексуальное наслаждение, род оргазма, ибо именно в этот миг Ягве «вошел» в нее, и она засмеялась от счастья. Когда же она выразила сомнение, что понесет, Ягве оскорбился: «Что, для Меня это такое чудо, что ли?» В сущности, здесь (куда живее и ярче, чем в Евангелиях) рассказана история непорочного зачатия с добавлением существенной детали: поскольку своим поступком в отношении Сары Ягве нарушил законы бедуинского гостеприимства, он тотчас объявил, что сделал это ради великого дела размножения (не это ли он первым делом заповедал Ною?), а в качестве «компенсации» обещал хозяину произвести от него «великий народ». Такое соединение народных мифов с прославлением Ягве как гаранта величия народа, говорят авторы, позволило J сделать свой текст, а заодно и монотеистическую идею самого Ягве, приемлемым для простого народа и тем самым достичь своей главной идеологической цели. Ибо, по мнению авторов, главная цель J состояла в том, чтобы утвердить в народе культ Ягве, чтобы с помощью этого освятить царскую власть, ее законы и необходимость крестьянского труда на царя и городскую знать. Ибо авторы убеждены, что текст J, хоть и предназначался для «народа», создан был при царском дворе, выражал потребности царя и знати и отражал так называемую «высокую» традицию (этим словом историки обозначают традиции, сформировавшиеся в придворной среде грамотеев-писцов и жрецов-священников в противоположность «низкой» традиции, то есть легендам и сказаниям народных слоев). Текст J, утверждают авторы, — это «высокая традиция» высших слоев, отражающая историю, какой ее видят эти слои, освящающая («сакрализующая») эту историю с помощью ссылок на Божественное покровительство и навязывающая себя простому народу посредством искусного и намеренного включения в состав своей традиции элементов традиции «низкой», знакомой этому народу. Поскольку этот текст, продолжают авторы, сложился спустя добрых 500 лет после описываемых в нем легендарных событий начальной истории народа, трудно думать, что он отражает какие-либо реальные исторические факты. Следовательно, такие древнейшие эпизоды текста, как история Авраама и его потомков, египетское рабство, Исход и завоевание Ханаана правильнее рассматривать не как отражение сохранившейся в народной памяти «истинной» древней истории еврейского народа (что мог помнить неграмотный народ о своей истории спустя 500 лет? Что, к примеру, помнили — и что знали — европейские крестьяне X века о событиях времен падения Римской империи, отдаленных от них на те же 500 лет?), а как аллегорическое отражение каких-то важных для автора, для его целей (то есть, в конечном счете, для царского двора) и действительно реальных событий совсем недавнего прошлого. Иными словами, авторы полагают, что J — под видом истории Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше и Йегошуа Бин-Нуна — на самом деле излагает (в доступной «народу» мифологической форме, используя образы знакомых легендарных героев) историю царствующего правителя, создавшего еврейское государство. Кто же этот царь, кто истинный герой основного библейского текста, этой «книги J»? Иными словами, когда и где эта книга была написана? Это возвращает нас к прерванному историческому рассказу. Кут и Орт развивают свою гипотезу следующим образом. К 1000 г. до н. э., говорят они, власть Египта над Ханааном резко ослабла. (Это действительно подтверждается документами того времени — перепиской египетских наместников в Сирии с фараонами, найденной при раскопках городища Эль-Амарна.) Причиной такого ослабления были, видимо, внутренние трудности Египта. Как бы то ни было, египетские гарнизоны в Палестине оказались отрезанными от своей страны. И тогда, надо думать, крестьянское население Палестинского нагорья воспряло духом. Пастушеские племена Южной Палестины и Синая тоже почувствовали вкус свободы. В сущности, произошло примерно то же, что в нашем веке на Ближнем Востоке, когда отсюда ушли великие державы, — регион впервые за долгие века оказался предоставлен сам себе. Открылось окошко «благоприятных возможностей», и можно думать, что освободившиеся народы не преминули им воспользоваться. Именно поэтому, утверждают авторы, в тогдашней Палестине и смогли произойти два важных события: население нагорья объединилось под властью единого царя (каковым оказался Саул), а среди евреев-пастухов появился свой собственный вождь-объединитель (каковым стал Давид — соперник Саула, бежавший к пастухам от преследований царя). В этой части своей гипотезы Кут и Орт не одиноки и не оригинальны. Другие современные историки тоже признают историчность библейского рассказа о возникновении первого еврейского царства на Палестинском нагорье. Но каждый из них объясняет становление этого царства по-своему. Одни считают, что объединение нагорья произошло насильственным путем — в результате какого-то внешнего завоевания (может быть, тем же Саулом). Другие полагают, что это было результатом уже упоминавшегося крестьянского восстания против местных (и к тому времени ослабленных) египетских гарнизонов (причем кое-кто из сторонников данной гипотезы добавляет, что подняла крестьян на это восстание группа религиозных египетских еретиков-монотеистов, бежавшая из Египта в Палестину). Наконец, третьи утверждают, что царство возникло в результате проникновения в Нагорье кочевников-пастухов из близлежащих степей Негева и Синая. Оригинальность гипотезы Кута и Орта состоит в том, что она сочетает в себе непротиворечивые элементы всех трех вышеупомянутых теорий. Во-первых, она признает факт крестьянских волнений — по мнению авторов, это отразилось в рассказе о том, как «старейшины Израиля» потребовали себе царя (Саула). Во-вторых, она сохраняет и возможность участия каких-то пришельцев-монотеистов в этом воцарении: может быть, говорят Кут и Орт, пророк Самуил, так неохотно помазавший на царство Саула вопреки воле Ягве, и был одним из этих пришлецов, принесших в Палестину культ единого Бога. Но главное в этой этой гипотезе — предположение о том, что решающую роль в объединении всей (и земледельческой, нагорной, и пастушеской, степной) Палестины сыграло именно вторжение пастушеских племен с равнины в горную часть страны, до того управлявшуюся Саулом. Давид, утверждают авторы, как раз и был руководителем этого союза пастушеских племен; библейский же рассказ о «завоевании Ханаана» армиями Йегошуа Бин-Нуна — это всего лишь отражение этого реального завоевания нагорья армией Давида. Таким образом, центральную роль в гипотезе Кута и Орта играет Давид. По их убеждению, этот искусный стратег и прирожденный политик первым осознал и сумел использовать историческое «окошко возможностей», открывшееся в результате ослабления Египта. Потерпев поначалу поражение в борьбе с Саулом за власть над нагорьем, он бежал в южные степи и — посредством серии хитроумных военных и политических маневров — сплотил тамошние пастушеские племена в единый союз, своего рода племенную федерацию — сначала для организации коллективного заслона против возможного возвращения египетских армий (в этом он нашел поддержку филистимлян, осевших к тому времени на побережье), а затем — для вторжения в нагорье и овладения им. Сколотив такую федерацию, Давид возглавил ее и сделал своей столицей Хеврон — главный центр тогдашней пастушеской части Палестины. Здесь он, как следует из танахического рассказа, провел целых семь лет, все это время готовясь к вторжению в нагорье. Достаточно усилившись (и попутно разгромив те пастушеские племена, которые не примкнули к созданной им федерации), Давид, наконец, вторгся в нагорную Палестину, захватил Иерусалим, перенес туда свою столицу и провозгласил себя царем. Земледельцы Палестины были обложены налогом, но зато получили право на свободный труд (которого были лишены под властью египетских наместников в «египетском рабстве») и гарантии защиты от египетских притязаний. А пастушеские племена в благодарность за поддержку получили право беспрепятственного пользования пастбищами нагорья: оно было разделено на 12 районов, каждый из которых был закреплен за тем или иным племенем. Отсюда, говорят авторы, и пошла история «двенадцати колен»: по их мнению, она была придумана задним числом, чтобы оправдать такой «раздел» Палестины. Что же до названий этих уделов — «удел Дана», «удел Иегуды» и так далее, — то они, говорят Кут и Орт, попросту отражают имена тогдашних пастушеских вождей — союзников Давида: ведь и они были такими же евреями, как земледельцы нагорья; поэтому среди них были распространены те же имена. Такова в самых общих чертах та историческая гипотеза, которую предлагают Кут и Орт в своей книге «Первый текст Библии». Гипотеза, надо признать, довольно революционная. Ведь, если вдуматься, авторы утверждают не более, не менее, что вся танахическая история евреев, все ее события, от прихода Авраама в Ханаан и до Моисея и Йегошуа, впервые зафиксированные в тексте J, есть на самом деле не что иное, как продуманная и сознательная аллегория. По глубокому убеждению авторов, неведомый (и, несомненно, гениальный) J попросту описал в своем тексте историю воцарения Давида, спроецировав ее в легендарное еврейское прошлое и «поделив» между легендарными героями. Но отсюда следует, что не правы были все те историки, которые много десятилетий подряд считали, что текст J был создан при дворе Соломона. На самом деле, говорят авторы, он был создан именно при дворе Давида, который первым сумел использовать предоставленную историей короткую передышку для объединения всех еврейских племен — как земледельческих, так и пастушеских — в единое царство (Саул еще правил только в нагорье). Именно Давиду и понадобилась собственная «придворная» история, которая прославила бы его деяния и утвердила бы его власть в сознании подданных. Передышка эта продолжалась всего 60 лет: как мы знаем, к концу царствования Соломона первое объединенное еврейское царство распалось на Иудею и Израиль. Авторы полагают, что это было вызвано тем, что к тому времени Египет снова укрепился, и его «агентура» в Палестине спровоцировала этот раскол, чтобы ослабить и подчинить евреев. Но в эпоху Давида, заключают авторы, евреи успели получить не только собственное национальное государство, но также собственный национальный миф и собственную национальную идеологию — как раз в виде текста J, этой первой версии ТАНАХа, навеки сплотившего евреев если не территориально, то духовно. Этот текст, по мнению Кута и Орта, был создан с осознанной целью укрепления новорожденной монархии и освящения ее родословной и ее претензий посредством культа Ягве. Неслучайно культ этот в тексте J — подчеркнуто «пастушеский», «палаточный», не знающий никакого Храма; во времена Соломона, строителя Ирусалимского Храма, такой пастушеский культ был бы уже немыслим. Текст J сделал главными героями еврейской истории не земледельческих, а пастушеских вождей, этих подлинных хозяев нового государства и его аристократию. Он приписал им задним числом сакральную историю и легендарную генеалогию, возведя их к Аврааму, Ицхаку и Яакову. Традиционные хождения этих пастухов в Египет, их периодическое порабощение египтянами, временные союзы их вождей (Йосефа?) с египетскими наместниками палестинских городов — все это было использовано для создания величественной мифологической эпопеи Исхода. Фигура Давида — законодателя нового царства и создателя новой нации превратилась под пером J в грандиозный образ законодателя Моисея. История завоевания пастухами-кочевниками Палестинского нагорья легла в основу рассказа о завоевании Ханаана кочевыми армиями Йегошуа Бин-Нуна. Раздел между пастушескими вождями пастбищ нагорья стал историей «двенадцати колен». И так далее. Так, говорят авторы, и был создан национальный эпос, национальный миф и национальная религия. И подлинным их создателем был неведомый гениальный писатель давидова двора, именуемый сегодня J. Возможно, поначалу текст J замышлялся в виде всего лишь обычной хвалебной песни, этакого гомеровского эпоса, исполняемого перед лицом тщеславного царя и угодливой знати. Но соединение в этом тексте всех национальных сказаний и легенд, в которых нашла воплощение недавняя и хорошо знакомая тогдашним евреям реальная история становления их первого государства, привело к тому, что этот эпос глубоко запал в народную память и стал «священной книгой» новой нации. Заново и глубоко переосмысленные (как изначально направлявшиеся Господом Ягве) истории еврейских праотцев и «египетского рабства», Моисея и Исхода, скитаний в пустыне и «дарования законов», завоевания Ханаана и «двенадцати колен» — все это стало основой новой веры и содержанием уже не племенной, а национальной истории. И эта основа уцелела даже после распада государства. Так заканчивают свое объяснение происхождения, смысла и судьбы первого текста ТАНАХа американские авторы. Добавим уже от себя: этот эпос вобрал в себя и самые замечательные, чарующие воображение, самые распространенные на всем Ближнем Востоке легенды — о создании человека «по образу и подобию богов», о райском саде и потопе, о Вавилонской башне и т. п. Положенные на этот баснословный, но благодаря давности и распространенности почти достоверный фон, все прочие рассказы J тоже могли быть восприняты как почти достоверные. Поэтому религиозная идея и светская идеология (частично заимствованные из вавилонских и угаритских предисточников), искусно переплетенные с мифом, могли действительно стать в таких условиях общенародными. С другой стороны, все это могло происходить, конечно, и совершенно иначе: текст J мог не иметь таких «скрытых намерений»; он мог действительно отражать пусть и легендарное, но имевшее реальную фактическую основу еврейское прошлое; становление монотеистической религии могло начаться задолго до создания этого текста, а в нем найти лишь свое гениальное воплощение — и так далее; вы можете все это продолжить вместо меня. И тогда гипотезу Кута — Орта придется признать неверной; Но я полагаю, что с ней стоило познакомиться. Уж очень она радикальна и увлекательна. Одно лишь следует помнить, взвешивая степень ее достоверности: она относится именно к тексту J, то есть только к тому, что является содержанием первых книг ТАНАХа. В Торе есть и отдельный рассказ о Сауле и Давиде — это Первая и Вторая книги Царств; но они написаны другими авторами; как считается — уже после Соломона. В тексте же самого J никаких прямых упоминаний о Сауле, Давиде и Соломоне нет, и все, что в него «вложили» Кут и Орт, — это их самостоятельная историческая реконструкция. Таких реконструкций в последние годы появилось немало. Гипотеза Кута и Орта затрагивает небольшой отрезок истории — какое-нибудь столетие. Куда более масштабной — и волнуюшей воображение — является, например, та реконструкция (впрочем, уже в основном, постбиблейских событий), которую предложил недавно Грэм Хэнхок в своей книге «Знак и печать». Впрочем, эта смелая реконструкция заслуживает отдельного рассказа. >ЧАСТЬ 5 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ >ГЛАВА 1 ВЕЛИКИЙ ИЕРИХОН Опустевшая синагога в Иерихоне находится теперь на территории палестинского автономного анклава. Доступ евреям в город временно, запрещен. В один день древний Иерихон, некогда взятый еврейскими войсками, перед которыми, по преданию, пали его стены, превратился в палестинский административный центр. Что называется — росчерком пера. Предание о стенах, павших от рева еврейских военных труб, увековечило имя Иерихона в человеческой памяти. Но для историков это название звучит еще весомее. Иерихон — одна из важнейших вех на пути человечества из древнего каменного века в век бронзовый. Это один из древнейших, а может быть — и самый древний город на Земле. В сокровищнице исторических ценностей, которыми столь богата Земля Израиля, Иерихон — одна из ценнейших. Самому древнему из сохранившихся народов западной цивилизации вполне приличествовал самый древний ее город. Это не говоря уже о собственно еврейских памятниках Иерихона. Хотя бы о тех же Иродовых дворцах. По странной случайности совпало так, что одновременно с этой утратой вышел в свет специальный номер журнала «Сайентифик америкэн», под обложкой которого были собраны все ранее опубликованные в журнале статьи, посвященные древним городам мира. И конечно, открывала этот сборник статья, рассказывающая о раскопках в Иерихоне. Принадлежала она перу Кэтлин Кеньон, дочери бывшего директора Британского музея и знаменитой исследовательнице, которая в середине нашего века впервые открыла миру долгую и славную историю древнего Иерихона. Листая эту по существу мемориальную статью, вглядываясь в фотографии раскопок и найденных предметов, вчитываясь в рассказ автора, невольно ощущаешь, как ты все глубже и глубже опускаешься по ступеням веков в прошлое. Вот уже скрылись из виду гигантские метрополии современности, пустыннее стала Земля, все меньше на ней людей и людских поселений, в сотнях и тысячах километров находятся они друг от друга, разделенные безлюдными и дикими пространствами; вот уже одни только охотничьи племена с их каменными орудиями остались на поверхности планеты, и именно тут, в этой дали туманного прошлого, взгляд натыкается на нечто неожиданное и явно искусственное: мощные каменные стены, взметнувшиеся к небу из пустыни. Иерихон… Человечество не сразу перешло к оседлому образу жизни. Этот переход произошел лишь с окончанием последнего ледникового периода, «каких-нибудь» десять тысяч лет назад, в конце каменного века. Именно тогда в Западной Азии возникли первые оседлые поселения — то, что впоследствии стало называться городами. Значение их в истории цивилизации огромно — недаром англичане подчеркивают, что слово «city» одного корня со словом «цивилизация». Город — это нервный узел любой цивилизации, средоточие ее административных, религиозных, культурных и всех прочих функций, символ ее непрерывности и преемственности. Сегодня две трети человечества живет в городах. Но так было не всегда. Первые деревни сосредоточивали в себе каких-нибудь несколько сот, а то и всего несколько десятков жителей. Первым городом на Земле стало место, население которого впервые в истории перевалило за тысячу. Это и был Иерихон. На приведенной в журнале исторической шкале, протянувшейся от 8000 года до новой эры к 1000 году после ее начала, длинной цепочкой вытянулись самые древние города Земли. Открывает этот список Иерихон. За ним с разрывом в полтысячи лет следует Тель-Абу-Хурейра, что в Сирии. Проходят еще полторы тысячи лет, и появляются Чатал Хююк в Анатолии (современная Турция) и Мергар в нынешнем Пакистане. Только за пять с половиной тысяч лет до нашей эры возникли первые города Месопотамии — знаменитые Ур, Урук и другие, а за ними, с разрывом еще в три с половиной тысячи лет — Иерусалим и Кноссос (в русском написании Кнос) на Крите. Большинство этих городов ныне занесены песками, а Кноссос — вулканическим пеплом. И только в Иерихоне и Иерусалиме все эти нескончаемые тысячи лет-непрерывно продолжают жить люди — до наших дней. Что уж тут говорить о Помпеях или Петре, а тем более о первом русском городе Новгороде, возникшем практически уже в «наши» исторические времена, где-то на рубеже первого тысячелетия новой эры! Младенцы… Как ни странно, еще несколько десятков лет назад такой список немыслимо было себе представить. Историки знали, конечно, что Иерихон существовал еще во времена завоевания евреями Ханаана, но никогда не думали, что его стены уходят в такую седую древность. Да и стен этих давно уже не было. Первых археологов привела в Иерихон вовсе не эта древность (о которой никто не догадывался), а жгучее желание проверить библейскую легенду. Поиски рухнувших от «иерихонского рева» стен начал британский археолог Джон Гарстанг, который прибыл сюда в 1930 году. Именно он первым обратил внимание на древний холм неподалеку от города и пришел к выводу, что именно под этим холмом должны скрываться остатки библейского Иерихона. Холм (или курган) в семитских языках — «тель» — созвучен английскому «teil», что означает также «рассказывать». И раскопанный Гарстангом тель Иерихо действительно рассказал о прошлом города. Нет, археолог не нашел подтверждения библейской легенды. Зато он нашел кое-что куда более важное для исторической науки. Глубоко в раскопе его сотрудники обнаружили бесспорные свидетельства того, что люди жили в этих местах уже в конце каменного века. Иерихон стал сенсацией в мировой археологии. Не удивительно, что вслед за Гарстангом сюда пожаловала следующая археологическая экспедиция, которую возглавляла Кэтлин Кеньон. К тому времени она уже прославилась своим участием в раскопках в Родезии и Англии. В январе 1952 года ее сотрудники первый раз вонзили свои лопаты в землю Иерихонского теля и стали слой за слоем снимать его покровы. Основы современной археологии заложил еще в прошлом веке английский ученый Флиндерс Петри. Он указал, что датировка прошлого может производиться с помощью оставшихся от этого прошлого предметов, т. н. артефактов. В особенности красноречива в этом смысле глиняная посуда. Петри показал, что. каждой стадии истории Востока соответствовала своя особая посуда, виды которой можно классифицировать по эпохам и сопоставить с клинописными и иероглифическими надписями Египта и Месопотамии. Это позволяет в конечном счете датировать все такие эпохи, а с ними и те слои, в которых были обнаружены «говорящие артефакты». Важно только снимать эти слои один за другим, тщательно и терпеливо отделяя эпоху от эпохи. Разумеется, это не очень удобный, а главное — не очень точный метод. Отдельные слои порой идут под наклоном, углубляясь в землю и пересекаясь там с другими слоями. Черепки нередко перемешиваются временем и человеческой рукой. Впоследствии методы Петри были усовершенствованы и дополнены приемами радиографического (радиоуглеродного) определения дат, которые оказались несравненно более точными. Именно с их помощью удалось доказать, что даже Кеньон ошиблась в своей датировке иерихонских руин. Она определила возраст города в 7000 лет, тогда как радиографические методы показали, что он на добрую тысячу лет старше. Ошиблась Кеньон и во многом другом. Тем не менее ей принадлежит несомненная заслуга: она извлекла из небытия доселе практически неведомый древний город и показала его человечеству. Процесс раскопок — это нечто вроде послойной вивисекции прошлого. Снимая слой за слоем, археологи уходят в глубь истории, порой на десятки метров, если в данном месте, как в раскопанной Шлиманом Трое, каждое следующее поселение строилось на развалинах предыдущего. В Иерихоне глубина культурного слоя оказалась чудовищной — до 70 метров! Уже одно это говорило о глубочайшей древности и непрерывной преемственности жизни в этих местах. Оно и не удивительно. В раскаленной Иудейской пустыне первобытные охотники, первыми сменившие кочевой образ жизни на оседлый, могли поселиться только там, где есть вода и подходящая для земледелия почва. Иерихон — оазис среди пустыни, это видно еще и сегодня, когда спускаешься с Иудейских гор и едешь в сторону Мертвого моря. Зеленый пальмовый остров Иерихон кажется маревом среди окружающей каменистой пустыни. Оазис обязан своим существованием многочисленным подземным источникам, среди которых еще в древности выделялся т. н. «Фонтан Элиши». Экспедиция Гарстанга вскрыла неолитические слои только на самом крайнем, северо-западном углу холма. Да и то пришлось для этого рыть глубокую шахту. Кеньон сразу же обнаружила, что артефакты каменного века находятся и на западной оконечности холма, где древние слои подходят намного ближе к поверхности земли и залегают на глубине всего четырех метров. Первое поразительное открытие не заставило себя ждать: оказалось, что площадь поселения уже в каменный век была куда больше, чем думалось. По размеру оно явно превосходило примитивные поселения той эпохи (вроде Чатал-Хююка), которые археологи время от времени раскапывали на Ближнем Востоке. Это означало, что и по количеству жителей Иерихон уже в те времена значительно превосходил обычную деревню. Кеньон оценила его первоначальное население примерно в 2000 человек. Произвести эту оценку ей позволило второе крупное открытие. Доведя раскопки до скального слоя, то есть до максимальной глубины, сотрудники экспедиции вскрыли в этом первом, самом раннем слое остатки глиняных сооружений — те грубые хижины, в которых жили основатели Иерихона. Эти хижины напоминали собой глийяные подобия круглых шатров кочевых охотников. Но эта фаза иерихонских построек оказалась довольно короткой. Уже следующий период (следующий слой) продемонстрировал исследователям огромный прогресс в строительстве и архитектуре. Дома (а их уже можно было без преувеличения назвать не хижинами, а настоящими домами) приобрели прямоугольную форму, стены стали толще и солиднее, в них появились четко прорезанные входы, а внутреннее пространство жилья было разбито на отдельные комнаты, тесно группировавшиеся вокруг общего двора. Но самым интересным было то, что во многих таких домах стены и полы хранили следы штукатурки, что придавало им законченный, даже отчасти современный вид. Это уже были жилища прочно устоявшейся, сложившейся общины. К тому же общины весьма организованной, судя по тому, что все поселение было, по-видимому, обнесено массивной каменной стеной. У иерихонцев каменного века еще не было посуды, и этот вроде бы малозначительный факт показывает, как глубоко ушли археологи в глубь времен, к самому началу оседлой жизни человечества: ведь горшки и миски — это одно из первых изобретений оседлых людей. Несомненно, причиной, по которой бывшие охотники облюбовали и решили укрепить это место, была прежде всего его пригодность для земледельческой жизни. Обилие воды и тропический климат оазиса делали необычайно плодородной его землю, и пришельцы могли рассчитывать, что сумеют добыть себе здесь пропитание. Судя по тому, как расцвел и продолжал расти Иерихон впоследствии, они не обманулись в этих ожиданиях. Но прогресс этих первых поселенцев не ограничивался только областью материальной культуры. Одно из самых поразительных открытий, совершенных экспедицией Кеньон, состояло в обнаружении среди руин каменного века особого помещения, явно служившего ритуальным, то есть религиозным целям. В глубине небольшой комнаты археологи нашли нишу, где возвышался грубо обработанный каменный пьедестал, а рядом с ним — тщательно обработанный кусок вулканического камня, который, судя по виду и месту обнаружения, когда-то был предметом неизвестного нам религиозного культа. Окружавшие камень глиняные фигурки животных свидетельствовали о том, что религия первых иерихонских поселенцев скорее всего представляла собой культ плодородия. По сути, эта находка в Иерихоне позволила историкам воочию увидеть, как зарождались древнейшие религии оседлого человечества и как возникали их первые храмы. Но что еще более поразительно — оказалось, что культура древнейших земледельцев каменного века не исчерпывалась одним лишь культовым поклонением богам плодородия. Кеньон нашла целую галерею портретных масок! Их было семь, и каждая представляла собой высохший череп, на который какой-то неведомый древний художник наложил слой глины, грубо изобразив на нем черты человеческого лица. До сих пор историки искусства знали только о раскрашенных человеческих портретах из знаменитого Фаюмского оазиса в Египте. Теперь перед ними предстали, на несколько тысячелетий более древние, возможно первые в мире, изображения людей, к тому же — людей каменного века. Археологи увидели не просто глиняные или каменные фигурки божков и богинь — перед ними были лица реальных людей, живших семь — восемь тысяч лет назад! Иерихон оказался настоящей «машиной времени». Кто же были эти люди? Почему они удостоились такой почести? Не исключено, что это были портреты почитаемых в поселении предков-основателей вроде римских Ромула и Рема. Но если это так, то значит, искусство живого портрета (а не просто схематического изображения оленей и охотников, как во французских пещерах) возникло уже в седой древности. Уже тогда первобытный Рембрандт вглядывался в лица своих соплеменников, чтобы запечатлеть их для вечности. И видимо, отдавал себе отчет в том, что он творит… Говорят, что искусство особенно расцветает в суровые и опасные эпохи. Судя по толщине каменных стен первого города, иерихонский Рембрандт жил именно в такую эпоху: стены не воздвигаются для защиты от друзей. Иерихонцы одними из первых на Земле перешли к оседлому земледелию; вокруг еще бродили дикие охотничьи племена, и врагов у горожан, надо думать, было предостаточно. Тем не менее первый город просуществовал на удивление долго — об этом свидетельствует толщина культурного слоя, в пределах которого техника изготовления изделий практически не меняется. Жизнь людей в ту пору была короткой, умирали (или погибали) в среднем в возрасте тридцати лет. В городе успело смениться не одно поколение: сложились традиции, устоялись обычаи, проглядывалась в смутной дали непонятного времени какая-то своя легендарная история, о которой рассказывали детям и внукам. Всему этому пришел внезапный конец где-то в начале раннего бронзового века. Палестина, как ее станут в будущем называть, стала тогда местом бурного городского строительства. Как грибы после теплого дождя поднимались вокруг поселения, защищенные стенами, воздвигались дома и жилища, строились храмы и капища; там, где раньше на всю огромную пустынную округу был один Иерихон, слухи о котором наверняка уже обросли сказками и легендами, теперь появилось множество конкурентов. А где города, там цивилизация, а где цивилизация, там войны. К тому времени неолитический Иерихон уже высоко поднимался на своем холме — ведь столько поколений оставляли здесь следы своего пребывания на Земле. Примерно к 3000 году до новой эры (когда настоящие города на всей планете еще можно было пересчитать на пальцах) стены Иерихона окружал холм 20-метровой высоты. Из ворот города в разные стороны разбегались торговые дороги. Об этом можно судить по тому факту, что в слоях этой эпохи уже обнаруживается не только местная посуда, на и черепки глиняных изделий из других мест, подальше к северу, западу и востоку. Сотрудники Кэтлин Кеньон нашли в раскопках и другие признаки цветущей и широкой торговли. Город еще более расширился — видимо, разбогател. Надо полагать, что окрестное население массами тянулось под прикрытие иерихонских стен: ведь город защищал вход в Ханаан со стороны южных и восточных пустынь, откуда непрестанно рвались к этим плодородным землям племена кочевых охотников. С каждым разом они все ближе подступали к городу, а порой даже нападали на него. Судя по раскопкам Кеньон, стены Иерихона разрушались не менее 17 раз! И далёко не всегда виной этому были землетрясения. В 2100 году до н. э. стены были разрушены полностью и до основания. На сей раз виновники известны точно — это были воинственные племена амореев, именно в ту пору захватившие большую часть здешних земель. Они не только разрушили стены Иерихона — они еще вдобавок сожгли город дотла. После слоев с обожженными пламенем остатками стен пошли «пустые» слои — видно, жители бежали из города или были уведены в рабство. Почти двести лет угрюмые и безлюдные руины Иерихона одиноко высились в пустыне. Другие города, помоложе, став жертвой такой катастрофы, уходят в небытие, заносятся песками. Но не таков этот древнейший город. Уже на рубеже 2000 года до н. э. в археологических слоях снова стали появляться остатки жилищ. И опять, как в начале заселения, это грубые, примитивные постройки. Их явно создавали пришельцы, не знавшие навыков городской жизни, ее архитектуры и методов строительства. Видимо, на развалины Иерихона пришли жители других мест, привлеченные древней славой города и его плодородными землями. А к 1900 году до н. э. появляются новые крепостные стены и добротные, просторные дома. В развалинах этих построек археологи нашли бронзовое оружие и украшения из бронзы. Это позволило установить, что новые поселенцы пришли откуда-то с севера, несколькими волнами, причем каждая следующая волна несла с собой всё более высокую культуру бронзового века. Не удивительно, что город стремительно разрастался, и уже через несколько сотен лет периметр городских стен охватил огромную по тем временам площадь — самую большую, которую когда-либо занимал Иерихон. Сами стены тоже были построены по новой системе — вдоль основания их был насыпан вал, для того, видимо, чтобы воспрепятствовать приближению боевых колесниц. Культуру новых жителей Иерихона сохранили их гробницы. Археологи раскопали десятки таких гробниц с уцелевшими в них остатками изделий из дерева, текстиля, плетеных корзин и даже пищи. И снова Иерихон оказался непохожим на других: во всех остальных местах здешней земли такие артефакты давно истлели, а здесь время их совершенно не тронуло. Благодарить за это следует сухой и жаркий климат Иорданской долины. Он — и только он — позволил историкам узнать, как жили люди в Святой Земле в эпоху прихода сюда праотца Авраама. Каждая гробница содержала богатый набор вещей и провизии. Можно думать, что люди того времени верили в загробную жизнь и старались снабдить покойников всем необходимым для продолжения существования на том свете. Предполагалось даже, что они будут есть, сидя за столами, и поэтому в гробницах были обнаружены целые комплекты тогдашней мебели — деревянные столы, стулья и кровати, отделанные с немалым искусством. Деревянные и глиняные горшки и кувшины содержали запасы пищи, а большие, с четырьмя ручками сосуды — питье. На полах были расстелены плетеные матрацы, в деревянных чашках или алебастровых сосудах были приготовлены туалетные принадлежности, в плетеных корзинах навалом лежали деревянные и металлические гребни вперемежку с одеждой. Разумеется, все это сохранилось лишь фрагментарно, но и в таком виде позволяет увидеть, что люди в Иерихоне жили зажиточно. То была уже настоящая и довольно высокая по тем временам цивилизация. Конец ее наступил вместе с концом среднего бронзового века, с началом становления и расширения великих ближневосточных империй. Лежавший на скрещении путей Ханаан оказался, как и сейчас, предметом внимания и интереса великих держав. Около 1560 года до н. э. (Иерусалим уже был тогда столицей племени иевуситов) в страну вторглись египтяне. Иерихон был захвачен, разграблен и сожжен; С этого момента культурный слой снова становится стерильным. Предшественник Кэтлин Кеньон, уже упоминавшийся выше Гарстанг, нашел, правда, на краю иерихонского холма какие-то жалкие остатки невысоких стен и временных жилищ, которые он датировал 1350 годом до новой эры, но можно с почти полной уверенностью утверждать, что к концу этого столетия, то есть ко времени, которым большинство современных историков датирует завоевание Ханаана евреями, не высился вблизи Мертвого моря богатый и сильный город и не было тех стен, которые мог бы сокрушить рев еврейских боевых труб. Предание о рухнувших от трубного гласа стенах Иерихона — всего лишь красивая легенда. Йегошуа бин-Нун не был ни первым, ни последним среди тех полководцев, кто слегка преувеличил свои боевые заслуги, — достаточно глянуть на победные стелы египетских фараонов и ассирийских царей того времени. Впрочем, у бин-Нуна были вполне реальные причины гордиться взятием Иерихона — вступив в этот древний город, он вместе со своим народом вступил в историю. С этого времени первый город на планете продолжил свою жизнь уже как еврейский город. Пока в наши дни не стал палестинским. >ГЛАВА 2 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ А вот еще кое-что о древних строителях, хотя, скорее, из области забавного. Как многим, наверно, известно, по всей территории Британского королевства рассеяно множество древних каменных монументов, состоящих из ряда вертикальных подпорок, поддерживающих поперечную. Они получили название «хедж». Самый знаменитый и интересный из них, Стоунхедж, расположен на равнине Солсбери, что на юго-западе Англии. Историки полагают, что его строительство заняло примерно четыреста лет и закончилось 4800 лет назад. Комплекс Стоунхеджа состоит из наружного кольца П-образных каменных сооружений из песчаника — это вертикально стоящие камни высотой около 4,5 м, которые поддерживают горизонтальные каменные «перекладины». Кроме того, имеется также внутреннее кольцо из камней пониже, которое повторяет форму наружного. Множество разнообразных гипотез высказывалось по поводу назначения этого монумента. Многие ученые считают, что это был храм, в котором в период неолита происходили культовые процессии священников и мистические празднества, а вокруг, в открытом поле, располагались зрители. Возможно также, что это было место для некультовых зрелищных представлений. Так вот, недавно была выдвинута новая, весьма забавная гипотеза, согласно которой дизайн Стоунхеджа основан на женской сексуальной анатомии. Автор гипотезы — доктор Антони Перке, отставной профессор гинекологии и акушерства университета Британской Колумбии в Ванкувере и врач университетской женской больницы. Внимательно рассматривая камни Стоунхеджа, он заметил, что некоторые из них тщательно отполированы, а другие остались необработанными. Это навело его на мысль о связи отполированных камней с профессионально хорошо знакомыми ему особенностями женской кожи. Гладкость женской кожи по сравнению с мужской давно известна и связана с женским гормоном эстрогеном. «Каких же гигантских усилий стоило древним людям шлифовать камни вручную», — подумал доктор Перке и решил проанализировать весь монумент в анатомических терминах женского полового аппарата. Он увидел, что камни внутреннего кольца расположены скорее по эллиптической, яйцеобразной кривой, нежели по кругу. Сравнение ее формы с формой женских половых органов показало неожиданный параллелизм. Дальнейшее изучение монумента выявило другие интересные детали, и в результате у Перкса родилась законченная и оригинальная гипотеза. Согласно, этой гипотезе, наружный каменный круг и невысокий холм в его центре, возможно, имитируют т. н. большие срамные губы (две покрытые волосами кожные складки, которые окаймляют отверстие влагалища и сзади от него срастаются вместе) и лобок, тогда как внутренний круг изображает малые срамные губы (две другие складки, не покрытые волосами, вокруг женского влагалища, у передней точки соединения которых находится клитор). Тогда камень алтаря (или жертвенника) должен соответствовать самому клитору, а пустой геометрический центр, очерченный камнями малого круга, — символ детородного канала. При всей своей кажущейся забавности гипотеза Перкса содержит некое здравое научное зерно. Перкс обращает внимание на тот факт, что, в отличие от других холмов на просторах Англии, в холмах, окружающих Стоунхедж, найдено очень мало захоронений. Он трактует это как подтверждение своей гипотезы: «Я думаю, что это место было символом жизни, а не смерти». По мнению Перкса, комплекс Стоунхеджа был посвящен богине Матери-Земле. Поклонение этой богине было распространено среди ранних кельтов и людей других европейских неолитических культур. В Европе найдены сотни статуэток, так или иначе выражающих идею богини-Матери. Они были созданы в те времена, когда роды сопровождались высочайшей смертностью младенцев, и поэтому вполне возможно, что богине-Матери молились также о выживании новорожденных и вообще о плодородии. Поэтому Стоунхедж, по мнению Перкса, мог служить для таких «церемоний плодородия», которые связывали рождение и выживание человека с рождением и выживанием растений и животных, от которых зависели тогдашние люди. Любопытно, что почти одновременно с Перксом проблемой Стоунхеджа занялся другой ученый, голландский профессор философии Джон Давид Норт. Он выдвинул совершенно иное (и более консервативное) предположение, заявив, что камни Стоунхеджа расположены так, что образуют точную проекцию определенных звезд, а потому следует думать, что Стоунхендж служил астрономической обсерваторией и картой звездного неба. Доктор Перке признает, что монумент, возможно, был связан и со звездным небом, но видит это в ином свете. «В Стоунхедже мы видим на открытой равнине Солсбери небесный свод вместе с Землей. Как будто бы Отец-Солнце встречается с Матерью-Землей на середине пути, в месте, обращенном к будущему». Так что правило «Шерше ля фам», то бишь «Ищите женщину», иногда, как видим, помогает и в поисках разгадок доисторических тайн. Если и не очень убедительных, то весьма увлекательных разгадок. Не оглянуться ли и нам на иные наши древности? >ГЛАВА 3 СЕКСУАЛЬНЫЕ РАБЫ ИШТАР В гипотезе доктора Перке есть и другое рациональное зерно. Древние люди действительно много размышляли о женщинах. Оно и понятно — женщины рожали детей, т. е. были залогом будущего. Может быть, потому и секс играл огромную роль в древней культуре — чему доказательством нижеследующая занимательная история. Она начинается словами (кое-где попорченной) вавилонской рукописи:
Эта пространная эротическая поэма, лишь небольшой отрывок из которой приведен выше, описывает длинную череду сексуальных сношений вавилонской женщины по имени Иштар со 120 юношами ее города. Сей примечательный текст, в котором то и дело повторяется припев: «Вот так милуются девки с парнями в нашем городе!», был обнаружен в собрании клинописных текстов религиозного толка в развалинах главного центра вавилонской религии, города Ниппур, который историки иногда называют «Ватиканом Ново-Вавилонского царства». Глиняная табличка с текстом поэмы была найдена во время раскопок древнего Вавилона в 1880 году одним из пионеров современной археологии Германом Хильпрехтом. Судя по всему, поэма была написана во время царствования знаменитого Хаммурапи, но найденный Хильпрехтом текст, представлял собой более позднюю копию, что свидетельствует о большой популярности данного произведения. Сорок лет царствования Хаммурапи (XVIII век до н. э.) были временем расцвета Вавилонии. В те времена царство это было религиозным, культурным и научным центром всего Ближнего Востока. Именно тогда было создано первое в истории собрание законов, известное под названием «кодекса Хаммурапи». И одновременно то была эпоха бурного расцвета литературного творчества. «Тексты, описывающие сексуальные отношения вавилонян, представляют собой органическую часть этой богатой литературной традиции, — говорит профессор израильского Беэр-Шевского университета Авигдор Гурвиц, посвятивший этому гимну древнего распутства статью в вышедшем недавно в США сборнике «Разгадывая загадки и распутывая узлы». — Секс был такой же законной темой искусства, как в наши дни, когда, например, в кинофильме, не имеющем никакого отношения к порнографии, можно встретить постельные сцены. Так же и в знаменитой вавилонской поэме «Деяния Гильгамеша» имеется эпизод, в котором дикое лесное существо Энкиду семь суток подряд совокупляется с блудницей». По словам проф. Гурвица, вавилонское общество было значительно более терпимым и открытым в отношении секса, чем еврейское или христианское, и вавилоняне свободно обсуждали любые сексуальные проблемы. Секс был также и куда более доступен. Так, например, в городе Ашшур (на территории нынешнего Ирака) существовал храм богини любви Иштар, в развалинах которого были найдены медальоны с изображениями храмовых проституток мужского и женского пола; как полагают исследователи, сношения с ними считались своего рода магическим ритуалом. «Напротив, в еврейских источниках, — продолжает Авигдор Гурвиц, — о сексе, как правило, говорится весьма сдержанно, и всякое описание сексуальных отношений, выходившее за рамки общепринятого, считалось предосудительным». Так, в известном рассказе Книги Судей о Яэли и Сисаре так и не сказано напрямую, сопровождалась ли их встреча половым актом. Впрочем, согласно талмудическому комментарию рава Йоханана, стих «Между ног ее встал на колени, опустился и лежал, между ног ее встал на колени и опустился, там, где встал на колени, лежал, убитый» следует понимать в том смысле, что Сисара успел семь раз овладеть Яэлью, прежде чем она его убила. Подобно древним еврейским авторам, современные ассириологи относятся к проблеме секса весьма консервативно, и, например, в одном из известнейших английских переводов «Деяний Гильгамеша» переводчик Александр Хейдель предпочел перевести слишком скабрезную сцену… по-латински! Возможно, по тем же причинам и эротические гимны, повествующие о вавилонском разврате, оставались неизвестными в течение многих лет (с самого момента их обнаружения), и лишь в самое последнее время они нашли своих переводчиков. Немецкий ассириолог Вольфрам фон Зоден перевел их на немецкий, но при этом ограничился обсуждением лишь грамматических особенностей текста. Тем не менее даже на основании этого анализа фон Зоден пришел к выводу, что найденная глиняная табличка, по всей видимости, представляет собой отрывок более обширного текста — возможно, культового или ритуального характера. Исследование Авигдора Гурвица основывается на переводе фон Зодена, но, в отличие от труда немецкого исследователя, представляет собой первый в ассириологии чисто литературный анализ поэмы. По мнению Гурвица, «этот текст представляет собой одно из древнейших порнографических произведений вавилонской письменности. А то, что текст этот написан по-аккадски — на древнем языке богослужения, — не более чем прием. В поэме масса юмористических моментов и остроумной словесной игры, что свидетельствует об определенной литературной изощренности автора». В процитированном отрывке речь идет о женщине по имени Иштар (судя по всему, вполне обычной, живой женщине, а не одноименной богине), с которой хотят совокупиться юноши города. Один из них предлагает, ей усладить себя. Его товарищ, видимо, сочтя, что это вежливое предложение не будет оценено по достоинству, добавляет перца и предлагает Иштар нечто более грубо-откровенное. Ответ Иштар превосходит все ожидания юношей: она предлагает себя не только им, но и всему городу, и приглашает городских юношей «в тень стены». Речь идет, по-видимому, о том районе, который в древности служил эквивалентом современных «кварталов красных фонарей», ибо и о блуднице Рахав в Библии сказано, что «дом ее вблизи стены и у стены она живет». 120 юношей решают воспользоваться соблазнительным предложением Иштар, и каждый из них совокупляется с ней по «семь раз спереди и семи раз сзади». Но даже эти сотни половых актов не удовлетворяют женского сластолюбия. Юноши изнемогли, но Иштар требует еще. Рассказ кончается тем, что изнуренные юноши все же удовлетворяют ее желание. «Все мужчины хотят послужить этой женщине, но Иштар оказывается сильнее и выносливей своих сексуальных рабов», — отмечает проф. Гурвиц. По его мнению, автор поэмы выражает здесь — быть может, впервые в истории — феминистскую позицию: «Иштар — это высшее воплощение сексуального объекта; она предлагает всем свое тело, но на самом деле никому не подчиняется и никому не принадлежит. Женщина здесь изображена существом высшего ранга, а мужчины — низшими существами, которые служат ей и подчиняются ее воле». Вместе с тем профессор Гурвиц признает, что поскольку мы имеем дело с литературой, всегда существует опасность переноса наших нынешних представлений на древний текст со всеми его очевидными и неизбежными неопределенностями. Что, может быть, и так. >ГЛАВА 4 ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ В АККАДЕ Поскольку мы уже упомянули об аккадском языке, поговорим об Аккаде. Катастрофы, как известно, происходят не только в природе. Вопросительными знаками загадочных катастроф кончаются также страницы человеческой истории, посвященные взлету и упадку многих великих империй прошлого. И эта история — как раз об одной такой загадке, связанной с древним Аккадским царством великого Саргана, и о новейшей гипотезе, предлагающей ее объяснение. Одна из самых популярных книг об истории Древнего Ближнего Востока называется решительно и кратко — «История начинается в Шумере». В пику этому — и со значительно большим правом — наш рассказ можно назвать «История начинается в Аккаде», ибо если Шумер и был самой процветающей частью древней Месопотамии, то все же первыми объединили все города Двуречья, включая шумерские Ур, Лагаш, Урук и другие, именно цари Аккада. Давайте, однако, для начала поставим, как говорится, текст в контекст. Набросаем общие историко-географические контуры происходящего. Итак, место действия — Месопотамия, или Двуречье (долина Тигра и Евфрата); время действия — 3-е тысячелетие до новой эры. Еще должны пройти добрые полтысячи лет, прежде чем древние евреи переселятся в Египет, и почти тысячелетие до того, как они совершат Исход оттуда. Но уже и в. середине 3-го тысячелетия в Египте существует могущественное государство, именуемое сегодня Древним царством; в нынешней Палестине и Сирии там и сям возникают торговые города и земледельческие поселения; на Крите и Эгейских островах развивается культура раннего бронзового века. Свой островок цивилизации существует и в Двуречье. Южная часть страны, или Шумер, с ее Уром, Уруком, Лагашем и другими городами пересечена ирригационными каналами — благодаря им речные воды оплодотворяг ют пахотные земли, на которых дважды в год ячмень приносит 50-кратные урожаи; северная часть, Аккад, славится бескрайними пшеничными полями, среди которых высятся города-государства Вавилон, Киш, Сиппар, Кута, Акшак. В сущности, все это — территория нынешнего Ирака, пограничная с нынешним Ираном, и вот здесь-то и начинается в те времена трехтысячелетняя история великих империй Древнего Ближнего Востока. Перечислим их в порядке появления и смены друг друга: Аккадское царство; Вавилонское царство; Ассирийское царство; Нововавилонское царство; Персидская империя; империя Александра Македонского. На этом фоне со 2-го тысячелетия до н. э. развивается и более знакомая нам история древних евреев. А началось все, как уже было сказано, в Аккаде. В 2360 году до н. э. царь аккадских земель Сарган (позднее прозванный Великим) завоевал не только все города шумеров, но и раздвинул границы созданного этими завоеваниями государства на восток далеко за Персидский залив, в земли Элама; на запад — до берегов Средиземного моря (так что в пределах этих границ оказались Сирия, Ливан и Палестина); на юг — до нынешнего Омана; и на север — до равнин. Анатолии, что в сердце нынешней Турции. Поистине грандиозная получилась империя, территориально, вероятно, самая большая в мире по тем временам. Историкам известно (из надписей и раскопок), что при сыновьях и внуках Саргана (сам он умер в 2305 году до н. э.) созданное им государство процветало и укреплялось. Вдоль северных границ, откуда то и дело пытались прорваться воинственные племена горцев, были воздвигнуты многочисленные могучие крепости; на юге расширялась и совершенствовалась система оросительных каналов; повсюду строились ступенчатые храмы-зиккураты и величественные дворцы для придворной аристократии и бюрократической элиты. Так продолжалось ещё около ста лет после смерти Саргона, а затем произошло что-то непонятное: почти внезапно и одновременно все эти цветущие города, могучие крепости и плодородные поля были заброшены и отданы во власть свирепым песчаным ветрам; люди, населявшие северную часть Аккада, покинули свои жилища и бежали на юг, словно гонимые каким-то непонятным страхом; великое царство в одночасье развалилось и стало добычей варваров, спустившихся с гор. Крушение Аккадского царства было таким основательным, что больше оно уже не возродилось, а первые робкие признаки возрождения Двуречья появились лишь спустя 300 лет, в 1900 году до н. э.! И понадобилось еще целое столетие, прежде чем земли Двуречья снова объединил (на сей раз уже в виде Вавилонского царства) великий завоеватель и законодатель Хаммурапи. Вот это и есть та загадка, которой посвящен наш рассказ. Что вызвало бегство горожан и крестьян Аккада на юг? Что вообще вызвало этот неожиданный, ничем вроде бы не предвещавшийся крах Аккадского царства? И почему все это произошло не просто «очень быстро», а буквально «в одночасье», в течение нескольких считанных лет (сегодня это событие датируется вполне точно — оно произошло около 2200 года до н. э.)? Первая мысль — вторжение каких-нибудь пришлых завоевателей. Но нет, исторические памятники и данные раскопок не подтверждают такой гипотезы. Вторжение с гор действительно произошло, только не до, а после развала империи; иными словами, оно было не причиной этого развала, а его следствием. Мысль вторая — какой-нибудь гигантский природный катаклизм вроде того, который, как сегодня все более уверенно считается, 65 миллионов лет назад уничтожил динозавров. Но нет, не сохранились в истории следы такого катаклизма, а должны были бы обязательно сохраниться, если бы он был столь грандиозных масштабов — ведь Аккадское царство охватывало практически весь Ближний Восток. Надо заметить, что большинство историков — «древнеближневосточников» долгие десятилетия весьма единодушно игнорировали все эти вопросы. Более того — они вообще не видели здесь загадки. По их мнению, развитие Аккада следовало обычному закону развития всех древних империй: они оказывались не способны интегрировать завоеванные ими отдельные города-государства в рамки единого государственного целого; в результате в их основах рано, или поздно обнаруживалась «имперская слабость» и они становились легкой добычей очередных, вторгавшихся извне варваров. В случае Аккада эта схема была сформулирована авторитетнейшим ассириологом Норманом Иоффе из Мичиганского университета, который даже не потрудился хоть как-то ее конкретизировать, заявив без всякого стремления к оригинальности: «Неспособность включить традиционную знать городов-государств в процесс расширения империи усилила центробежные тенденции и тем самым сделала фланги империи чересчур уязвимыми». Понятно, что подобные теории могли держаться лишь до тех пор, пока датировка Аккадской катастрофы была расплывчатой и туманной. Но постепенно в археологии Ближнего Востока стали накапливаться данные, свидетельствовавшие о том, что эта катастрофа была исторически «внезапной» и явно связанной с какими-то природными причинами… На такие причины издавна указывала народная традиция — например, знаменитая древняя поэма «Аккадское проклятие», приписывавшая падение Аккада гневу бога Энлиля, храм которого якобы разрушил последний из аккадских царей, в наказание за что, Энлиль-де наслал на Аккад засуху, голод и вторжение варваров. Разумеется, поэма, да еще древняя, не очень серьезное свидетельство, согласимся. Однако в конце 40-х — начале 50-х годов с аналогичными «стихийно-природными» объяснениями Аккадской катастрофы выступили некоторые серьезные ученые. Например, французский археолог Шеффер высказал предположение, что эта катастрофа была вызвана повсеместными землетрясениями, а британский археолог Мелларт выдвинул гипотезу, что ее основной причиной были затяжные засухи. Однако в те времена большинство специалистов сочли эти объяснения чересчур «фантастическими». Ученые, подобные Иоффе, продолжали считать причиной катастрофы постепенное накопление неблагоприятных социально-политических факторов; другие, как израильский археолог Арлена Розен из университета имени Бен-Гуриона, признавая возможную «частичную роль» экологических причин, тем не менее, основную вину возлагали на «негибкость древних властителей», не сумевших-де «приспособиться к изменившимся условиям»; наконец, третьи, как американский археолог Бутцер, соглашаясь признать за экологическими причинами «весьма значительную» роль, все же объявляли их чем-то вроде последней соломинки, сломавшей спину уже до того перегруженного «имперского верблюда». А меж тем ни одна из этих групп ученых не могла объяснить тот важнейший, к тому времени неоспоримо установленный факт, что в 2200 году до н. э. «что-то» произошло не только в Аккаде, но одновременно чуть ли не на всей территории тогдашнего средиземноморского мира. И раскопки с применением более точных методов датировки, и углубленное изучение новонайденных памятников действительно показали, что практически одновременно с крахом Аккадского царства в Месопотамии произошло и падение Древнего царства в Египте, и массовое и повсеместное обезлюдение городов и поселений Сирии и Палестины, и почти внезапное крушение раннебронзовой крито-эгейской культуры. Тут уже «центростремительными процессами» и «уязвимостью имперских флангов» ничего не объяснишь. Налицо была серия несомненных и весьма масштабных исторических катастроф, практическая одновременность которых требовала каких-то иных, столь же крупномасштабных объяснений. Может быть, историки и археологи по-прежнему продолжали бы держаться за свои излюбленные социально-политические концепции постепенно нараставшего «имперского кризиса», но к этому времени в науке произошло еще одно существенное изменение: стал ощутимо меняться характер представлений о ходе исторических процессов в целом. Прежние представления о постепенном, медленном, «градуальном» характере биологической и исторической эволюции стали все более уступать место новым теориям, подчеркивавшим чрезвычайно важную, порой, возможно, решающую роль «точечных», «одномоментных» событий катастрофического характера. Короче, в науку стал возвращаться «катастрофизм», сформулированный в Начале XIX века Жоржем Кювье, а после Дарвина изгнанный из научного обихода. Важнейшей вехой этого поворота стала выдвинутая в 1980 году отцом и сыном Альварецами гипотеза о столкновении Земли с астероидом (или крупным метеоритом) как главной причине внезапной, массовой и практически одновременной гибели динозавров. Поначалу высмеянная чуть ли не всеми специалистами, эта гипотеза спустя десять лет была блестяще подтверждена обнаружением вполне реальных следов такого столкновения, сохранившихся во многих местах планеты (в частности, следов иридия метеоритного происхождения), а затем и остатков соответствующего кратера на дне Мексиканского залива. Успех Альварецов вдохновил тех молодых историков и археологов, которым давно не давала покоя загадка Аккадской катастрофы и которых не удовлетворяли ее традиционные объяснения, и в 1993 году группа этих ученых (американец Харви Вейсс, француженка Мари-Агнес Курти и другие) выступила в журнале «Сайенс» с оригинальной гипотезой, основанной на совокупности множества новых фактических данных и предлагавшей новое решение давней исторической проблемы Аккада. Те фактические данные, которые легли в основу этой нашумевшей (и открывшей длящийся по сей день яростный спор историков), статьи, были собраны ее авторами в течение почти 15 лет раскопок на холме Тель-Лейлан в Северной Сирии. Здесь, под многовековыми песками, были обнаружены остатки древнего города, который в свое время был одним из торговых и политических центров Аккадского царства. Результаты раскопок Тель-Лейлана во многом перевернули прежние представления специалистов о развитии цивилизации Двуречья. Раньше считалось, что хотя объединителями здешних земель были цари Аккада, но подлинную культуру — земледелия, строительства и т. д. — привнесли; в Аккадское царство жители юга — шумеры (отсюда. и упомянутое в начале этого рассказа название — «История начинается в Шумере»). Теперь выяснилось, что в действительности развитие севера и юга Месопотамии происходило практически одновременно и параллельно. Тель-Лейлан начал стремительно расширяться и застраиваться уже в 2600 году до н. э., задолго до объединения страны под властью Саргона Великого и появления на севере шумеров. К 2400 году до н. э. город увеличился в шесть раз, заняв общую площадь в 20 гектаров. Его жилые кварталы были тщательно распланированы, прямые улицы — пересечены дренажными каналами, в центре высился величественный акрополь. При Саргоне, его детях и внуках этот рост продолжался за счет переселения в Тель-Лейлан жителей окрестных городов. Судя по найденным документам, такие переселения одновременно происходили и в других местах царства; переселенцы направлялись затем на государственные работы по освоению новых земель и прокладку торговых дорог, что способствовало дальнейшему росту процветания страны. Иными словами, вплоть до 2200 года до н. э. ни раскопки, ни документы не содержат и намека на какой бы то ни было «подспудный кризис империи», который якобы стал причиной ее последующего краха. Второе обстоятельство, неопровержимо установленное раскопками в Тель-Лейлане, — несомненная историческая «внезапность» этого краха. Вот только что (в 2250 году до н. э.) были воздвигнуты новые, мощные крепостные стены и переселены в город окрестные жители, а спустя каких-нибудь 40–50 лет Тель-Лейлан уже покинут и занесен песком! Исследователи обнаружили, что песчаные слои, покрывающие рухнувшие городские строения, не содержат ни малейших признаков человеческой деятельности на протяжении всех последующих 300 лет — только около 1900 года до н. э. в этих слоях вновь появляются следы пепла, бытового мусора, а затем и развалины новой имперской крепости. Любопытно также, что первыми на руины аккадского Тель-Лейлана легли слои песка, смешанного с вулканической пылью. Откуда она взялась в этих местах, где уже сотни тысяч лет не было никаких вулканов, непонятно, но еще интереснее, что та же картина была обнаружена и во многих других местах, где молодые исследователи подняли древние песчаные слои. Развалины Тель-Тайя, Хагар-Базара, Тель эль-Хавы и других древних аккадских крепостей тоже оказались засыпаны смесью песка и вулканической пыли, а затем — безжизненными слоями чистого песка толщиной около 20 см. Применяя методы радиоактивной датировки, исследователи установили, что начальный слой песка во всех этих местах относится к 2200-у, а последний — к 1900 году до н. э. Иными словами, все данные свидетельствовали о том, что равнины Северной Месопотамии были покинуты их жителями на целых 300 лет, начиная с 2200 года до н. э. Те же методы датировки, примененные другими археологами к развалинам других великих культур Средиземноморья (в Египте, на Крите и т. д.), показали, что и там крах первых цивилизаций произошел в то же самое время. Более того, обнаружены следы «разрыва исторической непрерывности», а проще говоря — некой загадочной исторической катастрофы, причем в столь отдаленных от Средиземноморья местах, как долина Инда и равнины Кении. И опять в то же самое время — около 2200 года до н. э. Добавим к этому, что результаты недавнего (1996 год) исследования отложений на дне Оманского залива обнаружили и там следы того же катаклизма: слой этих отложений, относящийся к 2300–2200 годам до н. э., оказался впятеро более богат осадками, чем все предыдущие и последующие, и к тому же насыщен все той же вездесущей вулканической пылью. Таким образом, картина катаклизма 2200 года до н. э., первые штрихи которой были прочерчены загадочной «Аккадской катастрофой», постепенно расширилась, охватив почти все известные тогда очаги человеческой цивилизации. Аккадская катастрофа оказалась не только вполне реальным историческим событием, но и одним из многих аналогичных катастрофических событий того же времени. Толчок, полученный исторической мыслью в результате новых исследований молодых западных археологов в покинутых городах Аккада, постепенно привел к становлению совершенно неожиданной концепции крупномасштабного катаклизма, одновременно затронувшего весьма отдаленные друг от друга регионы земного шара. И в этом смысле можно лишь повторить, что вся эта история, действительно, началась в Аккаде. Но что же все-таки было причиной данного катаклизма? Несомненно, главную, так сказать, непосредственную роль в нем сыграло наступление длительного периода устойчивых песчаных бурь и засух, растянувшихся на долгие десятилетия и сделавших невозможной жизнь в городах Северной Месопотамии. Бегство тамошних жителей на юг было, видимо, прямым следствием этих экологических бедствий. Можно думать, что какие-то аналогичные причины привели к произошедшим в те же времена изменениям в течениях Нила и Инда. Все это, вместе взятое, ознаменовало наступление длительного, почти трехвекового периода засух и холодов на огромном пространстве Азии, Северной Африки и Южной Европы. Но исходной причиной катаклизма были, надо думать, еще более масштабные события. Некоторые указания на их возможный характер дают последние результаты, полученные при исследовании отложений на дне Атлантического океана между Гренландией и Исландией. В этих отложениях обнаружены слои того же времени, особенности которых свидетельствуют о резком изменении климата всего северного полушария. Некоторые климатологи высказывают на этом основании гипотезу о связи этого похолодания с неким длительным и устойчивым «эффектом Эль-Ниньо». Ведь и в наше время этот эффект, вызываемый изменениями океанских течений, оказывает существенное влияние на погоду в общепланетарном масштабе. Однако окончательного ответа на вопрос о причинах катаклизма 2200 года до н. э. пока еще нет, и, как выразился один из исследователей, тот, кто этот убедительный и однозначный ответ найдет, может наверняка рассчитывать на Нобелевскую премию. Так что загадка «Аккадской катастрофы» все еще ждет своего решения. >ГЛАВА 5 ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПОТОПУ Перефразируя начало предыдущей истории, можно сказать: катастрофы происходят не только в человеческой истории, куда чаще они происходят в природе. О многих мы знаем, другие остаются предположительными. Об одной из таких «предположительных катастроф» шла речь на конференции Археологического института Соединенных Штатов, состоявшейся в городе Сан-Диего. Главным событием конференции была встреча американских археологов и историков с геологами Вильямом Райаном и Уолтером Питманом — авторами нашумевшей книги «Ноев потоп, или новые научные открытия, связанные с событием, которое изменило мир». Чем же прославились эти геологи, что с ними захотели встретиться специалисты совсем другой профессии, казалось бы, от геологии весьма далекой? Десять лет назад, в 1996 году, Райан и Питман, специалисты по геологии морей, выдвинули дерзкую гипотезу, согласно которой Ноев потоп действительно происходил — только не на всей Земле, а лишь в определенной ее части, в Черном море. Опираясь на результаты своих многолетних исследований подводной периферии этого моря и древних осадков вдоль нее, Райан и Питман пришли к выводу, что примерно 7600 лет тому назад (то есть около 5600 года до н. э.) Черное море весьма быстро и резко изменило свою акваторию. Найденные авторами факты указывали, что площадь моря за какие-нибудь считанные месяцы (максимум — за два года) увеличилась почти на 30 процентов, залив при этом свыше 150 тысяч квадратных километров прибрежных земель. По мнению Райана и Питмана, это произошло в результате внезапного прорыва скалистого перешейка, который до того отделял Черное море от Средиземного. В образовавшийся пролив (ныне мы его называем Босфорским) хлынули средиземноморские воды. Обрушиваясь в более низко лежавший черноморский бассейн, они создали гигантский водопад, по мощности превышавший двадцать Ниагарских водопадов, который в короткое время изменил не только облик самого Черного моря, но и всю культурную географию региона. Спасаясь от быстро наступавшей воды, прибрежные жители вынуждены были покинуть давно освоенные и обжитые берега и в панике рассеяться кто куда. Райан и Питман высказали убеждение, что именно это «великое бегство народов» привело к тому, что-навыки сельского хозяйства, впервые выработанные людьми как раз у берегов благодатного Черного моря, были перенесены, с одной стороны, в Центральную и Западную Европу, а с другой — на Ближний Восток и в Месопотамию. Такое огромное бедствие, такой гигантский природный катаклизм не мог не запечатлеться в памяти перенесших его людей, и вот сказание о потопе, содержащееся как в библейском рассказе о Ноевом ковчеге, так и в предшествовавшем ему месопотамском мифе о Гильгамеше (там роль Ноя играет бессмертный Утнапиштим) как раз и является, по словам авторов, отражением и косвенным свидетельством реальности «черноморского потопа». Впечатляющая гипотеза Райана и Питмана не могла не вызвать споров и дискуссий, и таковые не замедлили последовать. Геологи, ознакомившиеся с доводами коллег, нашли их достаточно убедительными. С гипотезой согласились и некоторые археологи и историки. Так, Альберт Аммерман из университета Колгэйт заметил, что первое появление оседлых поселений и признаков сельского хозяйства в современной Венгрии датируется временем, на 200 лет более поздним по сравнению с предполагаемым «потопом», что вполне согласуется с гипотезой об «исходе» носителей оседлости и агрикультуры с берегов Черного моря. Сами авторы гипотезы, продолжая свои изыскания, обнаружили в донном иле у берегов Черного моря раковины, принадлежащие мелким морским животным, характерным именно для Средиземного моря, причем, судя по радиоактивной датировке, животные эти погибли как раз 7600 лет тому назад. Еще более интересное и отчасти загадочное открытие Райан и Питман сделали вблизи пролива Босфор, в Мраморном море. Они нашли здесь на морском дне странное подводное образование, имеющее характер длинной (почти полукилометровой) дамбы, постепенно поднимающейся на высоту пятиэтажного дома. Если дальнейшее изучение покажет, что дамба имеет искусственный характер, это может быть еще одним свидетельством того, что в древние времена на месте Мраморного моря была обжитая суша, разделявшая Черное и Средиземное моря. Но самые любопытные доказательства в пользу справедливости гипотезы «черноморского потопа» нашел пенсильванский археолог Фредрик Хиберт, в течение нескольких лет изучавший подводное побережье Черного моря вблизи турецкого города Сйноп. В ходе своих исследований он применял подводные эхолокаторы и другие средства дистанционного фотографирования. Недавно на телеэкранах был показан сенсационный научно-документальный фильм, сделанный Хибертом с помощью этих методов. На снимках отчетливо видны наполовину ушедшие в донный ил остатки обработанных камней, образующих нечто вроде древнего жилища, и другие приметы явно существовавшего здесь в древности и позже затопленного поднявшимся морем оседлого человеческого поселения. Ободренные всеми этими доказательствами справедливости своей гипотезы, Райан и Питман собрали их в книгу под вышеупомянутым заглавием. Именно эта книга и послужила предметом споров, развернувшихся вокруг гипотезы «черноморского потопа» на конференции Национального археологического института в Сан-Диего. Дело в том, что, в отличие от немногочисленных энтузиастов вроде Хиберта, большинство историков и археологов и прежде не соглашалось с далеко идущими выводами Райана и Питмана; теперь же, после выхода в свет их обобщающего труда с «новыми научными доказательствами», это большинство и вовсе восприняло идею в штыки. Надо, однако, заметить справедливости ради, что главные возражения историков и археологов вызывает не столько геологическая сторона аргументации авторов, сколько их культурно-исторические выводы. Выступая на конференции в Сан-Диего, английский историк Стефани Далли из Оксфорда указала, что намеченные Райаном и Питманом параллели между их описанием «потопа» и его описанием в ближневосточных мифах крайне сомнительны. Как в истории Гильгамеша, так и в рассказе о Ное говорится, что потоп был вызван дождём, который шел непрерывно в течение длительного времени, так что покрыл «всю землю»; между тем в случае постепенного, пусть даже быстрого подъема уровня моря суша все время должна была быть видна. Весьма странно также, что память о потопе сохранилась почему-то лишь в ближневосточных мифах: если бы он происходил так, как описано у Райана и Питмана, воспоминания о нем должны были отразиться и в легендах Центральной Европы, куда, если верить авторам, ушла значительная часть «беженцев». Но в европейской мифологии следы «потопа» начисто отсутствуют. Поэтому куда более вероятно, что ближневосточные мифы о потопе были все-таки порождены не «черноморским потопом» Райана — Питмана, а теми катастрофическими наводнениями, которые в древности периодически происходили на месопотамских землях в устье Тигра и Евфрата. А если это так, то следует признать, что культурное влияние «черноморского потопа» (предположим, что он имел место) было куда менее значительным, чем это утверждают авторы гипотезы. И, скорее всего, появление сельского хозяйства в Европе вызвано другими миграциями и более сложными культурными процессами. Мнение осторожного большинства подытожил на конференции в Сан-Диего ее председатель, археолог Эндрю Мур, заявив, что «преувеличенные заявления, связывающие затопление Черного моря и Ноев потоп, не нашли поддержки в исторических и культурных фактах». Но энтузиасты не согласились с. этим приговором. По их мнению, проблема потопа по-прежнему остается актуальной. >ГЛАВА 6 ЕЩЕ ОДНА АТЛАНТИДА Актуальной, судя по всему, остается и загадка знаменитой Атлантиды. С тех пор как более 25 веков назад великий Платон в своем диалоге «Тимей» рассказал о затонувшей стране Атлантиде, поиски местонахождения этой легендарной страны никогда не прекращались. Хотя многие ученые считали рассказ Платона попросту отголоском древних мифов, энтузиасты продолжали (и, как мы сейчас увидим, продолжают) выдвигать различные догадки о том, где могла находиться затонувшая держава атлантов. Атлантиду помещали вблизи острова Куба, у побережья Великобритании, на месте нынешних Азорских островов и т. п. Впрочем, сам Платон указал это место вполне однозначно: «Остров, находившийся впереди Геркулесовых Столбов», если пользоваться терминологией Платона (сегодня они называются Гибралтарскими) т. е. западней нынешнего Гибралтарского пролива, в Атлантическом океане. Но так как одновременно он утверждал, что остров этот был «больше Ливии и Азии, вместе взятых, и с него можно было перейти к другим островам и по ним проделать весь путь к противоположному континенту, а с них перебраться», то речь могла идти лишь об обширном архипелаге или даже целом континенте. Однако никакие глубоководные поиски в восточной части Атлантики не показали там наличия архипелага или затонувшего материка. И хотя Атлантиду так и не находили, она постепенно стала для многих своего рода исчезнувшей утопией — страной высочайшей культуры и цивилизации, которой кое-кто приписывал все культурные и технические достижения древнего человечества. В подтверждение ее существования привлекались различные аргументы — от смутных указаний древних источников до общности определенных скал, растений и животных по обе стороны Атлантического океана. Что касается этой общности, то сегодня после утверждения в науке теории дрейфа континентов уже ясно, что общность геологического и животно-растительного мира двух отдаленных материков может объясняться просто тем, что в давние времена Северная Америка и Евразия составляли единый сухопутный массив. Однако в последнее время в качестве доказательства реальности Атлантиды были выдвинуты новые аргументы. Французский историк Жак Коллина-Жерар обратил внимание на тот факт, что, согласно некоторым археологическим данным, во время последнего ледникового периода, около 19 тысяч лет назад, имела место значительная миграция населения тогдашней Европы в Северную Африку — часть древних людей бежала на юг от наступающих на Европу ледников. Такая заметная миграция, по мнению Коллина-Жерара, могла происходить лишь в том случае, если между Европой и Северной Африкой в те времена существовал сухопутный мост, расположенный либо в Средиземном море, либо в прилегающем к нему районе Атлантики, то есть впереди Геркулесовых Столбов, если пользоваться терминологией Платона. Таким мостом могла быть как раз Платонова Атлантида. Эти соображения побудили ученого заняться новыми поисками, и на сей раз эти поиски как будто увенчались неожиданным успехом — вблизи Гибралтарского пролива Коллина-Жерар обнаружил место, подозрительно напоминающее искомую и доселе ускользавшую от внимания всех других исследователей «Атлантиду». Увы, не совсем такую, как описывал Платон, но все же… Место это — находящийся в самой близкой к Гибралтару части Атлантики грязевой остров Спартель, лежащий на глубине около 100 метров ниже уровня моря. К поискам именно в этой точке профессора Коллина-Жерара привели не только литературные источники, но и строго научные рассуждения. Он использовал геологические данные о наиболее вероятной скорости подъема воды в Атлантическом океане после таяния последних европейских ледников, наступившего 11 тысяч лет тому назад. Правда, оказалось, что эта скорость составляла всего два метра в столетие, так что погружение Атлантиды, если она находилась именно здесь, должно было растянуться на столетия, а не произойти в одночасье, в один день, как описывает Платон. Но зато совпадает другое важное обстоятельство. Платон, живший почти две с половиной тысячи лет назад, в рассказе о гибели Атлантиды указывает, что он говорит о событии, которое произошло за 9 тысяч лет до него. Это означает, что Платонова Атлантида затонула примерно 11 тысяч лет назад. А это как раз то время, когда начали подниматься атлантические воды, отмечает Коллина-Жерар. К профессору Коллина-Жерару с энтузиазмом примкнули известные искатели «Титаника» Джордж Тулок и Поль-Анри Наржело. Они встретились с ним на археологической конференции, где профессор делал доклад о своей гипотезе, и были ею впечатлены. Незадолго до этого их подводная экспедиция к этому затонувшему кораблю, не менее легендарному, чем Атлантида, увенчалась триумфальным успехом — были найдены и подняты со дна многочисленные останки, переданные затем в специальный музей. И теперь, услышав о (вероятном) обнаружении Атлантиды, они сочли ее поиск таким же перспективным и стоящим делом, как поиск «Титаника», и предложили Коллина-Жерару свои услуги и свой двухместный батискаф. «Я слушал его на конференции, — рассказывает Наржело, — и, по-моему, я был его единственным слушателем. Но я тогда же подумал: «Это стоящая штука!» Ребенком я много читал об Атлантиде и, разумеется, был увлечен прочитанным, а то, что рассказывал Жак, открывало совершенно новый взгляд на вещи. Район, который он описывал, выглядел точно так, как его описывал Платон, — прямо за Геркулесовыми Столбами. Как только я это увидел, я подумал: «Это оно, Господи!» Я не мог поверить, что никто до сих пор не пришел к тому же выводу». В настоящее время остров Спартель представляет собой грязевую отмель длиной около 8 км и шириной 3,5 км, лежащую в Атлантике примерно в 100 км к западу от Гибралтара, и, как уже сказано, его максимальная глубина составляет около 100 метров ниже уровня океана. Исследователи намереваются в скором будущем произвести там двухнедельную разведку, главная цель которой — выявление каких-то следов древней жизни на острове. «Мы уже обнаружили место, которое могло быть гаванью острова; — утверждает Наржело, — и если это подтвердится, то там же должен был быть и населенный пункт, а может, и центр тамошней цивилизации». Он признает, что в истинной Атлантиде вряд ли существовали величественные храмы и дворцы — ведь речь идет о культуре раннего каменного века, — но собирается искать с помощью подводной фотосъемки пещеры и другие места, где могли бы жить древние люди 11 тысяч лет назад. «Если мы найдем их, то вернемся на более длительный срок для более подробного исследования». Деньги, необходимые для такой разведывательной экспедиции — порядка 250–500 тысяч долларов, — Наржело намерен собрать из частных пожертвований и научных грантов. Что ж, остается пожелать удачи этим искателям очередной Атлантиды. Их успех может принести много интересных сведений для науки. Если же они не обнаружат свою Атлантиду, нам тоже нечего беспокоиться — обязательно объявится следующая. >ГЛАВА 7 ТАК ВСЕ ЖЕ — КОЛОМБО ИЛИ КОЛОННО? Проплывем над (возможной) грязевой Атлантидой и направимся дальше, по пути Колумба. На этом пути тоже много занимательных загадок, и главная из них, конечно, связана с самим Колумбом. На протяжении столетий, прошедших с его смерти (в 1506 году в испанском городе Вальядолиде), сложилась и утвердилась легенда, будто этот великий мореплаватель и первооткрыватель Америки родился в итальянском городе Генуя, в ту пору — независимой и богатой морской державе, обладавшей многочисленными колониями в Средиземном море и спорившей за гегемонию в этом ареале с Венецианской республикой. Генуя охотно эксплуатировала эту легенду, щедро воздавая хвалу своему великому сыну и поминая его везде, где только возможно — от памятника в морской гавани до названия своего главного аэропорта. Туристам показывали увитый плющом «домик Колумба» в пригороде Порта Сопрана, где якобы прошло Колумбово детство, и рассказывали трогательные истории: о том, как он пристрастился к плаваниям, глядя на корабли, возвращавшиеся из дальних плаваний в генуэзскую гавань; как в возрасте 21 года впервые сам отправился в море; как три года спустя участвовал в морском сражении при мысе Сан-Винцент; как был ранен и спасся вплавь, держась за обломок бревна с утонувшего судна, и как чудесным образом был вынесен на побережье Португалии. Существовала, правда, небольшая деталь, которая слегка нарушала стройность и убедительность этого рассказа: в документах тогдашней Генуи практически отсутствовали какие бы то ни было упоминания о семействе «Коломбо» (как, согласно генуэзской легенде, назывался Колумб в Италии), не говоря уже о самом «Кристофоро Коломбо» (как, по той же легенде, должен был именоваться Колумб). Некоторых исследователей это наводило на малопочтительные (по отношению к легенде) предположения, вплоть до того, будто «Христофор Колумб был на самом деле Христофор Коломб, генуэзский еврей», как писал в эпиграфе к своему известному стихотворению Владимир Маяковский. Отсюда было рукой подать до совершенно уж непочтительных гипотез новейших русских авторов, которые вообще отрицают, будто Колумб куда-то плавал и что-то открыл (А. Бушков: «Россия, которой не было», стр. 36–44). Легко понять, до какой степени эти домыслы и предположения оскорбляли слух и вкус исследователей — уроженцев Иберийского полуострова, ревнивая национальная гордость которых уступает разве что их же титаническому национальному самоуважению. Здесь, в Иберии, давно уже считали, что Колумб всецело принадлежит Испании или, на худой конец, Испании и Португалии, месте взятым, что и составляет упомянутый полуостров. Считали, но доказать не могли. И вот сенсация. Профессор Альфонсо Энсенат де Вильялонга из департамента американских исследований в университете города Вальядолида (того самого, где умер наш герой) выступил в газетах с утверждением, что его многолетние исследования неопровержимо свидетельствуют, что Колумб был фактически испанцем. Историки ошиблись в отождествлении генуэзской семьи, к которой он якобы принадлежал. Он родился не в 1451-м, как всегда считали, а в 1446 году. И его семья эмигрировала из Генуи на Иберийский полуостров вскоре после этого, так что называть его итальянцем просто смешно. Он говорил только по-кастильски и по-португальски, а не по-итальянски, и никогда не возвращался в Италию. А как же корабли в генуэзской гавани, средиземноморские плавания, связи с пиратами, служба при дворе герцога Рене, сражение при мысе Сан-Винцент, ранение, чудесное спасение? А никак, говорит профессор Вильялонга. Всего этого просто не было. А если и было, то относилось к другому человеку — какому-то «Коломбо». А наш — испанский великий мореплаватель — должен по справедливости именоваться «Христофор Колон» — и в этом-то вся загвоздка! Как говорится, «Что в имени тебе моем?» А все в нем! И мы сейчас это увидим. Профессор Вильялонга, который последние 10 лет своей 71-летней жизни затратил на изучение ранней биографии Колумба, утверждает, что все прежние исследователи ошибались в своем предположении, будто Колумб родился Христофором Коломбо и только в Испании превратился в Кристобаля Колона. Коломбо, говорит профессор, не мог превратиться в Колона — для этого он должен был звучать по-итальянски Колонно или даже просто Колон. Не случайно многовековые поиски генуэзских документов, проливающих свет на детство и юность «Христофора Коломба», оказались безрезультатны. Нужно было искать документы о семье «Колонно» или что-то в этом роде. И действительно, стоило профессору заняться такими поисками, как он тут же-обнаружил, что в архивах Генуи, Мадрида и Барселоны сохранилось нетривиальное число документов о богатой генуэзской купеческой семье Колонне, проживавшей в Генуе XV века и имевшей тесные связи с правительством Генуэзской республики. Обнаружился также и документ о том, что некий разорившийся купец Доменико Скотто попросился под покровительство рода Колонне и в благодарность за оказанную ему милость изменил свою фамилию на Доменико Колонне. У этого-то Доменико был, как показывают другие документы, сын Христофоро, 1446 года рождения, вместе с которым Доменико и его жена Мария Спинола эмигрировали в 1451 году в Лиссабон, надеясь поправить свои дела в Португалии. Здесь Кристобаль Колон, как стали называть 5-летнего мальчика, был отправлен для изучения латыни в училище португальского (а не итальянского, как ошибочно считалось до сих пор) города Павия, а затем — в мореходную школу, некогда основанную португальским принцем Генрихом Мореплавателем. Свое образование он завершил кратким пребыванием во францисканском монастыре в религиозном португальском центре Эвора (чем, возможно, и объясняется то, почему на свою первую встречу с королевой Изабеллой и королем Фердинандом он явился в рясе францисканского монаха). Свои изыскания профессор Вильялонга изложил в подготовленной к печати книге «Жизнеописание Христофоро Колонне», которая должна, по его мнению, положить конец всем прежним легендам, развеять вековые предрассудки и вернуть Колонне-Колона в испано-португальское лоно. Что же до того, почему великого мореплавателя так долго называли Колумбом, то профессор Вильялонга объясняет, что в некоторых документах имя «Колон» было ошибочно записано как весьма созвучное «Колом», откуда уже было недалеко и до «Колумба». Можно думать, что следующим шагом испанских историков будет требование именовать первооткрывателя Америки только «Колоном» — и никаких «Колумбов». Не исключено, что некоторые пылкие головы потребуют и государство Колумбию переименовать в «Колонию»… Что же до нас, то мы позволим себе остаться при мнении, что историческая истина, конечно, важна, но не до такой же степени, как историческое деяние. Назовите хоть горшком, только в печку не сажайте. И не преувеличивайте значение родословных. Допустим, не был Христофор Колумб ни Христофором Коломбом, ни генуэзским евреем, ни даже итальянцем Христофоро Коломбо — ну так что? Америку все-таки открыл он, а не мы с вами… >ГЛАВА 8 ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ КИТАЙЦЫ Если вы думаете, что открытие профессора Вильялонга исчерпало все загадки, связанные с Колумбом, то глубоко заблуждаетесь. Как мы предупреждали выше, на колумбовом пути есть много проблем. К примеру, в осведомленных кругах давно уже поговаривают, что Америку вообще открыли задолго до Колумба. Одни грешат на исландских викингов, другие на островитян Тихого океана, этих «мореплавателей солнечного восхода», как красиво назвал их некогда некий писатель, третьи — на неведомых уроженцев Древней Африки. Кто бы это ни был, все они уходили на своих парусных кораблях, катамаранах или выдолбленных из бревна лодках в тысячекилометровые плавания и порой, гонимые ветрами и течениями, оказывались совсем не там, куда плыли. Все эти доколумбовы гипотезы одинаковы тем, что их авторы никаких достоверных доказательств представить не могут, так — одни лишь скудные исторические намеки да блеклые следы. Но чем меньше у них доказательств, тем больше свобода и полет их фантазий и тем более они волнуют и разжигают наше воображение. Да и вообще, разве рассказы о неведомых плаваниях неведомых корабелов в поисках неведомых земель в неведомые времена — не один из самых увлекательных жанров историко-географической беллетристики? У меня самого была когда-то замечательная книга, посвященная всем этим гипотетическим плаваниям, книга, которую я регулярно перечитывал, — она называлась «Неведомые земли», автор Хеннинг, четыре объемистых тома в сине-красном твердом переплете, — но я однажды, дурак, этаким широким жестом подарил все эти тома случайному гостю-коллекционеру с радиостанции «Свобода». Он так долго и нудно у меня их выпрашивал за деньги, что я не смог устоять от соблазна шикануть, о чем теперь мучительно жалею. Тем более что гость этот впоследствии оказался советским шпионом на «Свободе» — в прямом и переносном смысле. Недавно в этом замечательном жанре «историй мореплаваний» появилась очередная гипотеза. Автор ее — британский моряк, бывший командир подводной лодки, а также эксперт по навигации Гэйвен Мензис. Свои изыскания он проводил много лет и вот некоторое время назад доложил наконец о результатах этих исследований на очередном заседании Королевского географического общества Великобритании. Сам факт, что его заслушали в столь уважаемом и авторитетном кругу, включавшем ученых-географов и историков, специалистов по картографии, морских офицеров и дипломатов, свидетельствует, что к гипотезе Мензиса и нам стоит отнестись, по крайней мере, с благожелательным вниманием. Чем мы хуже дипломатов? Тем более что гипотеза и впрямь весьма любопытна. Подобно многим другим выступавшим на этом поле до него, Мензис говорит, что все началось со случайного обнаружения им такого факта: уже в 1428 году в распоряжении португальцев имелась карта, на которой (обратите внимание — за 70 лет до Колумба!) были показаны Африка, Австралия, Америка и множество островов — и все это в поразительно точных деталях. Например, на карте явственно виднелись мысы Доброй Надежды (оконечность Африканского материка) и Горна (оконечность Южной Америки), хотя, как известно, португальцы не проплывали там вплоть до конца XV века. По утверждению Мензиса, именно эта карта, попав каким-то образом в Венецию, а из Венеции, в 1428 году, в Португалию, стала предшественницей нескольких аналогичных ей карт, получивших хождение в Европе в конце XV — начале XVI века. На основании 14-летнего изучения вопроса Мензис утверждает, что первые европейские мореплаватели, включая Колумба и Магеллана, имели в своем распоряжении такие карты. По мнению Мензиса — и тут начинается самая интересная и оригинальная часть его гипотезы, — загадочную карту привез в Венецию богатый купец и путешественник, некий Николо де Конти, только что вернувшийся тогда в родной город из Китая. А в Китае, продолжает Мензис, де Конти, видимо, был знаком (не исключено, что в силу личного участия) с географическими открытиями, сделанными во время недавно закончившегося плавания адмирала Чэнг Хе. Дальше следует рассказ. В начале XV века, напоминает Мензис, Китай был крупной морской державой и располагал большим флотом. Командовал этим флотом ближайший доверенный человек императора, его евнух Чэнг Хе. Адмиралу было поручено двинуться во главе могучей эскадры из 100 с лишним судов в плавание на запад! чтобы проложить новые торговые (а возможно, и завоевательные) пути по Индийскому океану, омывающему земли Южного Китая. Корабли Чэнг Хе достигли восточных берегов Африки, говорит Мензис, но не вернулись на родину, а поплыли дальше, обогнули мыс Доброй Надежды и двинулись на запад через весь Атлантический океан. Они добрались до Карибских островов, которые Колумб открыл лишь 70 лет спустя, спустились оттуда вдоль берегов Южной Америки, обогнули мыс Горн, поднялись снова на север, вошли в нынешний Калифорнийский залив, оттуда опять спустились на юг и повернули на запад, в результате чего наткнулись на Австралию, открыв ее чуть ли не за 200 лет до европейцев, и лишь оттуда наконец двинулись на родину, обогнув тем самым весь земной шар почти за 100 лет до Магеллана. Это во всех отношениях выдающееся плавание состоялось, по расчетам Мензиса, с марта 1421 по октябрь 1423 года. В доказательство правильности проложенного им гипотетического маршрута экспедиции Чэнг Хе Мензис указывает на упомянутые выше особенности карт (очертания Южной Африки, Австралии и Калифорнийского залива, мысов Доброй Надежды и Горна, правильные определения широты и долготы этих пунктов земного шара), а также на остатки огромных старинных деревянных кораблей, найденные на берегах некоторых островов Карибского моря и в Австралии, й некоторые китайские предметы того времени, обнаруживаемые в весьма удаленных местах Америки и Африки. Он выражает предположение, что китайские навигаторы определяли свое положение в море, а также широту и долготу посещаемых ими мест как с помощью Полярной звезды (когда их путь проходил в Северном полушарии), так и руководствуясь звездой южного ночного неба — Канопусом. К этому выводу он пришел, реконструировав на своем домащнем компьютере возможную систему небесной навигации, которую могли применять китайские мореплаватели начала XV века. Судя по отчетам газет, сенсационное сообщение Мензиса (подкрепленное семнадцатью страницами документальных доказательств и обещанием привести все остальные доказательства в готовящейся к публикации книге) было встречено со смешанными чувствами. Историческая его часть не нашла оппонентов, географическая и собственно «корабельная» стороны тоже были признаны вполне правдоподобными. Больше всего сомнений вызвали его рассуждения о «секретных» китайских картах, якобы имевшихся у Колумба и Магеллана, а также сообщения о найденных им остатках девяти китайских судов на карибских берегах. Тамошние берега так хорошо обследованы, заявили некоторые оппоненты, что такие остатки были бы наверняка замечены много раньше. Но более всего против гипотезы Мензиса говорил тот факт, что ни одна современная история картографии не упоминает о том, будто Чэнг Хе посещал какие-либо иные земли, кроме берегов Восточной Африки. Стоит, однако, сказать, что, невзирая на эти скептические замечания, издатели, присутствовавшие на заседании, сразу же по окончании прений заторопились в зал, где был назначен аукцион на покупку прав для издания книги Мензиса. Их можно понять — мы ведь тоже живем сейчас в век великих географических открытий, не менее великих, чем во времена Колумба и Магеллана: то кто-то откроет местоположение Рая, то другой, прямо с самолета — остатки Ноева ковчега, то третий — гору Синай в Аравийской пустыне — и жадное до сенсаций человечество хочет обо всем этом узнать — и поскорее, чтобы потолковать на очередной «тусовке». И правильно. Ведь этого даже у Хеннинга не узнаешь… >ГЛАВА 9 ЗАГАДКИ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ Не только Королевское географическое общество интересуется всякими загадками прошлого (см. предыдущий рассказ) — Королевское астрономическое общество, оказывается, тоже их не чурается. Иллюстрацией этого является нижеследующая история, связанная не просто с какой-нибудь обычной загадкой прошлого, а с тайной самой Вифлеемской звезды. Евангелии, рассказывающие о жизни Иисуса Христа, утверждают, что его рождение сопровождалось появлением над Вифлеемом (тогдашним и нынешним Бейт-Лехемом) чудесной звезды. Вот как описывает это событие апостол Матфей: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться Ему… Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и, когда найдете, известите меня… Они, выслушав царя, пошли: и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец». Люди, убежденные в правдивости каждого слова Боговдохновенных книг, вроде Евангелий, разумеется, не нуждаются ни в каких объяснениях этого необычного феномена, поскольку знают, что в мире нет ничего необычного или «чудесного», ибо все в нем — одни только деяния Всевышнего — и ничего больше. Люди, совершенно не верящие во Всевышнего, не верят также в Боговдохновенность каких бы то ни было книг, и поэтому для них загадка Вифлеемской звезды — тоже не загадка, а просто «очередная выдумка мракобесов». Трудность возникает для тех, кто посредине и хотел бы согласовать каждое слово этих книг с представлениями современной науки, или, иначе говоря, дать этим словам некое «научное объяснение». Самую внушительную попытку такого рода предпринял не так давно сэр Патрик Мур, бывший британский королевский астроном, опубликовавший в сентябре 2001 года книгу «Вифлеемская звезда». В ней он последовательно проанализировал все возможные небесные явления, которые могли бы лежать в основании «мифа о Вифлеемской звезде»: вспышка сверхновой, совмещение нескольких планет, прохождение кометы и т. п. — и пришел к оригинальному заключению, что наиболее удачно удовлетворяет всем описанным в Евангелии обстоятельствам явление «падающих звезд», то есть потока метеоров, представляющихся земному наблюдателю вылетающими из одной точки неба, из одного созвездия. Еще до выхода в свет книги сэра Мура та же проблема была рассмотрена в двух других сочинениях. Британский астрофизик Марк Киджер опубликовал книгу «С точки зрения астронома» (1999), в которой предлагал свое объяснение Вифлеемской звезды как редкого сочетания двух явлений — вспышки сверхновой звезды и необычного совмещения планет. Киджер нашел такой момент в древней истории, когда два этих события произошли почти в одно и то же время. В 5-м году до н. э. на небосводе появилась вспыхнувшая новая звезда, а в 6-м и 7-м годах происходили неординарные совмещения нескольких планет. По убеждению Киджера, появление новой звезды сразу вслед за этими необычными совмещениями планет вполне могло показаться древним людям явным предзнаменованием чего-то незаурядного. Тем, кого насторожит кажущееся несовпадение дат, напомним, что, согласно современным представлениям, Христос родился не в нулевом году той эры, которую христиане называют его именем и отсчитывают со дня его рождения. В результате нескольких ошибок в календарных расчетах средневековых христианских богословов нулевой момент нынешнего календаря несколько сместился. Действительная дата рождения Христа приходится на 4-й или даже на 5-й год «до рождества Христова», так что в этом отношении гипотеза Киджера вполне совпадает с историей. Труднее представить себе, чтобы древние волхвы не бросились в Вифлеем уже по первому зову — совмещению планет — и ждали бы целый год, а то и два до появления новой звезды на небосводе. И вот не так давно в «Ежеквартальнике Королевского астрономического общества» (вот оно, это общество!) — в 36-м его томе, на 109-й странице — появляется вдруг статья американского астронома Майкла Мольнара, в которой утверждается, что хотя гипотеза Киджера абсолютно неверна, поскольку никакая новая звезда в то время на небосводе не появлялась, но Вифлеемская звезда все-таки существовала, причем именно в нужное время и в нужном месте. Только она была не совсем звезда, не совсем тогда, а главное — не совсем видима. Точнее — совсем невидима. Тем не менее нечто незаурядное — по крайней мере, с точки зрения тогдашних астрологов (они же — тогдашние астрономы), — несомненно, происходило. И вот это «невидимое» вполне могло породить рассказ о пресловутой «звезде». В таком описании гипотеза Мольнара выглядит, как попытка одной загадкой объяснить другую. На самом деле, однако, никакой новой загадки тут нет. Мольнар попросту произвел расчет движения видимых небесных тел с 10-го по 1-й годы до новой эры и показал, что во второй половине этого промежутка, а именно в марте — апреле 6 года, произошли два астрономических события, которые не могли не взволновать тогдашних астрологов, в просторечии — «волхвов» (то есть мудрецов). Этими событиями были два подряд затмения Юпитера Луной, причем оба раза в одном и том же месте — в юго-западной части неба, в созвездии Овна. Чтобы понять, почему это могло взволновать астрологов-волхвов, нужно иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, астрология, зародившаяся в Древней Вавилонии и распространившаяся оттуда по всей эллинистической, а позднее — Римской империи, была к тому времени весьма развитой областью знания, и тогдашние астрологи умели рассчитывать движения планет с точностью, которая поражает современных астрономов. Во-вторых, их расчеты всегда имели прикладное значение: они лежали в основе предсказаний, к которым и рядовые люди, и венценосные особы вроде римских императоров относились с глубоким уважением и полным доверием. Поскольку планеты, звезды и созвездия связывались с судьбами отдельных людей и даже целых стран, любые незаурядные астрономические события вроде затмений тотчас объявлялись предзнаменованиями или отражениями незаурядных, житейских и политических событий. Подтверждение последнего тезиса приносят не только сочинения древних авторов, но такие неожиданные, казалось бы, источники, как монеты. Римляне традиционно чеканили на монетах некие символы, отражающие те или иные важные события, и эти символы, как правило, были астрологическими. Например, во времена императора Нерона была выпущена монета с изображением барана (знак созвездия Овна), оглядывающегося на полумесяц и звезду. Это должно было напоминать о затмении Луной Венеры, произошедшем 25 апреля 51 года. Римский историк Светоний сохранил для нас предсказание тогдашних астрологов, которые связали это затмение с судьбой Нерона: они предсказали, что он будет свергнут в Риме, но воцарится вновь в Иерусалиме, потому что созвездие Овна считалось тогда астрологическим символом Иудеи (об этом говорится в сочинении александрийского астролога Клавдия Птолемея «Тетрабиблос» («Четверокнижие»): «Если что-нибудь важное должно произойти в Иудее, то знак этому должен появиться в созвездии Овна»). Мольнар, давний любитель древних монет, хорошо знал всю эту символику, и когда, рассматривая монеты 7 года новой эры, найденные в Антиохии (столице римской провинции Сирия), увидел на каждой из них изображение бога Юпитера, а на оборотной стороне — изображение овна, взирающего на звезду, то сразу же понял, что эти монеты должны были быть отчеканены в честь какого-то астрономического и политического события, связанного с Иудеей. Поскольку Юпитер считался у римлян символом императорской власти, событие, видимо, было связано с каким-то очередным достижением императорской политики. Перелистав исторические труды, он нашел, что в 6 году новой эры римляне сместили Иродова сына и наследника Архелая и присоединили Иудею к провинции Сирия. Монеты же, найденные в сирийской столице, датировались следующим годом, и, исследуя движение планет за этот год, Мольнар обнаружил, что в 7 году новой эры Юпитер сначала виднелся вблизи Меркурия, а затем почти рядом с Луной. Видимо, эти сближения и были сочтены небесными знамениями, свидетельствующими о том, что боги одобряют действия римлян в отношении Иудеи. В честь такого совпадения явно стоило отчеканить специальные монеты. Что же касается собственно «Вифлеемской звезды», то догадка о природе этого явления родилась у Мольнара из случайной находки. Он купил старинную римскую монету, относящуюся к 6-му году до н. э., на которой опять увидел изображение барана («овна»), глядящего, обернувшись через плечо, на звезду. Поскольку знак Овна в зодиаке покрывает период с 21 марта по 20 апреля и поскольку вблизи Луны в 6-м году до н. э. находился Юпитер, Мольнар, будучи астрономом, подумал, что стоило посмотреть, что было с Юпитером и Луной в марте — апреле того года. А посмотрев (т. е. рассчитав движение этих светил вспять), обнаружил, что как раз в те дни, 20 марта и повторно 17 апреля 6-го года до н. э. Юпитер претерпел — редкое совпадение! — два лунных затмения подряд — и притом именно тогда, когда был «на востоке», то есть в восточной части неба. Теперь мы уже можем понять ход дальнейших рассуждений американского астронома. Юпитер, как мы уже видели на примере Нерона, был, по представлениям астрологов, связан с судьбами императоров; не случайно римский астролог Фигулус, увидев знак Юпитера в гороскопе будущего императора Августа, предсказал сенату: «Ныне родился вождь мира». В Иудее же издревле существовало другое пророчество, процитированное апостолом Матфеем как раз в приведенном вначале отрывке о Вифлеемской звезде: «Ибо написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля». Всякий грамотный астролог, увидев такое совпадение, должен был немедленно понять, что у евреев родился (или должен вот-вот родиться) кто-то, кто затмит императоров и царей. Астрологов же в древнем мире хватало. И вера в астрологию была распространена невероятно. Как и сегодня, кстати. Но в наши дни эту веру труднее понять. Ведь людям сегодня прекрасно известно, что планет куда больше, чем думали создатели астрологических расчетов (уже после них были открыты Уран, Нептун и Плутон), так что уже хотя бы поэтому такие расчеты выглядят весьма сомнительно. Впрочем, кому хочется верить, тем ничто не помеха. А во времена, о которых идет речь, были — известны пять планет (не считая Земли), которые вместе с Солнцем и Луной образовывали «семь небес» и своим положением относительно «неподвижных» звезд давали астрологам указания на предстоящие события. Порой даже весьма детальные указания, как, например, то, которое приводит великий астроном древности Птолемей: «Если Венера совместится с Марсом и Юпитер будет виден в то же время, а Марс появится в лучах Солнца, то женщины начнут совокупляться со слугами и вообще всяким низкородным сбродом и даже с чужестранцами и бродягами». Так что уж на рождение «иудейского царя» астрологические книги наверняка могли указать. И потому «Волхвы», т. е. тогдашние мудрецы-астрологи, полагает Мольнар, могли истолковать эти незаурядные астрономические события в свойственном им духе. Вычислив предстоящее затмение Юпитера в созвездии Овна, они могли прийти к выводу, что и оно знаменует собой «рождение Вождя», только среди евреев, — того самого «вождя-спасителя», предсказанного еврейскими пророками. Взволнованные столь выдающимся событием, они явились ко двору Ирода, чтобы выяснить, где именно, по еврейскому пророчеству, оно должно произойти. Узнав, что в Вифлееме, они должны были еще больше взволноваться: ведь Вифлеем находится к юго-западу от Иерусалима, то есть как раз в той стороне, где происходили оба юпитерианских затмения. Судя по тому, что второе из этих затмений произошло, согласно Евангелию, как раз в тот момент, когда волхвы от Ирода направились в Вифлеем, их визит в царский дворец имел место именно 17 апреля 6 года до новой эры: говорит же Матфей, что «звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними». На самом деле, утверждает Мольнар, эта «звезда», то есть Юпитер, как раз и не была видна, но волхвы шли так уверенно, будто она их и в самом деле «вела», — ведь они ее «вычислили». А Матфей, не знавший тайн астрологии, конечно, не мог и помыслить, что волхвы шли согласно своим расчетам, и в простоте душевной записал, что их вела чудесная Вифлеемская звезда. Из гипотезы Мольнара вытекает чрезвычайно важное следствие: если Иисус действительно существовал, то родиться он должен был не в 1 году новой эры, названной его именем, а в день затмения Юпитера, то есть 17 апреля 6 года ДО новой эры (дату 20 марта Мольнар отверг, т. к. она чуть-чуть выходила за границы периода созвездия Овна). И этот свой вывод Мольнар подтверждает еще одним дополнительным совпадением: Ирод умер в 4 году до новой эры и незадолго до смерти приказал перебить «всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от ДВУХ лет и ниже, по времени, которое он выведал у волхвов». Почему «от двух лет», а не старше? Потому что «по времени, которое он выведал у волхвов» (то есть по времени вычисленного ими первого затмения Юпитера), Иисусу в 4-м году до новой эры как раз и должно было быть чуть меньше двух лет — но лишь в том случае, если он родился в 6-м году до н. э. Как говорилось выше, историки давно подозревали, что Иисус, если он существовал, родился раньше исчисленной Церковью даты, и вот сейчас Мольнар нашел дополнительное и независимое подтверждение правоты их сомнений. Все это, разумеется, не доказывает реальности существования Иисуса. Ведь, в сущности, Мольнар всего лишь показал, что в 6 году до новой эры произошли два астрономических события, которые МОГЛИ дать составителям Евангелий повод для создания рассказа о Вифлеемской звезде (которую на самом деле никто не видел, потому что попросту не мог увидеть). Но никаких доказательств связи этих астрономических событий с рождением «реального» Христа Мольнар привести не может. Более того, из его же рассуждений следует, что дело скорее всего обстояло с точностью до наоборот: сначала произошли указанные астрономические события а уже затем эти события в общем духе тогдашней астрологической символики и веры в фантастические «пророчества» были привязаны к рассказу о «рождении Спасителя». Так что достоверность этого главного евангелического рассказа по-прежнему остается под сомнением. Но Мольнар и не ставил своей задачей анализ достоверности евангелий. Он попросту хотел предложить вниманию ученых новую гипотезу, объясняющую миф о Вифлеемской звезде. И с этой задачей, следует признать, он справился весьма успешно. На этом, однако, эта занимательная история не закончилась. Гипотеза Мольнара подверглась критике. Сэр Патрик Мур указал, что затмение Луной Юпитера 17 апреля 6-го года до н. э. происходило средь бела дня и не могло быть увидено никем, даже волхвами. А специалисты по истории астрологии усомнились в том, что «волхвы» могли истолковать невидимое затмение как указание на «рождение царя». Мольнар, разумеется, не сдался, стал искать, как бы опровергнуть возражения критиков, и вот недавно объявил, что ему удалось наконец «решающее» подтверждение выдвинутой им гипотезы. По его словам, это подтверждение содержится в книге астролога Матернуса, написанной в 334 году н. э. По словам Мольнара, ему удалось разыскать творение Матернуса «Матесис», в котором черным по белому описано астрологическое явление, включающее затмение Юпитера Луной, и сказано, что это предвещает рождение великого царя. Правда, царь этот не назван по имени, хотя автор — христианин и книга написана спустя три столетия после рождения Иисуса, но, как говорит Мольнар, «в те времена все читатели книги прекрасно понимали, что это замечание относится именно к Иисусу, а указанное астрологическое событие — это знаменитая Вифлеемская звезда». Матернус, по мнению Мольнара, просто не хотел вовлекать христиан в астрологические дебаты, которые только смутили бы их умы и отвлекли от мыслей о самом Иисусе. И вполне возможно, что Мольнар в этом прав. Во всяком случае, одного человека ему уже удалось убедить — Овен (!) Гингрич, историк астрономии из Гарвардского университета, заявил, что гипотеза Мольнара кажется теперь «очень серьезной». Но вот переменил ли свое мнение сэр Патрик Мур, нам пока неизвестно. >ГЛАВА 10 ЕЩЕ ОДНА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ История, которую я намереваюсь рассказать, тоже связана с Евангелиями, но произошла сравнительно давно, в декабре 1993 года, в Иерусалиме. В научных кругах она тогда произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Сегодня, во времена поголовного увлечения «Кодом да Винчи», она звучит особенно актуально, показывая, что Ничего нового Браун не написал, он лишь добросовестно переписал то, что давно было известно, только слегка разбавил это детективной интригой — надо сказать, весьма примитивной. Итак, некий археолог по имени Леон Декур несколько месяцев вел бесплодные раскопки в одном из старинных уголков древней еврейской столицы. В тот декабрьский вечер 1993 года стояла обычная для израильской зимы пасмурная и пронизывающе холодная погода, и Декур отправил рабочих домой пораньше. Сам же он решил еще немного поковыряться в раскопе. Рассеянно разгребая груду земли в углу глубокой ямы, он вдруг заметил, что в пыли блеснуло что-то металлическое. Руки его заработали энергичнее и осмысленнее, бережно расчищая находку, и вот он уже увидел ее целиком. Можно представить себе его восторг: его глазам открылась старинная медная чаша с остатками какого-то темного вещества. В тусклом вечернем свете Декур не мог разобрать, что это за вещество и к какому времени относится чаша. Какое-то время он задумчиво смотрел на нее, и вдруг его пронзила ослепительная догадка. Нет, он не воскликнул, как когда-то Архимед: «Эврика!» Но он воскликнул нечто, не менее знаменитое: «Грааль!» И в этом месте я вынужден остановиться. Даже в наши времена поголовного увлечения романами Брауна далеко не все знают, что такое Грааль, и потому не все могут в полной мере оценить восклицание Декура. Слово «Грааль», или «святой Грааль», произошло от латинского «gradalis», которое, в свою очередь, восходит к древнегреческому «кратер» — сосуд для смешивания вина с водой. Но в старофранцузском сочетание «Святой Грааль» — «Сангреаль» — имеет еще и иной смысл: «истинная кровь». А древнеирландское cryo, из которого тоже выводят слово «Грааль», означает «корзину изобилия». Итак, «Грааль» — это сосуд для вина и одновременно — чаша со святой кровью, да еще и корзина изобилия. Почему у этого слова так много смыслов? А потому, что это непростое слово. Оно связано со старинной христианской легендой, даже с несколькими сразу. Согласно рассказам о жизни и смерти Иисуса Христа, составляющим содержание т. н. Евангелий (по-гречески — «Благая весть»), свой последний вечер перед арестом, судом и казнью Иисус провел в Гефсиманском саду, где вместе с учениками (апостолами) отмечал великий еврейский праздник Песах (христианской Пасхи тогда еще не было, поскольку Иисус был еще жив и до появления христианства было еще далеко). Евангелия утверждают, что, подняв чашу с пасхальным вином и кусочек мацы, Иисус произнес, указывая на вино: «Се кровь моя», а затем, указывая на мацу: «А се плоть моя». Закончив вечерю, он вышел в сад, где его вскоре и схватили римские легионеры. Выданный Пилатом Синедриону, Иисус был признан смутьяном и бунтовщиком и осужден на смертную казнь. В духе римских обычаев он был распят на кресте. Далее легенда утверждает, будто некто Иосиф Аримафейский снял его тело с этого креста и бережно собрал кровь Иисуса в ту самую чашу, из которой Иисус пил вино на своей «тайной вечере». Таким образом, пророчество Иисуса исполнилось: в чаше оказалась Христова кровь. А дальше, если верить легенде, было вот что. С этой святой кровью Иосиф Аримафейский отправился проповедовать христианство европейским варварам. Так чаша оказалась в Европе. Вскоре, повествует легенда, она обнаружила свои чудодейственные свойства. Чудеса сыпались из нее как из рога изобилия: слепые, прикоснувшись к чаше, становились зрячими, увечные — здоровыми, бесплодные женщины — беременными. Вся эта история и чудесные свойства чаши привели к тому, что она получила собственное имя — «Сангреаль», или попросту «Грааль» (говорят еще — чаша святого Грааля). Позже Грааль затерялся или был спрятан — в каком-то из монастырей, и это положило начало длительным поискам чаши, каковыми рыцари занимались все средние века — в свободное от крестовых походов время. История этих поисков легла в основу знаменитых средневековых романов — «Персиваль» Кретьена де Труа и «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, главным героем которых является один из рыцарей «Круглого стола» короля Артура по, имени Парсиваль (франц. Персиваль, нем. Парциваль или Парсифаль); в XIX веке еще один небезызвестный человек, по имени Рихард Вагаер, написал по мотивам этих романов оперы «Лоэнгрин» и «Парсифаль» (о сыне Парсифаля). Теперь, надеюсь, вы уже понимаете, что побудило Леона Декура издать свой восторженный возглас. Еще бы — ведь он нашел древнюю винную чашу именно в том городе, где происходила «тайная вечеря», и вдобавок неподалеку от того самого Гефсиманского сада, где она происходила! А кроме того, ко дну чаши прилипло темное вещество, которое весьма походило на засохшую человеческую кровь. Как было не предположить, что это именно та самая чаша святого Грааля, с которой связано столько легенд и столько веков бесплодных поисков?! А если это действительно так, то громадные последствия столь сенсационного открытия сразу становятся очевидны — ведь в результате в руках историков впервые в истории могло оказаться прямое доказательство реального существования Иисуса Христа! (Вопрос о том, каким образом чаша вернулась из Европы в Иерусалим, Декура почему-то не заинтересовал.) Какой-нибудь другой археолог, возможно, воздержался бы от столь скоропалительного вывода. Он бы поначалу исследовал находку, определил ее возраст и лишь потом вынес суждение. Но дело в том, что Декур давно, напряженно и страстно желал найти следы существования Иисуса. За 15 лет до этого он уже потряс однажды весь научный и околонаучный мир сообщением, будто ему удалось найти пергамент с «оригиналом» знаменитой «Нагорной проповеди» Христа — той самой, что начинается словами «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Декур действительно нашел тогда какую-то древнюю рукопись, свет в тот раз тоже был вечерний и тусклый, рукопись была в плохом состоянии, исследователь был необыкновенно возбужден находкой — ничего удивительного, что ему почудилось, будто он нашел именно то, что искал. Но в тот раз предположение Декура быстро опровергли: пергамент оказался намного моложе Иисусовых времен. И вот теперь, через 15 лет, в руках Декура оказалась загадочная чаша — как было не подумать первым делом о святом Граале? В кругах археологов Декур вообще-то считался хорошим ученым: его послужной список содержал всего лишь один случай излишней поспешности — тот самый, с «Нагорной проповедью». Поэтому его сообщение о небывалой находке было опубликовано в серьезном научном журнале. Разумеется, археологический мир отнесся к этой новой сенсации с должной осторожностью, но зато мир околонаучный был необычайно взволнован публикацией. Слухи о необычайной находке в Иерусалиме передавались из уст в уста. А вскоре последовала еще одна сенсация: анализ вещества, налипшего на дне найденной Декуром чаши, подтвердил, что это действительно остатки человеческой крови, к тому же самой универсальной группы, «ноль плюс», пригодной для переливания всем без исключения людям. Что дало Декуру повод в очередной раз воскликнуть: «А чего иного вы ожидали от крови Иисуса?!» Увы, больше о загадочной чаше мир ничего не услышал. То ли ее придирчивое изучение показало, что она тоже «не того времени», то ли обнаружилось еще что-то неприятное, но разговоры о ней прекратились. Ясно, что Декур опять поторопился со своей сенсационной гипотезой. Верно учит нас знаменитое правило, именуемое «бритвой Оккама», — не следует громоздить гипотезы без надлежащей надобности. Вся сенсация Декура была основана на том, что в какой-то старинной чаше были найдены остатки чьей-то крови. Стоит ли выдвигать для объяснения этой находки столь монументальные гипотезы, если те же факты могут быть объяснены куда более просто и прозаически? Мало ли чья это может быть чаша, мало ли чья кровь… Разумеется, верующие и склонные к мистике люди такими прозаическими объяснениями не удовлетворятся. И действительно — известие о находке «чаши святого Грааля» возбудило эти круги самым неимоверным образом. Некоторые из самых возбужденных — видимо, под впечатлением нашумевшей картины «Юрский парк», где рассказывается о «воскрешении» динозавров по остаткам их хромосом, — тут же предложили применить ту же (на самом деле — еще не существующую) «методику» для воскрешения… Иисуса Христа. Они призвали ученых выделить из остатков крови, найденной в декуровской чаше, «хромосомы Иисуса» и из них «вырастить», а затем «оживить» его тело. К чести самого Леона Декура, надо сказать, что даже на пике славы он категорически отверг всякую возможность, да и желательность искусственного воссоздания основоположника христианства. Тем не менее и он тоже какое-то время (пока сенсация не умерла) уговаривал биологов попытаться выделить из остатков найденной в чаше крови хромосомы ее древнего хозяина. Декура, как он заявил тогда, больше всего интересовало, будут ли эти хромосомы похожи на человеческие. Лично он был убежден, что они окажутся принципиально иными. А какими же? — наверняка удивитесь вы. Ясно, какими, отвечает Декур. Божественными. Иисус ведь, согласно Евангелиям, был «Сыном Божьим»! И родился он, как утверждают Евангелия, от «непорочного зачатия» Девы Марии. Как же должен современный человек понимать легенду о таком зачатии?. — спрашивал Декур. И сам себе отвечал: ее следует понимать как рассказ об искусственном оплодотворении девушки Мириам с помощью «Божественного сперматозоида». «Не может же, в самом деле, разумный человек поверить в россказни древних греков, будто боги совокуплялись с людьми в виде быков или лебедей», — убежденно заявлял Декур. Действительно, не может. Но и в «Божественный сперматозоид», доставленный в Мириамнино лоно в клювике усердного голубка, — тоже не может. На то он и современный человек, худо-бедно разбирающийся в технике искусственного оплодотворения. Почему же Леон Декур — тоже вполне современный человек — так энергично настаивал на проверке древней легенды? Наверно, хотел в модном сегодня духе сочетать науку с верой, — как Леду с лебедем. Но, как видите, не получилось. История, как видите, действительно интересна — уже хотя бы тем, что напомнила нам о знаменитой чаше Грааля. Ведь легенды, связанные с этой чашей, далеко не исчерпываются тем, что я вам по необходимости коротко здесь рассказал. С той же чашей связана, например, и еще одна сенсационная гипотеза: будто она на самом деле представляет собой не что иное, как исчезнувший Ковчег Завета! История Ковчега тоже окружена многочисленными легендами, на сей раз — еврейскими, и вот несколько лет назад английский журналист Грэм Хэнкок опубликовал толстую книгу под названием «Знак и печать», в которой заявил, что Ковчег и Грааль — это одно и то же, и вдобавок — что ему в результате многолетних поисков удалось наконец найти этот знаменитый Ковчег, но уже не в Иерусалиме, а… в Эфиопии. Поэтому я лучше продолжу еще одним очерком на библейскую тему. >ГЛАВА 11 БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ БИБЛЕЙСКИХ СЕНСАЦИЙ Перефразируя известный афоризм, можно сказать, что патриотизм — это не только прибежище негодяев, это еще и прибежище фальсификаторов. Желание подтвердить героический характер своей древней истории обуревает многих патриотов и зачастую толкает их к бессознательной и даже весьма сознательной фальсификации или к жадному потреблению такой фальсификации, сочиненной другими. Спрос, как известно, порождает предложение, и вот уже некто Петухов (фамилия и библиография хранятся в Интернете) сочиняет новую историю государства российского, начиная с появления славного народа россов, каковое состоялось 40 тысяч лет тому назад. Нет, вы не ослышались — 40 тысяч. И вот уже некто Фоменко сотоварищи (см. тот же Интернет) извещает «урби ет орби», что вся древняя, средневековая и новая история человечества, есть не что иное, как история великой империи россов, простиравшейся на всю индоевропейскую ойкумену. И вот уже некто Бушков… впрочем, несть числа этим лжеутешителям патриотических вожделений, этим отечественным баснописцам, этим лукавым и небескорыстным сказителям-исказителям, и многотомные подвиги их на ниве занимательного фальсификаторства еще долго будут развлекать наших детей и недорослей. Нельзя, однако, не признать, что все эти попытки создать узко отечественную присыпку от патриотического зуда, как правило, грубы и топорны. То ли дело — фальсификация библейско-евангельская, ставящая своей целью подтвердить реальное существование царя Соломона или Иисуса Христа! Такие сенсации не ограничиваются пределами отечества, для них воистину несть ни эллина, ни иудея, и захватывающе интересны они не для сотен тысяч или даже миллионов, а для сотен миллионов людей. Да что там «интересны»! С чудной, волнующей силой играют они на струнах глубочайших верований этих сотен миллионов. А за веру люди, как известно, шли и на костер. А посему человек, избравший профессией подделку такого рода древностей, в буквальном смысле играет с огнем. И бывает, что огонь его и лизнет. Как в случае, который побудил нас к написанию сего очерка. Мы имеем в виду суд над Одедом Голаном. Фальсификаторов всегда было достаточно — хотя бы потому, что всегда доставало недалеких патриотов всякого толка, готовых ухватиться за любую желанную подделку. Каждая эпоха знала своих знаменитых фальсификаторов, об их бесславных деяниях написаны увлекательные тома, и вполне может оказаться, что Одед Голан будет когда-нибудь причислен к их списку. Надо думать, израильская полиция, предъявившая ему не так давно свои обвинения, и израильское Управление древностей, давно точившее на Голана клык, именно такого мнения. Обвинительное заключение перечисляет несколько выдающихся подделок, которые Голан выбросил за последние годы на мировой рынок. Все они вызывали международную сенсацию, заставляя сердца вышеупомянутых сотен миллионов людей учащенно забиться в радостном предвкушении, а руки сотен специалистов — тотчас схватиться за перья. Да и как не схватиться? Ведь вот уже много лет историки и археологи сетуют, что у них нет или почти нет никаких документальных или археологических свидетельств существования сильного Иудейского царства с Соломоновым храмом в Иерусалиме, с развитой культурой и письменностью. И вдруг — пожалуйста: Одед Голан предлагает Израильскому музею обломок древней каменной плитки с вырезанной на ней надписью, в которой сообщается о перестройке иудейским царем Иоашем Соломонова храма в 812 году до н. э. И эта надпись разом снимает несколько дамокловых вопросительных знаков, томительно нависших над библейской историей: напрямую подтверждает существование первого храма; косвенно подтверждает историческую верность библейских списков иудейских царей и других спорных деталей библейских рассказов и попутно демонстрирует явное существование в Иудее ивритской письменности и письменных исторических источников уже в то древнее время, а также убеждает историков-специалистов во многом другом, в чем они сомневались, но не знали, у кого спросить. О таких подарках судьбы говорят, что если бы их не было, их надо было бы придумать. Подумать только — одним (несколькими) ударом (ударами) резца по камню решен многовековой спор об исторической достоверности библейского рассказа! Посрамлены скептики. Укреплены в вере патриоты. Обогащена наука. Так и хочется добавить: «Поднято ярости масс — 3». Тем более что поначалу несколько специалистов высказались в том смысле, что находка заслуживает самого серьезного отношения. В смысле — не фальсификация. Как минимум 50 % шансов, что нет. Лишь потом, задним числом, выяснилось, что правильные 50 % относятся к камню — вот он действительно был древний. А надпись, как вся контрабанда в Одессе, была изготовлена если не на Большой Арнаутской, то где-нибудь в таком же месте в сегодняшнем Иерусалиме. Не будем описывать детали этого разоблачения — надо думать, вскоре появятся книги, посвященные этой поистине детективной истории. В них будут и детали второго «подарка судьбы», изготовленного, Голаном. На этот раз его адресатом стали не евреи, а христиане. Хитроумно проведя за нос Управление древностей и высмеяв при этом тупую бюрократическую неповоротливость его правил (то-то оно наточило на него клык), Голан сумел переправить на Запад — причем на специальную выставку — некий древний ларец для хранения костей с очередной сенсационной надписью, извещавшей, что ларец этот был в свое время (а по времени он — первого века н. э.) предназначен для хранения костей «Якова, брата Иисуса». Сами понимаете. Некоторые западные христианские специалисты так ухватились за этот ларец (по-научному он называется оссуарий), что не хотят признать его фальшивость даже теперь, когда она доказана вне всяких сомнений. Оно и понятно: трудно расставаться — мелькнула высокая надежда и исчезла, как Жар-птица. Хотя, если вдуматься, разве вера требует «научных» доказательств? Это не оксюморон? Сказал же Тертуллиан: «Верую, потому что абсурдно». Вот это понятно. Настоящая вера не требует даже чудес. А если требует, то вот вам, пожалуйста, адрес — «Одед Голан и компания, Ltd, изготовление и продажа желанных подтверждений религиозных и исторических преданий». Ltd означает «ограниченная ответственность», но в данном случае это звучит насмешливо. Судя по всему, ответственность Голана не ограниченная, а полная. В конце минувшего года его группе (в которую входит еще пара израильских торговцев древностями и один палестинец) предъявлено в Иерусалимском окружном суде формальное обвинение в том, что эти несколько людей, вступив в преступный сговор, на протяжении двух десятилетий производили и успешно распространяли по всему миру сфальсифицированные артефакты (так называют в археологии материальные предметы, изготовленные в прошлом), заработав на этом миллионы долларов. За эти годы Голан (по его собственным словам) стал самым крупным в мире коллекционером израильско-иорданских древностей, а его коллеги — самыми крупными торговцами этими древностями. Разумеется, сами обвиняемые свою вину отрицают, их друзья, естественно, в нее не верят, наши патриоты, понятно, негодуют, а нам остается сказать, что в эти самые дни выяснилось (совпало!), что и знаменитый гранат из слоновой кости, гордость Израильского музея, крохотная древняя вещица, которая 16 лет. считалась единственным (до появления «надписи Иоаша») бесспорным подтверждением реальности Соломонова храма, — этот гранат тоже, увы, является подделкой. Конечно, это уже другая история, и к Голану она отношения не имеет. Но она имеет прямое отношение к тому, как бесславно рушатся одна за другой библейские сенсации. >ГЛАВА 12 РОНГО-РОНГО И ВСПЯТЬ К ШУМЕРАМ Существует множество фундаментальнейших для жизни вещей, о происхождении которых мы ничего или почти ничего не знаем. К ним относится лук, весло, лодка, таран (о котором некоторые историки думают, что это и был Троянский конь). К ним относится и письменность. Вот сию секунду, подняв руку, я нанес на экран компьютера, с помощью его внутренних механизмов, некие значки. Спустя несколько дней или недель эти значки, преобразованные с помощью типографских механизмов в несколько иные значки будут перенесены на газетный лист. В конце концов эта газета ляжет на ваш стол. Вы раскроете ее и поймете, что я хотел вам сказать. Разве это не чудо? Кто ж его придумал? Если не имя человека, то по крайней мере имя народа, первым придумавшего письменность, можно назвать? Расскажем по этому поводу занятную историю, которая имеет прямое отношение к загадке возникновения письменности. Пару лет назад высокоуважаемый журнал «Nature» впервые за много-много лет вдруг отвел пару-другую страниц обзору двух в высшей степени экзотических научных изданий — «Журнала Полинезийского общества» и «Рапа-Нуи журнала». Причиной столь неожиданного внимания была публикация в этих изданиях двух статей молодого новозеландского лингвиста Стивена Фишера, посвященных одной из самых запутанных загадок знаменитого острова Пасха — загадке так называемого ронго-ронго. Ронго-ронго — это деревянные таблички, на которых нанесены довольно примитивные картинки, изображающие преимущественно птиц, рыболовные крючки, человечков с хвостами и без, деревья, палки и прочее в том же роде. Вообще-то такими рисунками впору заниматься детишкам, но в данном случае перед нами явно недетское усилие. Картинки расположены в определенном линейном порядке, каждая линия образует строку, каждая табличка содержит несколько таких строчек, и каждый символ повторяется в ней множество раз. Так и хочется сказать, что перед нами очевидная попытка выразить, сообщить или передать некую информацию, иными словами — попытка письма. Что-то вроде письма в рисунках. Об острове Пасха написано много. Тур Хейердал (тот, что с «Кон-Тики»), да и не он один, посвятил ему и его знаменитым статуям (еще одна островная загадка) специальную книгу. Этот затерявшийся в Тихом океане остров был открыт европейцами в 1722 году. Однако долгие десятилетия подряд ни один из европейцев, побывавших на острове, ни звуком не обмолвился о существовании там табличек ронго-ронго. И вдруг в 1864 году некий миссионер сообщил, что видел такие таблички, причем не одну-две, а буквально в каждой хижине. Вскоре это стало подтверждаться другими сообщениями, и кое-кто из наблюдателей утверждал даже, что эти деревянные таблички хранятся в особых хижинах как нечто сакральное и охраняются запретами — табу. У исследователей, занявшихся изучением ронго-ронго, сложилось впечатление, что это довольно позднее явление, вызванное к жизни скорее всего первыми письменными объявлениями испанских властей острова о его аннексии Испанией. Эти испанские листовки были. вручены вождям и жрецам местных племен, чтобы те «расписались в извещении». Вожди и жрецы «расписались» оттисками пальцев. Дело было примерно в 1770 году, но семена были посеяны, желание обрести такую же, как у белых пришельцев, способность выразить свои мысли значками, видимо, запало в души островитян, и не прошло и ста лет, как это желание воплотилось в загадочные деревянные таблички с их примитивными письменами-рисунками. С тех пор прошло сто с лишним лет, и из всего множества таких табличек во всем мире сохранилось лишь 25, рассеянных по разным национальным музеям. На этих 25 табличках имеется в общей сложности 14 тысяч рисунков. После того как в 1862 году правительство Перу вывезло с острова последних вождей и жрецов, не осталось ни одного островитянина, который умел бы читать ронго-ронго. Усилия немецкого лингвиста Томаса Бартеля, занявшегося уже в середине нашего века расшифровкой загадочной письменности, привели лишь к подтверждению того, что это действительно письменность, скорее всего — рудиментарная, зачаточная письменность, значки-картинки которой изображают как конкретные объекты (птиц, людей и т. д.), так и некие идеи, но не алфавитные знаки, звуки или слоги. Прочесть написанное ни Бартелю, ни другим исследователям не удалось. И вот теперь, через полвека после Бартеля, Стивен Фишер, пройдя путем Шамполиона, добился желанного успеха. Таким образом, письменность ронго-ронго, возможно самая молодая, самая недавняя из созданных человечеством письменностей, наконец-то расшифрована. Таблички острова Пасха прочитаны, как тот роман, о котором говорил классик. И что же они содержали? Об этом чуть позже. Давайте сначала вдумаемся, какой вывод для истории письменности как таковой можно извлечь из истории письменности ронго-ронго. Прежде всего можно думать, что возникновение этой письменности должно в определенной степени повторять процесс возникновения всякой другой, более древней письменности, а может быть, и всякой письменности вообще. Несомненно, письменность рождалась из потребности сберечь некую важную информацию (вспомним, что таблички ронго-ронго держали в специальных хранилищах («библиотеках»)? — были они защищены сакральным табу). Но уже изначально у них была и вторая, не менее важная функция — передать информацию другим людям. Об этом выразительно свидетельствует древняя шумерская легенда, найденная среди памятников шумерской письменности и рассказывающая о том, как эта письменность была создана («изобретена», если угодно). Легенда говорит, что однажды к царю Урука прибыл гонец, настолько измученный дальним путешествием, что был уже неспособен даже говорить. Царю же было необходимо послать его снова в путь. Как сделать, чтобы он мог передать нужную информацию? Хитроумный царь, говорит легенда, взял глиняную табличку и начертал на ней слова послания, так что отныне гонцу не нужно было их произносить. Очаровательная легенда, в наивности своей даже не задумывающаяся над тем, как же получатели этого первого в истории письменного послания прочтут неизвестные им знаки, выцарапанные царем Урука в глине таблички. Ведь письменность, как и речь, процесс двусторонний: и отправитель, и получатель должны предварительно «сговориться» об общем значении применяемых символов (знать, понимать или выучить это значение). Главное, однако, даже не в этом. Легенда не рассказывает о том, как именно царь придумал свои знаки. И тут история ронго-ронго, кажется, может нам помочь. Из нее явно следует, что придуманные островитянами знаки были изображениями, или, как говорят, пиктограммами (от «пиктос» — рисовать). Это рисуночное письмо не воспроизводило звуки какого-либо реального языка, известного только его носителям, а имело общий характер: носители иного языка тоже могли, в принципе, понять эти рисунки (но только в принципе — как мы видели, понять написанное удалось только после почти столетних усилий). Если создание ронго-ронго повторяло историю создания письменности вообще (как развитие эмбриона повторяет историю развития вида), то, может быть, и всякая письменность начиналась с пиктограмм? Давно известно, что люди рисовали с незапамятных времен, — в пещерах Франции и Испании найдены замечательные реалистические изображения бизонов, мамонтов и людей в процессе охоты. Не могло ли быть так, что эти рисунки, постепенно упрощаясь, стали основой каких-то значков, постепенно все более абстрактных и в конце концов сложившихся в письменность? Это действительно одна из гипотез, выдвинутых исследователями, изучающими становление письма. И ее разделяют многие из них, но не все. Другие исследователи указывают, что среди древнейших письменностей — Месопотамии, Египта, Китая, Индии и некоторых других регионов — очень мало образцов рисуночного письма. Даже китайские и египетские иероглифы не очень походят на изображения реальных объектов, хотя некоторые из них такие объекты напоминают. Что же, например, до шумерской клинописи или критского «линейного письма», то угадать в их значках рисунки людей или животных никак не удается. Поэтому скептики выдвинули другую гипотезу. Первой ее предложила — почти 20 лет тому назад — американская лингвистка д-р Дениза Шмандт-Бессерат из Техасского университета. Сегодня ее предположение кажется многим более правдоподобным, чем «пиктографическая теория». На недавнем симпозиуме специалистов по истории письма, проходившем в Пенсильванском университете, представители обеих теорий яростно оспаривали аргументы друг друга и в конце концов согласились, что имеющегося материала еще недостаточно, чтобы решить, какая из этих теорий верна. Чтобы понять гипотезу Шмандт-Бессерат, лучше всего начать… с гомеровской «Илиады». Там есть огромная, как считают, более ранняя вставка, в которой перечисляются корабли, посланные различными греческими городами для участия в походе на Трою. Список этот так огромен, однообразен и скучен, что даже такой ценитель классики, как Мандельштам, признавался: «Я список кораблей прочел до середины…» Специалистам, однако, этот список дает благодатный материал для размышлений. Дело в том, что, расшифровав шумерскую письменность и критское «линейное письмо», — исследователи с немалым удивлением обнаружили, что значительная часть всех этих текстов тоже представляет собой «списки», «перечни», «каталоги» и тому подобное. Так, среди 150 тысяч критских текстов такие «списки» составляют около трех четвертей. Что же там перечисляется? В основном вещи, товары, утварь, драгоценности, мешки зерна и животные, доставленные в царскую казну для уплаты налогов, и тому подобные хозяйственные объекты. Перед нами — явная бюрократическая отчетность. И это не удивительно. Мощные (для своего времени) державы вроде критской, шумерской, микенской, древнеегипетской и других не могли бы существовать без налаженной (и обслуживаемой армией чиновников) экономики. Кто-то должен был кормить двор правителя, армию, жрецов, самих чиновников; правители покоряли другие страны и возвращались с рабами и материальной добычей — ее тоже нужно было скрупулезно подсчитать и отметить; другие цари присылали подарки, и эти дары тоже подлежали тщательной регистрации; в каждом таком реестре указывалось число и характер вещей, пленников, драгоценностей и всего прочего, а также отмечалось (для памяти) место их хранения и так далее. Эта огромная, неутомимая, каждодневная бюрократическая работа тенью сопровождала всю политическую и хозяйственную жизнь страны, ее царей и ее народа. Как же она велась в отсутствие письменности? Можно представить себе, говорит Шмандт-Бессерат, что поначалу для обозначения каждого вида предметов использовались камешки или черепки определенного вида: скажем, для мешков зерна — округлые камешки, для стрел и копий — продолговатые и т. п. Число камешков соответствовало числу предметов данного вида. Камешки хранили в специальных глиняных сосудах. Чтобы знать, что находится в каждом сосуде, на нем снаружи оттискивали один из вложенных в него камешков или черепков. Следы таких черепков, оттиснутые в глине, и были предшественниками первых письменных знаков. Действительно, сосуды с такими оттисками в превеликом множестве найдены в раскопках древних месопотамских городов — Ура, Урука и других. Дальнейшее развитие уже нетрудно представить: какой-то неведомый месопотамский гений сообразил, что оттиск можно делать просто палочкой («стилом») во влажной глине и даже просто на специальной глиняной табличке; другой придумал особые оттиски-значки для обозначения тех или иных мест хранения; третий догадался, что таким же способом можно обозначать не только предметы и места их хранения, но и некоторые простейшие, основные понятия, и так далее. Сначала все эти значки были достоянием одних лишь чиновников и понятны только им одним. Но им можно было обучиться и обучить других. И других учили. Тому есть замечательное доказательство. Среди прочих клинописных и «линейных» древних «реестров» были обнаружены такие, которые были специально предназначены для обучения будущих чиновников, для заучивания наизусть — ради обретения навыков записи и чтения новых «списков». Надо думать, что жрецы и придворная знать тоже постепенно приобщались к новинке. Впрочем, в тех же первых памятниках шумерской письменности есть указания на то, что цари и правители, как правило, писать и читать не умели — за них это делали специально обученные писцы и чтецы. Эти специалисты были совершенно необходимы при дворе: древние державы, как опять же обнаруживается в памятниках их письменности, вели огромную дипломатическую переписку. В одной только столице Хеттской империи 2-го тысячелетия до н. э. были обнаружены десятки писем хеттских царей к фараонам Египта, правителям стран Малой Азии, царям Ассирии и даже вождям древнегреческих городов. (Надо полагать, что все это не сами послания, а их копии, на всякий случай хранившиеся в царском архиве.) Итак, перед нами две гипотезы, по-разному объясняющие происхождение письменности: одна видит ее начало в рисунках, другая — в оттисках, с помощью которых регистрировались объекты в «реестрах» и «списках». В чем, однако, сошлись все специалисты на упомянутом выше симпозиуме, так это в убеждении, что первые варианты письменности не отражали какого-либо определенного языка — лишь на более позднем этапе некоторые из них перешли к обозначению значками звуков родной речи. Как сказал д-р Питер Дамеров, «каким бы ни был исходный импульс для создания письменности, с момента ее появления она быстро приобретает достаточную независимость и гибкость, чтобы адаптировать свои кодовые знаки для передачи специфических особенностей своего языка». Впрочем, «быстро» — это примерно полтысячи лет: именно такой срок отделяет первые клинописные значки на черепках из Урука от поздней клинописи, представляющей запись шумерской речи. Таким образом, шумерские клинописные знаки постепенно стали знаками шумерского языка, древнеегипетские иероглифы были приспособлены для передачи понятий древнеегипетской культуры, хеттские письмена — для транскрипции хеттской фонетики и так далее. Но где же начался этот процесс? Мы уже знаем, где и когда было изобретено последнее по счету письмо — на острове Пасха, в конце XVIII — начале XIX века. А где и когда возникла первая письменность? Вокруг этого вопроса тоже идут ожесточенные лингвистические споры. До недавних пор считалось, что самые древние значки-письмена появились в Шумере примерно за 3200–3300 лет до н. э. — не случайно известная книга об этой первой месопотамской цивилизации называется «История начинается в Шумере». Но на пенсильванском симпозиуме было сообщено, что новейшие методы радиоуглеродного датирования позволяют думать, что некоторые древнеегипетские иероглифы, обнаруженные на обломках костей и на глиняных сосудах, были нацарапаны за 3500 лет до н. э. Теперь и в этом вопросе будут существовать две теории — египетского и шумерского происхождения письменности. Все другие древние системы письма появились явно позже, но опять-таки «вскоре»: уже в начале 3-го тысячелетия до н. э. письменность становится весьма распространенной — она встречается, например, у эламитов Южного Ирана; затем она появляется в долине Инда (в нынешнем Пакистане) и в Западной Индии, в Сирии, на Крите («линейное письмо») и в Анатолии (империя хеттов). В конце 2-го тысячелетия до н. э. письменность появляется в Китае, а в начале 1-го — в Центральной Америке (государство майя). Эта последовательность заставляет некоторых исследователей думать, что письменность не столько изобреталась в каждом месте отдельно, сколько распространялась, видоизменяясь в ходе этого процесса. Однако другие специалисты считают, что каждая из этих древнейших систем письма была автохтонной, т. е. придуманной независимо от других. (Ситуация тут отчасти напоминает знаменитый спор палеоантропологов: появился вид гомо сапиенс на каждом континенте независимо или возник в Африке и оттуда распространился по планете?) Думается, что и для решения этого спора пока нет достаточного материала. Неслучайно чуть не каждое новое открытие весьма круто меняет представления лингвистов. Раньше, к примеру, считалось, что письменность проникла в долину Инда из Месопотамии. Теперь, на том же симпозиуме, было сообщено об открытии в Индии еще более древних письменных знаков; относящихся к 3300 г. до н. э. и отдаленно похожих на знаки более поздней индусской письменности следующего тысячелетия. Если это открытие подтвердится, оно может означать, что письменность в Индии возникла независимо от Шумера. О Китае раньше вообще не спорили: древняя китайская письменность считалась автохтонной, возникшей на основе изображений на бронзовых изделиях («рисуночное письмо») и на костях для гадания («черепковая письменность»). Но, выступая на пенсильванском симпозиуме, один из специалистов заявил, что ему удалось обнаружить 22 знака финикийской письменности на глиняной посуде и одеяниях мумий, найденных в пустыне Западного Китая. При этом мумифицированные тела имеют характерные признаки людей кавказской расы, а их одеяния — западные приметы, так что можно думать, что эти (а может быть, и более восточные) места Китая посещались людьми из Месопотамии уже во 2-м тысячелетии до н. э. Они могли занести сюда и свою письменность. Известно ведь уже, что повозки и бронзовая металлургия проникли в Китай именно с запада. Таково состояние научных знаний о возникновении письменности на нынешний день. А что же, кстати, с письменностью ронго-ронго? Мы ведь обещали рассказать, что прочел на этих табличках Стивен Фишер, и даже намекнули, что он воспользовался для этого методом Шамполиона. Пришло время для обещанного рассказа. Напомним, что Шамполиону удалось прочесть древнеегипетские иероглифы благодаря находке т. н. Розеттского камня, на котором один и тот же текст был записан и на известном ему греческом языке, и с помощью иероглифов. В случае Фишера роль Розеттского камня сыграла двухкилограммовая табличка ронго-ронго метровой длины, хранившаяся в музее Сантьяго и покрытая множеством строк текста, в которых отдельные куски были отделены друг от друга вертикальными линиями (ни в одной другой табличке таких линий не было). В поисках закономерностей текста Фишер обратил внимание на то, что знак, следовавший за каждой линией раздела, обязательно сопровождался примитивным рисунком фаллического характера (т. е. упрощенным изображением мужского члена). Каждый третий знак после первого (4-й, 7-й и т. д.) тоже сопровождался таким фаллическим символом, т. е. текст как бы распадался на триады типа X-У-Z. Вспомнив, что в рассказах миссионеров, посещавших остров Пасха в прошлом веке, фигурировала некая «Песня Творения», начальные слова которой звучали как «Атуа Мата Рири», а вся песня в целом означала: «Бог Мата Рири («грозноокий») совокупился со сладким лимоном, и так родилось дерево Попоро». Фишер предположил, что найденные им «триады» можно понимать следующим образом: некий X (знак которого сопровождается фаллическим символом) совокупился с У, и это привело к возникновению Z. Иными словами, каждая триада — это предельно лаконичный рассказ о сотворении какого-то объекта рееального мира, а весь текст таблички в целом — своего рода островитянская «Книга Творения». Благодаря этому ключу, ему удалось расшифровать и тексты на других сохранившихся табличках. В итоге он показал, что ронго-ронго были не просто мнемоническим средством вроде известного «узелкового письма», а настоящей письменностью, с помощью которой жрецы острова за период с 1780 по 1865 год сумели записать (а может, и досочинить) мифологию островитян. Интересно, что эта письменность оказалась далеко не чисто пиктографической: ее знаки (хотя отнюдь не все) действительно были упрощенными изображениями физических объектов, но, например, фаллические символы оказались своего рода «семантическими суффиксами», т. е. были предназначены дать наглядное визуальное представление о некоем действии, которое один такой объект совершал над другим… Такие вот картинки…. >ГЛАВА 13 «НЕГРАМОТНАЯ» КУЛЬТУРА В дополнение к вышерассказанному — еще одна история с письменностью, которая не совсем письменность. Всем известно, что древнейшие цивилизации складывались вдоль больших рек. Придумано даже название — «гидравлическая цивилизация», т. е. такая, которая складывалась в борьбе с постоянной угрозой наводнений. Индия не была исключением. Как открыли английские ученые еще в 1870-е годы, древнейшая цивилизация на этом субконтиненте тоже сложилась вокруг реки — вокруг реки Инд. Систематические раскопки, начавшиеся здесь в 1920-е годы, вскрыли большие города, многочисленные здания, сложную систему водопроводных и канализационных труб. Одна только Хараппа, судя по числу жилых зданий, насчитывала 50 тысяч жителей — и это за 2500–2000 лет до нашей эры. Территория этой цивилизации составляла 1 млн кв. км. Понятно, что для современных индийских националистов эта древнейшая цивилизация Инда — предмет величайшей гордости, прямой предшественник культуры Вед и всей нынешней Индии. Своей монументальностью она нисколько не уступала знаменитым, одновременным С ней древним цивилизациям Египта и Мессопотамии. С одним отличием, о котором — сначала потихоньку, чтобы не разъярить этих гордых националистов, а теперь уже во всеуслышание — заговорили с недавних пор некоторые ученые. Если они правы, эти учёные, то древнейшая и великая цивилизация Инда была… безграмотной. От Древнего Египта остались иероглифы, надписи, целая литература. От цивилизаций Древней Мессопотамии сохранилась клинопись, целые библиотеки глиняных табличек. А вот от цивилизации Инда остались лишь многочисленные изображения каких-то непонятных, объединенных в небольшие группы значков, нарисованных в основном на маленьких табличках или печатях. Древнейшие из этих значков датируются примерно 3200-м годом до н. э., т. е. почти тем же временем, что и первые иероглифы и клинопись. Спустя 800 лет эти значки достигают наибольшего разнообразия, а еще спустя 700 лет они исчезают совсем, вместе со своей цивилизацией. И что странно — почти все эти таблички содержат очень малое число значков (или символов?) индийский археолог Рао насчитывает их не более 20-ти, хотя более «патриотически» настроенные ученые утверждают, что разных знаков чуть ли не 700. В последнем случае они, скорее всего, должны были бы быть иероглифами, но этому противоречит тот факт, что большинство этих значков больше похожи на обычные рисунки — изображения рыбы, например, или дерева. Если же отбросить рисуночные значки, мы вернемся к выводу Рао, что «собственно знаков» всего 20, и тогда их можно было бы считать, вслед за финским лингвистом Парполой, знаками фонетического письма, но тут в наши споры вмешивается главный герой всей этой истории, американский «возмутитель спокойствия» Стив Фармер, и портит всю картину своим сенсационным утверждением, что это никакой не алфавит, а просто… Впрочем, давайте по порядку. Фармер, процдя путь от армейского радиста «на подслушке» до профессора на кафедре сравнительной культурологии, в свое время написал глубокую работу по истории Древнего Китая и недавно занялся историей древнего бассейна Инда. В своей последней итоговой статье о пресловутых «знаках древней индийской культуры» он еретически заявил, что никакие это не письмена, а что-то вроде тех геральдических символов, которые имели такое широкое хождение в средневековой Европе. Разумеется, это утверждение было не с потолка взято. Вместе с другими лингвистами-единомышленниками Фармер произвел тщательный анализ всех сохранившихся табличек и определил, что среднее число знаков на них составляет 4,6 (самая длинная «надпись» содержит 17 знаков и лишь меньше одного процента надписей длиннее 10 знаков). Такие короткие «тексты» не встречаются ни в одной из известных ученым письменностей мира. Далее, в отличие от букв, которые в текстах на любом языке повторяются довольно часто (например, в английских текстах почти 12 % знаков — это буква «е»), в «надписях» из долины Инда такие повторы практически не встречаются. Наоборот, добрая половина знаков вообще встречается только один раз, три четверти знаков встречаются всего пять и менее раз. Такое впечатление, пишет Фармер, что «некоторые знаки изобретались специально для данного текста и забывались после нескольких использований». Все это привело Фармера к выводу, что индийские знаки были, скорее, магическими символами — вроде креста у христиан — или геральдическими изображениями, обозначавшими отдельные кланы, сосуществовавшие (и, возможно, враждовавшие) внутри этой загадочной цивилизации. Разумеется, гипотеза Фармера взбесила многих. Националисты попроще стали посылать ему письма с угрозами, а ученые коллеги принялись раздраженно опровергать все его утверждения, заявляя, что он фальсифицировал все свои данные. Что, как признает большинство специалистов, попросту неправда. Доводы Фармера слишком обоснованны, чтобы отмахнуться от них, и не случайно многие специалисты из «умеренных» уже сдвинулись от прежней единодушной веры в древнюю индийскую письменность к более скромному утверждению, что на загадочных табличках изображены имена принцев, богов, названия городов и т. п., но несвязные «рассказы», как было в Древнем Египте или Шумере. Вместе с Фармером (или вслед за ним) они сходятся в том, что эти символы играли какую-то важную социальную роль, объединяя все территории древней цивилизации Инда и придавая им ощущение общей принадлежности к одной культуре (напомним, что по территории эта цивилизация была примерно как вся нынешняя Западная Европа!). Как. говорит Фармер, отсутствие письменности отнюдь не унижает индийскую цивилизацию. «Большая городская цивилизация могут держаться вместе и без письменности», даже если это была многоплеменная и многоклановая культура. «Бесстрашный еретик» настолько уверен в своей правоте, что недавно учредил даже специальную премию размером в 10000 долларов для человека, который представит надпись длиной в 50 символов, с повторяющимися по законам языка значками и сопроводит находку прочтением ее текста. «Я ничем не рискую, — уверенно заявил он газетам. — Мне все-равно никогда не придется выписывать этот чек». >ГЛАВА 14 В ПОИСКАХ ТАЙНОГО ЗНАНИЯ Под конец вернемся от древней лингвистики опять к древней истории. В ней все еще появляются новости и открытия. Одно из таких открытий произошло в исторических масштабах не так уж давно, и поэтому его можно смело зачислить в новости. Во всяком случае, в древние новости. Открытие это совершил простой арабский пастух. Случайно заглянув в заброшенную пещеру, он обнаружил там глиняный кувшин метровой высоты и, разбив его мотыгой, увидел какие-то древние свитки. Он забрал их с собой, а уже от него они каким-то образом попали на арабский черный рынок, перекочевали в руки охочих до древностей зарубежных туристов и в конце концов оказались в распоряжении ученых, где им и было самое место. Ибо свитки эти содержали неведомые доселе и переворачивающие многие наши представления тексты, родившиеся в кругу загадочной религиозной общины, что существовала в этих местах в те времена, когда ближневосточную землю топтали сапоги римских легионеров, а отчаявшиеся в неволе люди слагали учение о приходе избавителя-Спасителя. Вы, конечно, подумали, что я пересказываю историю Кумранских свитков. И вы ошиблись. Я хочу рассказать совершенно иную, хотя и не менее увлекательную историю, которая как две капли воды похожа на историю кумранской находки, — с той лишь разницей, что в данном случае свитки были найдены в пещере на горе Джабаль аль-Тариф, вблизи города Наг-Хаммади, что в среднем течении Нила, между знаменитыми египетскими городами Асьютом и Луксором. О кумранских свитках знает каждый образованный человек. О свитках Наг-Хаммади знает далеко не каждый. Между тем по своему значению они, пожалуй, не уступят свиткам Мертвого моря. Свитков Наг-Хаммади насчитывается тринадцать. В них содержится пятьдесят два текста, созданных, по мнению специалистов, в первом-втором веках нашей эры. Тексты эти представляют собой раннехристианские апокрифы, то есть сочинения, не вошедшие в утвержденный церковью христианский канон — «Новый Завет». А громадное историческое значение этих текстов состоит в том, что в сумме они образуют наиболее полную и впервые представшую перед исследователями библиотеку т. н. «гностических» сочинений, до того известных лишь по пересказам христианских критиков гностицизма. Вообразите себе, что вы находитесь в зале суда, где все время выступают только свидетели обвинения. И вдруг происходит взрыв! Впервые за два тысячелетия в зале появляется сам обвиняемый. В зале шум и смятение, судья грохочет молотком по столу, приставы выводят непотребно беснующихся обвинителей. И обвиняемый начинает сам рассказывать о себе. Я сознательно принял столь высокопарный тон, чтобы подчеркнуть всю огромность и небывалость случившегося. Находка в Наг-Хаммади не просто очередное археологическое открытие. Это переворот в наших представлениях о гностицизме. А стало быть, обо всей истории раннего христианства. Более того — о религиозной истории в целом. Ибо гностицизм — это одна из величайших и распространеннейших религий древнего мира. Но куда важнее и, несомненно, куда интереснее, что это одно из самых влиятельных и заметных явлений нашей с вами эпохи, той, в которой мы живем и блуждаем сейчас. Достаточно сказать, что следы гностических доктрин обнаруживаются в учениях таких современных мыслителей, как Хайдеггер и Юнг, а в своей вульгаризованной форме они были усвоены мистическими вдохновителями Гитлера из «Общества Туле» и создателями многих современных оккультных сект и мистических культов на Западе. И если когда-то исследователь гностицизма Ганс Йонас говорил о «Великой гностической революции» древности, то сегодня мы можем назвать наше собственное время эпохой столь же масштабной «гностической контрреволюции». Теперь уж вы наверняка впали в тяжелую задумчивость. Если гностицизм столь могуч и вездесущ, то почему мы о нем ничего не знаем? Если его следы обнаруживаются буквально повсюду, то, ради Бога, покажите нам их. И поскорее! Может быть, мы — тоже гностики, только сами не знаем, как мольеровский герой Журден не знал, что всю жизнь говорил прозой! А не знаем мы о гностицизме (точнее, почти ничего не знали до находки в Наг-Хаммади) по той простой причине, что христианская церковь усиленно над этим поработала. В свое время, на рубеже I–II веков, учение гностиков настолько успешно соперничало с ортодоксальным христианством, что, по мнению некоторых ученых, имело шансы его победить. Гностикам не хватило организованности. Они никогда не пытались создать формальную церковную организацию. Более того, они были принципиально против нее. Гностицизм, как мы увидим, — это вызывающе индивидуалистическая доктрина. И пока гностики размышляли о причине несовершенства земной юдоли и способах ее преодоления, христиане создавали свои епископаты. И первые же епископы на первое место в списке своих неотложных задач поставили беспощадную борьбу с конкурентами. Уже в 180 году епископ Ириней опубликовал пятитомное (!) сочинение, озаглавленное «Сокрушение и уничтожение ложного учения, так называемый «гнозис», которое изрыгает хулу на Господа нашего Иисуса, — дабы не дать другим впасть в эту бездну гордыни и богохульства». С еретиками христианство всегда расправлялось круто. Гностицизму грозило полное исчезновение из человеческой памяти. К счастью, Ириней с группой товарищей перестарались. В их сочинениях эти еретики цитировались так обильно, что вдумчивые люди из одних этих цитат могли составить представление о гностических доктринах. А историки религии XIX–XX веков разбирались в древнем гностицизме уже весьма неплохо. Находка в Наг-Хаммади позволила им сделать следующий огромный шаг в развитии и обобщении этих представлений. Что же так раздражало христианских ортодоксов в гностическом учении? Возьмем, к примеру, один из текстов наг-хаммадийских свитков, апокриф, который называется «Евангелие от Фомы» (в «Новом завете» вы его, разумеется, не найдете). Начинается оно так: «Здесь содержатся тайные слова, сказанные живым Иисусом и записанные его братом-близнецом Иудой Фомой». Тут даже самый поверхностно знакомый с христианством человек содрогнется. Оказывается, у Иисуса был брат-близнец! Оказывается, Иисус поведал ему какое-то «тайное знание»! Раз «тайное» — значит, не то, которое содержится в канонических Евангелиях. Что же это за знание? Намеки на эту тайну рассеяны по наг-хаммадийским свиткам в превеликом множестве. К примеру, в тексте «Свидетельство истины» рассказывается совершенно сенсационная история Змия, который, оказывается, первым пытался принести людям свет «тайного знания», но встретил яростное сопротивление «так называемого Бога», пригрозившего Адаму и Еве смертью, если они вкусят от злополучного яблока. А в тексте с поразительным названием «Громыхающий идеальный разум» некая загадочная «Высшая богиня» выражается о себе таким дзэн-буддистским слогом: «Я та, которую чтут и поносят, я шлюха и святая, я мать и девственница, я первая и последняя, я непостижимое молчание и я же невыразимый звук моего имени». Гностики были решительно неортодоксальны и в толковании самого Иисуса, и в объяснении его миссии на земле. У ортодоксов Иисус отделен от сынов человеческих уже тем, что он «Сын Божий», а у гностиков Бог и человеческое Я — одно и то же: «Познай, кто это такой внутри тебя говорит — моя мысль, моя душа, мое тело, и ты обнаружишь Бога в самом себе», — говорит гностический автор Моноимус. У ортодоксов Иисус говорит в основном о «первородном грехе», который он пришел «искупить», а у гностиков он занят прежде всего развенчанием иллюзий, которые скрывают от людей «истинное положение вещей в мире», «истинное знание». И говорит Иисус Фоме: «Кто пьет из кипящего источника истины, из которого пью и Я, тот становится Мною, и Я становлюсь им». Не потому ли Фома и назван его братом-близнецом? Сквозная тема всех гностических текстов — поиск тайного знания, по-гречески — «гнозиса». Отсюда и название. Какие-то загадочные, словно нарочито созданные кем-то иллюзии скрывают от людей истинную природу мира и самого Бога, и то, что люди принимают (а ортодоксальные христиане выдают) за истину, ей на самом деле противоположно. Может, и сам Бог подложный? Да и существует ли Он вообще? Один из гностических авторов говорит о «Несуществующем Боге». Не в том смысле, что Его нет, а в том, что Он не существует в принятом толковании этого слова, не может быть определен в обычных терминах, разве что в отрицательных: Он не то, и не то, и не то. Эту мысль позднее подхватили у гностиков такие знаменитые средневековые мистики, как Николай Кузанский и Якоб Беме. А уже у них — кое-какие мистики нашего времени. Точно так же, как Юнг заимствовал у них убеждение в наличии у божества женской ипостаси, а Хайдеггер — некоторые представления о природе человеческого бытия, вошедшие — уже через хайдеггеровские сочинения — в основы современного экзистенциализма. О том, что заимствовал у гностиков фашизм, популярно рассказано в переведенной (много лет назад) на русский язык книге Бержье и Пауэлла «Утро магов», а более научно — в недавно вышедшей (по-английски) книге «Гностические корни нацизма». Любопытно, что почти так же называется более давняя книга известного французского историка Алана Беансона, только у него — «Гностические корни ленинизма»! Гностические корни, несомненно, есть, как я уже говорил, и у более мелких духовных течений эпохи, но они все еще ждут своих исследователей. Гностики, в общем-то, всего лишь передали эстафету. Они и сами многое заимствовали. Внимательный читатель наверняка заметил; что разговоры об «истине, скрывающейся за покровом иллюзий», очень напоминают индийские рассуждения о «покрове Майи», скрывающем от людей высшую истину бытия, то, «каково оно есть на самом деле», а сами «иллюзии» очень похожи на платоновские «тени вещей», которые носятся на стене Пещеры, где томится человеческий разум, принимая эти тени за те абсолютные «идеи», из которых, по Платону, слагается истинная реальность. Не случайно Адольф Гарнак, один из первых исследователей гностицизма, когда-то назвал гностиков «распоясавшимися платонистами», а британский историк Гонзе возвел зарождение гностических идей к влиянию буддистских проповедников, которые активно миссионерствовали в Александрии в I–II веках н. э. С другой стороны, Мориц Фридландер доказывал, что многое в учении гностиков восходит к «еретическим» идеям иудаизма того же времени. У гностиков, действительно, был жестокий спор с иудаизмом, может быть, даже более жестокий, чем с христианской ортодоксией, и такой беспощадно страстный, какой бывает только между очень близкими родственниками. Гностики отвергали «претензии» иудаизма на абсолютную истину с той же яростью, что и претензии первохристиан; но они же впоследствии возместили иудаизму «убытки», вдохновив его на создание гаонической мистики (как позднее, видимо, одарили создателя ислама мистической идеей «цепи пророков», а сам ислам вдохновили на создание суфизма и исмаилизма; но об этом — в следующей части нашей книга). Но, может, дело обстояло наоборот, — еврейская мистика предшествовала гностицизму? К этому следовало бы вернуться, но мы сейчас ограничимся тем, что передадим слово арбитру, который лично мне представляется наиболее глубоким из всех, — уже упоминавшемуся ранее Гансу Йонасу. В своем классическом произведении «Гнозис и дух позднеантичной эпохи» он набрасывает грандиозную картину того, как в недрах созданного Александром Македонским эллинистического мира постепенно и исподволь на протяжении нескольких столетий вызревал поразительный и уникальный сплав многочисленных восточных и западных религиозных и мистических учений и культов и как затем эта духовная магма, вырвавшись из ближневосточных недр, хлынула на Запад в грандиозном контрнаступлении, в котором Восток взял реванш за предшествующее — политическое отступление перед Западом. (Отметим, что под Западом Йонас подразумевал Грецию, а под Востоком — то, что мы и сегодня так называем.) Так вот, подыскивая слова для определения центрального ядра этого гигантского духовного процесса, наложившего неизгладимый отпечаток на всю последующую историю западной цивилизации, Йонас долго выбирает между различными возможностями — «временный триумф иудаизма», «победа иудеохристианства» и т. п., — пока не приходит к тому главному, что, на его взгляд, объединяло и пронизывало все эти разнородные составляющие. Это было, говорит он, «вторжение гностицизма». При таком подходе становится понятным, почему гностицизм обнаруживает такое глубокое сходство со столькими и столь разнородными учениями и доктринами древности, начиная с мистики иудаизма и платоновской философии и кончая отголосками буддизма. Становится понятным и то, почему гностицизм, как утверждает Йонас, оказался главной и сквозной идеей позднеантичной эпохи и почему сумел оказать столь мощное влияние на духовное развитие человечества, что это влияние ощущается и в наши дни, — ведь он объединял в себе множество различных влияний и тем самым, как сказали бы химики, имел множество «свободных валентностей», которые позволили ему объединяться с самыми разными мистическими идеями позднейших времен и оплодотворять их своим влиянием. Примерно так же (но в куда меньшем масштабе) вторгся (уже в нашу эпоху) в духовную жизнь России марксизм с его щупальцами свободно-валентных идей, только и ждущих, к кому бы присосаться — то ли к символизму, то ли к богоискательству, то ли к рабочему движению. О гностицизме можно рассказывать долго. На этом закончим наше повествование. >ЧАСТЬ 6 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА >ГЛАВА 1 А БЫЛА ЛИ ОНА ВООБЩЕ?
История насмешлива. Отодвигая события в прошлое, она делает их сомнительными (порой незаслуженно сомнительными) для потомков. При этом, будучи одинаково равнодушной ко всему в себе, она и в этом вопросе не знает исключений. «Я слышал сомнения в реальности Трои», — писал Байрон после посещения Гиссарлыкского холма. И предрекал, улыбаясь: «Со временем усомнятся и в Риме». Подлинность Древнего Рима пока еще несомненна, но реальность Троянской войны в последние столетия действительно стала — предметом бурных споров. Не то было раньше. «Для античности, — говорят Гиндин и Цымбурский, — Троянская война была несомненным фактом… О ней напоминали родословные, идущие от ее героев, названия основанных ими городов, гавани, где были стоянки их кораблей». Эти родословные и названия были известны всем. Великий Вергилий в своей поэме «Энеида» писал, что когда уцелевший троянец Эней в своих странствиях навстречу судьбе (ему было якобы предназначено основать Рим, который возродит троянскую славу) добрался до далекого Карфагена, что на другом от Трои конце Средиземного моря, и попытался поведать тамошней царице Дидоне, откуда он родом, оказалось, что Дидона и сама уже может рассказать ему историю осады и гибели Трои и ее героев. Как объясняет В. Топоров в своей книге «Эней — человек судьбы», Вергилию, писавшему в I веке до н. э., представлялось очевидным, что в Энеевы времена о падении Трои должен был знать каждый средиземноморец, коль скоро это было реальное событие, потрясшее весь средиземноморский мир. Свидетельств такой безусловной веры многих поколений (от Гомера к Вергилию и далее до средневековых) в историческую реальность Троянской войны несчетное множество; вот одно из них, возможно, самое яркое. В «Илиаде», рассказывая о главных героях Троянского похода, Гомер среди прочих повествует бб Аяксе — царе Локриды, что находилась в срединной Греции неподалеку от Дельф с их оракулом. Гомер называет этого Аякса «малым», чтобы отличить от другого, «большого», или «великого», Аякса Теламонида:
Помимо отличного метания копья, Аякс Локридский отличался, видимо, еще и необузданно диким нравом — после взятия Трои он ворвался в храм Афины, где пророчица Кассандра, ища спасения, прильнула к статуе богини, и, увидев несчастную девицу, воспылал к ней нечистым желанием; а поскольку ему никак не удавалось оторвать руки Кассандры от статуи, он схватил ее за волосы и потащил прочь вместе с каменным изваянием. Этим поступком, осквернившим алтарь Афины, Аякс Локридский вызвал понятную и вечную ненависть богини, и вот, как сообщают древнегреческие памятники, жители Локриды даже в IV веке до н. э., т. е. спустя тысячу лет (!) после описанных Гомером событий, были настолько убеждены в реальности этого давнего проступка своего давнего царя, что продолжали замаливать его вину перед Афиной и отвращать ее гнев, ежегодно отправляя двух своих девушек (из самых аристократических семей) в отстроенную к тому времени Трою, дабы они служили там хранительницами восстановленного храма оскорбленной богини. Правда, некоторые скептики издавна утверждали, что обвинение Аякса в попытке изнасиловать Кассандру было облыжным и его якобы придумал в каких-то своих целях хитроумный и коварный Одиссей. Но если даже локридцы поверили наговорам Одиссея, все равно, они и в этом случае, в конечном счете, поверили Гомеру. Нет, бесспорно, сомнения в исторической достоверности гомеровского рассказа не приходили тоща в голову почти никому — разве что Анаксагору, который, видите ли, требовал доказательств этой достоверности; но на то Анаксагор и был философ. Всем прочим людям, нефилософам, доказательства казались излишни, ибо, как писал древнегреческий историк V века до н. э. Фукидид, «в правдивости гомеровского рассказа не приходится сомневаться», поскольку за нее ручаются «великие поэты и всеобщая традиция» («поэты» здесь во множественном числе, потому что, кроме гомеровских, существовали и несколько менее пространных поэм о Троянской войне, совместно известных как «Эпический цикл» и дошедших до нас в записях VI века до н. э.). «Ручательство» это становилось тем более убедительным, что поэты и традиция взаимно удостоверяли подлинность своих свидетельств: например, «Эпический цикл» утверждал, что Афина наложила на Локриду тысячелетнее проклятие и, согласно традициям самих локридцев, им суждено было посылать своих девушек в. Трою тоже на протяжении тысячи лет, так что они покончили с этим тягостным обычаем лишь в 264 г. до н. э., тем самым заодно засвидетельствовав, что, согласно их традиции, падение Трои произошло в 1264 г. до н. э. Кстати говоря, хотя вера в реальность этого события не умалялась с веками, но сама его дата постепенно уходила в туман и уже в древности стала предметом ожесточенных споров. Так, великий древнегреческий историк Геродот (484–424 гг. до н. э.) путем сопоставления генеалогий царских семей, сохранившихся в различных греческих традициях, пришел к выводу, что поход на Трою состоялся в 1260 г. до н. э., чем, в сущности, научно подтвердил «традиционную» датировку. С другой стороны, двумя столетиями спустя географ и астроном Эратосфен (276–194 гг. до н. э.), использовав те же данные, что Геродот, но подойдя к ним с большей придирчивостью, заключил, что Троянская война началась на сто лет позже, в 1164 году до н. э. (Многие ученые до сих пор считают это наиболее авторитетной датировкой.) Самой древней из называвшихся дат Троянской войны был 1334 год до н. э., самой поздней — 1135-й, а вот некий безымянный резчик, живший как раз между Геродотом и Эратосфеном, в начале III века до н. э. высек на мраморном памятнике в Фаросеи такую (уже неизвестно откуда взятую) дату того же события: 5 июня 1200 года до н. э. — то есть с точностью не только до месяца, но даже до дня! Во всем этом важна, конечно, не сама дата и даже не то, что разные даты отличались друг от друга, — куда важнее поразительная готовность каждого автора назвать точную дату, ибо такая готовность, несомненно, проистекала из абсолютной веры в реальность описанных Гомером событий. Нам, современникам, трудно разделить эту наивную уверенность — прежде всего потому, что, как нам сегодня уже известно, догомеровская (а скорее всего, и гомеровская) Греция еще не знала письменности (а точнее, знала, но утратила, как выяснилось позже, причем еще в XII веке до н. э., задолго до времен Гомера); поэтому народные предания (то, что Фукидид называл «всеобщей традицией») никем и никак не могли быть записаны. Незаписанная же «народная память» — весьма ненадежный свидетель. Как писал знаменитый историк Иосиф Флавий, «хотя часто говорят, будто древние греки были первыми, кто стал заниматься прошлым на более или менее точный научный манер, на самом деле, очевидно, что так называемые варвары сохранили историю лучше, чем греки… Дело в том, что греки поздно усвоили алфавит, и он дался им с трудом… так что во всей греческой литературе нет сочинений, относительно которых существовала бы уверенность, что они древнее Гомера. Однако время Гомера было явно намного позже Троянской войны, и даже он оставил свои поэмы незаписанными…» Действительно, тот же Геродот считал, что Гомер жил за 400 лет до него, а это соответствует, как легко посчитать, IX веку до н. э., и хотя некоторые другие историки порой отодвигали время его жизни чуть ли не в XII век до н. э., т. е. делали его прямым современником воспетой им войны, большинство современных ученых склоняется скорее к точке зрения Геродота. Это большинство поддерживает и утверждение Иосифа Флавия о сравнительно позднем возникновении греческой письменности; правда, некоторые пылкие умы в прошлом выдвигали предположения, будто эта письменность была создана уже за столетие до гомеровских поэм или же, в крайнем случае, одновременно с ними (именно для их записывания), а то и самим Гомером (для той же цели), но сегодня это событие единодушно относят примерно к тому же моменту, что и первые общегреческие Олимпийские игры, а они состоялись в 776 г. до н. э. Это мнение достаточно обосновано: самые ранние из обнаруженных на сей день надписей, исполненных несомненно греческим алфавитом, датируются 770 годом до н. э. С другой стороны, сегодня существует и вполне надежное основание считать, что Троянская война, если она происходила, вряд ли могла произойти позже середины XI века до н. э., ибо во второй половине этого века, как свидетельствует археология, союз древнегреческих государств, возглавлявшийся Микенами, уже не существовал — он распался под натиском каких-то пришельцев с севера, а еще через несколько десятилетий рухнули и сами Микены. Стало быть, позже, скажем, 1150 года до н. э. возможность организации того коллективного, общегреческого похода под водительством Микен, какой описан в «Илиаде», стала весьма сомнительной. Таким образом, между Гомером и — описываемыми им событиями зияет временной разрыв протяженностью в 300–400 лет. И тут возникает первый из серии вопросов, в совокупности образующих загадку Троянской войны: могла ли устная традиция сохранить и перенести через такой провал достоверные воспоминания о столь давнем прошлом? Но этот вопрос тут же осложняется еще одним. Допустим все же, что устная традиция сумела сохранить верность далекому прошлому. Но вот незадача: исследования современных филологов убедительно показали, что гомеровские поэмы, которые были вершиной и завершением этого многовекового устного творчества, представляют собой не столько точную (пусть и гениальную) фиксацию «преданий старины глубокой», а скорее — весьма индивидуализированное художественное преображение этих фольклорных материалов. Но можно ли в таком случае говорить об их исторической достоверности? Можно ли говорить об исторической реальности неких событий на основании текста, хоть и рассказывающего об этих событиях, но созданного по законам поэтического творчества? Иными словами, насколько надежны свидетельства гомеровских поэм? Обратимся к Гомеру. >ГЛАВА 2 ГОМЕР И ЕГО ПОЭМЫ Что мы знаем о Гомере? Что он был автором двух пространных, изложенных гекзаметром поэм «Илиада» и «Одиссея», в которых повествуется о десятилетней войне греков (в этих поэмах они именуются более древним названием «ахейцы») против троянцев, жителей города Троя, что существовал когда-то на западном берегу малоазиатского (ныне Турецкого) полуострова. Однако современная историко-филологическая наука утверждает, что самым первым источником всех знаний и представлений об этой войне был не Гомер, а предшествовавшая ему древнегреческая народная традиция — эпические сказания, изустно передававшиеся сказителями-певцами («аэдами») из поколения в поколение задолго до Гомера. Сами эти сказания до нас не дошли, но, начиная с V века до н. э. (т. е. уже много позже Гомера) их тексты, сохранившиеся в неполном и разрозненном виде, были собраны различными греческими авторами — Аполлонием с Родоса, Аполлодором из Афин, Квинтом из Смирны, Арктиносом из Милета и другими — в виде нескольких коротких поэм, повествовавших об отдельных эпизодах Троянской войны, не фигурирующих в «Илиаде» и «Одиссее». Так, «Киприя» Арктиноса Милетского излагала предысторию этой войны; «Малая Илиада» Квинта Смирнского заполняла промежуток между «Илиадой» и «Одиссеей», рассказывая о дальнейших событиях осады Трои — от смерти Гектора и до взятия города (гибель Ахилла; смерть Париса; изготовление «Троянского коня»); во «Взятии Трои» того же Арктиноса рассказывалось о падении троянской крепости, ее разграблении и судьбах ее жителей — царя Приама, его жены Гекубы, дочери Кассандры, вдовы Гектора Андромахи и Елены Прекрасной; поэма «Возвращения» была посвящена истории возвращения греческих героев на родину и судьбам некоторых из них. Следует заметить, что, не будь этих поэм, мы бы не знали сегодня множества знаменитых и красочных деталей, которые ныне у всех на слуху, — ни рассказа о «суде Париса» и похищении им прекрасной Елены (с чего, собственно; и началась вся Троянская распря), ни истории смерти Ахилла, пораженного стрелою в пятку — единственное уязвимое место на его теле, ли многих других; ибо, как уже сказано, ни одной из этих историй нет ни в «Илиаде», ни в «Одиссее». Тем не менее, несмотря на эту неполноту, именно «Илиада» и «Одиссея» являются самым главным и самым авторитетным источником наших сведений о Троянской войне. Объясняется это, прежде всего тем, что эти поэмы уже в древности обрели-статус величайшего произведения греческой культуры. Древние греки считали их чем-то, далеко выходящим за чисто литературные рамки: они учили и воспитывали на них своих детей, почитали как непреложный кодекс нравственности и зачастую даже руководствовались ими в своей практической деятельности. Влияние этих поэм на европейскую культуру последующих веков тоже было огромно. По их образцу было создано величайшее произведение римской литературы — поэма Вергилия «Энеида»; позднее они вошли в литературный кодекс византийской империи, где стали предметом углубленного изучения и комментирования; а еще позже, проникнув из Византии в Италию, оказали глубокое влияние на культуру Ренессанса. В Новое время, обретя благодаря многочисленным переводам даже более широкую популярность, чем Данте или Шекспир, они стали одной из важнейших основ всего классического образования многих поколений европейцев. Не удивительно, что отношение к этим великим поэмам приобретало порой настолько благоговейный характер, что их подчас даже отказывались признавать творением отдельного, пусть и гениального, человека — один немецкий филолог XVIII века выдвинул в свое время фантастическое предположение, что обе они, и «Илиада» и «Одиссея», были созданы посредством спонтанного «творческого выдоха» всего древнегреческого народа как целого. Достоверно известно, однако, что сами древние греки упорно приписывали создание обеих поэм одному конкретному человеку — слепому певцу Гомеру — и даже придумали этому человеку развернутую биографию, согласно которой он родился на острове Хиос в Эгейском море, много странствовал по Малой Азии, Египту и самой Греции и оставил потомков — так называемых гомеридов, взявших на себя задачу сохранения и распространения его поэзии. Еще более детальную (и более фантастичную) биографию Гомера придумал Геродот, который приписал ему несколько поколений предков и великое множество путешествий. Из всего этого единственно достоверным является то, что в более поздние века на острове Хиос действительно существовала гильдия или «школа» поэтов, именовавших себя «гомеридами» и исполнявших преимущественно произведения Гомера, которого они считали своим земляком. Какую позицию в этих спорах занимает современная филологическая наука? Она считает достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал эпический поэт по имени Гомер и что именно он сыграл ведущую роль в окончательном формировании «Илиады» и «Одиссеи» (составные части которых, возможно, существовали уже до него в виде устных поэм). Почему это «достаточно вероятно», станет ясно чуть далее. Пока же заметим вслед за специалистами, что, поскольку некоторые языковые приметы гомеровских поэм близки к особенностям ионийского диалекта древнегреческого языка, который был в ходу у жителей островов восточной части Эгейского моря, то и предание о хиосском происхождении Гомера могло иметь под собой реальную основу, поскольку Хиос относится к Ионическим островам. Многие специфические детали «Илиады» свидетельствуют, что ее автор был хорошо знаком с географическими и климатическими особенностями Хиоса, Родоса и других островов, а также близкого к ним малоазийского побережья. Он, например, упоминает о птицах, гнездящихся в устье реки у малоазийского города Эфес, о виде на горы, открывающемся с Троянской равнины, о северо-западных ветрах, преобладающих на Хиосе, и т. п. Таких восточноэгейских примет много меньше в «Одиссее», что, в частности, побудило Аристотеля высказать предположение, что эта поэма была написана Гомером в глубокой старости, а других исследователей — даже утверждать, будто она вообще приналежит иному автору (к тому же она совершенно отлична по жанру). Тем не менее современная филология и здесь пришла к выводу, что, при всех сомнениях, «Одиссея» была как минимум вдохновлена Гомером, а то и создана им самим. Однако время создания обеих поэм представляется сегодня несколько иным, чем в древности: определенные детали текста побуждают отнести «Илиаду» к концу IX, «Одиссею» — скорее даже к середине VIII века до н. э. А это означает, что они существенно моложе древних поэм «Эпического цикла». Тем не менее «Илиаду» и «Одиссею» нельзя противопоставлять этим поэмам. Как показал в 30-е годы нашего века американский филолог Малькольм Пэрри, поэтика «Илиады» и «Одиссеи» — это все же поэтика устного эпического творчества, и в этом смысле их создатель был прямым продолжателем традиции пред-. шествовавших ему эпических сказителей. Не случайно Гомер и сам применяет для определения поэта тот же термин «аэд», который в древности характеризовал этих певцов-сказителей. Но он. был весьма особым их продолжателем. В своих поэмах он далеко превзошел всех безвестных предшественников. Как показало изучение еще сохранившихся (на Балканском полуострове и в других странах) традиций устного эпического творчества, для поэтов-певцов и сказителей характерно создание сравнительно небольших «песен» (т. е. коротких поэм), каждая из которых содержит часто всего один законченный эпизод и исполняется (при подходящем случае и в подходящей обстановке) в один прием. Это опять же подтверждает сам Гомер, пересказывая в «Одиссее» две такие. законченные песни: одну — о любовном романе между богом Аресом и богиней Афродитой, другую — о придуманном Одиссеем «Троянском коне», — каждая из которых занимает примерно по 100 строк поэмы. Примеры таких же коротких поэм сохранились и в «Эпическом цикле». Так вот, по утверждению специалистов-филологов, главное и величайшее новаторство Гомера состояло в резком переходе от этих коротких песен к качественно новому поэтическому жанру — к монументальной эпической поэме, включающей десятки песен и многие тысячи строк (в одной «Илиаде» их более 16 тысяч). Это новаторство Гомера можно уподобить разве что столь же революционному прорыву последующих времен — изобретению романа как совершенно новой формы повествования. Громадность материала, который становился при этом доступен, широта возникавшей отсюда картины событий, их историческая и психологическая глубина не могли не произвести огромного впечатления на слушателей, привыкших доселе исключительно к коротким рассказам. Можно думать, что слушатели Гомера были столь же потрясены, когда этот неведомый им прежде слепой певец из вечера в вечер несколько дней подряд исполнял перед ними свое монументальное творение. Сам размах этого исполнения предполагал совершенно исключительные творческие качества нового певца, и не удивительно, что имя Гомера с такой силой врезалось в память народа. Не удивительно также, что устная эпическая традиция, достигнув в поэмах Гомера своего высшего, развития, достигла в них и своего естественного завершения: после Гомера петь «по-старому» стало практически невозможным. Произносившийся самим Гомером текст, скорее всего, был нестабильным и несколько менялся от выступления к выступлению. Это не удивительно, ведь, греки в те времена еще не знали письменности, ее широкое распространение началось, мы говорили об этом, лишь во второй половине VIII века до н. э. Но так как слушатели Гомера не обладали его памятью и способностями и в то же время хотели знать его «божественные» (как они их называли) поэмы от слова до слова, то можно думать, что уже с началом распространения греческой письменности начались попытки записи этих поЗм и постепенного приведения этих записей к одному стабильному («каноническому») варианту. Согласно некоторым древнегреческим источникам, уже в середине VI века до н. э., при афинском правителе-тиране Писистрате, «Илиада» зачитывалась по его приказу перед толпами, собиравшимися на площади около построенного тираном величественного храма богини Афины. Поскольку она именно «зачитывалась», то была, надо думать, уже записана, и итальянский философ Нового времени Джамбатиста Вико (1668–1744) даже предположил, что именно по приказу Писистрата поэмы Гомера и были записаны в первый раз и притом в окончательном, «канонизированном» виде, дабы предотвратить дальнейшую порчу этого «национального достояния» при устной передаче. Нам никогда не удастся узнать, так это или не так, потому что первый дошедший до нас (имеющийся в распоряжении ученых) список гомеровских поэм восходит всего лишь к X веку нашей эры — это копия византийского издания 860 года (оригинал его погиб), тщательно отредактированного и снабженного всеми накопившимися за столетия комментариями; копия эта хранится ныне в соборе св. Марка в Венеции и именуется «Венетус А». Каков же этот дошедший до нас текст? О чем он, собственно, рассказывает? Как выглядит в его передаче интересующая нас Троянская война? Оказывается, ее начало лежит за пределами этого текста. Только из поэм «Эпического цикла» (в передаче более поздних авторов) можно узнать, что война началась из-за спора трех богинь — Афины, Афродиты и Геры — за обладание яблоком с надписью «прекраснейшей», которое подбросила им богиня раздора Эрида (Эрис). Зевс велел отвести спорящих богинь в Троаду, к тамошнему принцу Парису-Александру, сыну троянского царя Приама, чтобы тот их рассудил, и Парис отдал яблоко Афродите, обещавшей ему любовь Елены Прекрасной, жены одного из греческих царей Менелая (этим «судом Париса» объясняется, кстати, почему в ходе последующей войны Афродита помогает троянцам, а Гера и Афина — грекам). Далее выясняется, что Парис, вдохновленный обещанием Афродиты, отправился в Спарту, во владения Менелая, и, пользуясь его отсутствием, соблазнил и похитил Елену, а затем привез ее в Трою, где его сестра, пророчица Кассандра, тотчас возвестила, что поступок Париса обрекает город на войну и гибель; Кассандре, однако, никто не поверил, ибо когда-то бог Аполлон, оскорбленный ее отказом ему отдаться, наплевал ей в уста — как раз для того, чтобы никто ей не верил. Однако пророчество Кассандры, увы, оказалось вещим. Опозоренный Менелай обратился к своему могущественному брату — микенскому царю Агамемнону — с просьбой помочь ему отвоевать Елену и отомстить, за унижение. Агамемнон, в свою очередь, обратился к царям других греческих городов, призывая их объединиться для похода на Трою, и его призыв нашел благожелательный отклик. В итоге в составе греческого воинства оказались все великие герои тогдашней Греции — прежде всего, разумеется, Ахилл, но также и Диомед, Филоктет, Одиссей, оба Аякса, «большой» и «малый», и многие-многие другие. (Их поименование вместе с перечнем приведенных каждым из них боевых кораблей и воинов составляет содержание т. н. «списка кораблей», помещенного Гомером в конце второй песни «Илиады». Вспомним у Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины…»). Главой похода был избран Агамемнон — как самый могущественный из всех. Начало похода обернулось для греков неудачно: Аполлон послал им некое знамение, которое прорицатели истолковали как намек, что война будет продолжаться 10 лет. Затем греческие войска по ошибке высадились много южнее Трои, потерпели позорное поражение в битве с тамошними царями, а на обратном пути вдобавок еще попали в бурю и с трудом добрались домой. Все это оттянуло подлинное начало войны (по одним источникам — на несколько месяцев, по другим — на добрых 9 лет), но, как бы то ни было, герои снова собрались и двинулись на Трою, на сей раз, предварительно принеся в жертву — чтобы задобрить богов — дочь Агамемнона Ифигению; этот эпизод позднее стал сюжетом многих трагедий. Высадившись на Троянской равнине, греки долго стояли у неприступных стен Трои, то и дело сходясь с троянцами в рукопашных схватках, где удача попеременно склонялась то на одну, то на другую сторону. Но вот в начале десятого года осады события обрели драматический оборот. Произошла бурная ссора между Агамемноном и Ахиллом: оскорбленный тем, что микенский царь отнял у него пленницу Брисеиду, гордый Ахилл, этот главный герой похода, отказался участвовать в сражениях и укрылся в своем шатре. Узнав об этом, троянцы вышли из города, навязали грекам бой и стали теснить их к гавани, где стояли на якорях греческие корабли. Греки в панике обратились за помощью к Ахиллу, но тот снова отказался выйти в поле, хотя и согласился послать туда своего побратима Патрокла. Но когда главный герой троянцев Гектор (еще один сын; царя Приама) убил Патрокла, обуянный жаждой мести Ахилл бросился наконец в бой и, в свою очередь, убил Гектора. Он устроил торжественное сожжение трупа Патрокла и намеревался уже предать позорному погребению останки Гектора, но прибывший в его шатер престарелый царь Приам воззвал к его состраданию и к чувству воинской чести и в конце концов буквально вымолил у него труп своего сына. «Илиада» начинается со слов: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» — то есть с эпизода ссоры Ахилла с Агамемноном, а кончается сценой сожжения останков Гектора в стенах Трои. Иными словами, ее действие занимает несколько считанных дней. О завершении войны (как и о ее начале), а также о дальнейших судьбах ее героев мы знаем все из тех же внегомеровских источников (в переложении главным образом Аполлодора и Аполлония), которые рассказывают о гибели Ахилла, сраженного стрелой Париса, о гибели самого Париса, о взятии Трои с помощью Одиссеева «Троянского коня» и расправе с уцелевшими сыновьями и дочерьми Приама (Кассандра становится наложницей Агамемнона, Андромаха — Неоптолема, Поликсену приносят в жертву на могиле Ахилла). Из тех же источников (а не только из «Одиссеи») становится известно, что во время возвращения героев из-под Трои многие из них погибли в буре, насланной богами в отместку за насилие, совершенное Аяксом Локридским над Кассандрой, — Менелай и Одиссей были унесены ветрами в дальние страны, где многие годы странствовали в поисках пути на родину; Агамемнон по возвращении в Микены погиб от рук собственной жены и ее любовника. Так что в целом Троянскому походу суждено было стать, как оказалось, последним великим совместным деянием древних греков и как бы ознаменовать собой завершение их древнейшей «героической эпохи»{8}. Наш пересказ может породить впечатление, что «Илиада» — это, в сущности, не столько рассказ о Троянской войне как таковой, сколько рассказ об одном ее небольшом эпизоде — о «гневе Ахилла», о том, как обиженный Ахилл сначала укрылся в своем шатре, не желая сражаться под началом Агамемнона, а потом силою обстоятельств был как бы «вытолкнут» снова на сцену боя, в центр событий. Это так и не так. С одной стороны, в центре «Илиады» действительно находится некий интересный, яркий и по-своему увлекательный эпизод, который в прошлом, до Гомера, вполне мог бы стать (а может быть, и был) сюжетом отдельной небольшой эпической песни. С другой стороны, по мере знакомства с тем, как излагает Гомер этот эпизод, становится все более ясно, что у него он служит скорее рамкой повествования, неким организующим стержнем, позволяющим исподволь и как бы вполне естественно вплести в рассказ события многих предшествующих лет войны, другие ее яркие эпизоды, впечатляющие характеристики ее главных героев и их взаимоотношений, а попутно и многое, многое другое — о людях, о. городах, о странах, о плаваниях, о богах, о пирах, о битвах и так далее, и так далее, иными словами — сделать из незамысловатого эпизода то художественное целое, что, собственно, и составляет литературу. «Гнев Ахилла», таким образом, оказывается мощным художественным средством, дающим автору возможность воссоздать гигантскую эпопею микенско-троянских времен. Типичная литература, этакая «Война и мир» трехтысячелетней давности или, если переиначить Белинского, «энциклопедия всей героической эпохи». И тут, после долгого отступления, мы возвращаемся наконец к обещанному разъяснению, почему современные специалисты считают достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал некий конкретный человек по имени Гомер, который был автором этой гениальной эпопеи. Специалисты-филологи говорят, что эта эпопея никак не могла быть продуктом некоего «коллективного устного творчества» — уже хотя бы потому, что ее продуманная «выстроенность», ее сюжетная и композиционная «организованность», ее «литературность», наконец, — все это неоспоримо свидетельствует об индивидуальном замысле. Почерк индивидуального гения безошибочно виден в том, с какой поразительной композиционной стройностью, как необыкновенно гармонично организован в «Илиаде» весь ее огромный материал, с какой продуманностью он расположен относительно объединяющей его сквозной сюжетной оси, как изобретательно поддерживается при этом его драматичная напряженность с помощью искусно вплетенных в сюжет многочисленных «отступлений в прошлое», играющих роль своего рода «сюжетных задержек», которые последовательно нагнетают у слушателей нетерпеливое ожидание триумфальной развязки (этот древний прием отлично знаком всем зрителям современных кинотриллеров и читателям современных детективов). В конце концов, ожидания, как мы уже знаем, разрешаются благополучно: Ахилл появляется из своего шатра, и «Илиада», как и положено триллеру, завершается своего рода мстительным хэппи-эндом — поражением троянцев и смертью Гектора. Патриотические слушатели Гомера, несомненно, жаждали этого возмездия. Может быть, они даже рукоплескали ему. Тем более что рассказ о последующей гибели самого Ахилла был расчетливо, иначе не скажешь, вынесен автором за скобки всей этой симфонической «романной» структуры. Однако, строго говоря, поэма не кончается на мстительной ноте. Подлинный конец «Илиады» — это плач Приама над убитым Гектором, плач, который смягчает даже сурового Ахилла, плач, в котором горькая и трагическая изнанка войны совсем по-иному высвечивает ее героическую красоту, незадолго до того воспетую тем же Гомером. Так что, в конечном счете, «Илиада» все-таки не завершается стандартным хэппи-эндом и не оборачивается банальным триллером. Пафос гомеровской поэмы куда шире и грандиозней, говорят специалисты. Созданная спустя столетия после конца «героической эпохи», она не просто отображала ее трагический закат: противопоставив его описанной перед тем с той же художественной силой картине величественного расцвета ахейской державы, объединенной под руководством могущественных Микен, она одновременно должна была заронить в душу слушателей тоску по этому былому величию, а заодно и по былому и утраченному единству. Может быть, высокий авторитет Гомера у потомков как раз и был вызван тем, что его рассказ позволял им предчувствовать и предвидеть новое единство вслед за «темными веками», отделявшими героическую эпоху от уже начинавшегося «ренессанса»? Таковы, говоря вкратце, основные выводы современной науки касательно личности Гомера. Однако, ограничившись этими выводами, мы, пожалуй, не приблизимся к ответу на вопрос, в какой степени можно доверять свидетельствам Гомера. Напротив, кое у кого сомнения в достоверности гомеровского рассказа, возможно, даже усилятся. В самом деле, скажет иной скептик, если даже современные специалисты подтверждают, что этот рассказ был сочинен, т. е. представляет собой художественный вымысел некоего автора, и вдобавок был подчинен не только художественным, но отчасти даже идеологически-патриотическим задачам, то можно ли ожидать, что такой рассказ будет исторически правдивым? А может быть, это всего лишь приятная для греческого слуха легенда? Знаем же мы, к примеру, такой, тоже авторский, поэтический роман — знаменитую «Песнь о Роланде», в которой гибель обыкновенного франкского рыцаря, павшего в засаде, которую устроили ограбленные им баски, преображена в героический национальный эпос о «великой битве» христиан… с маврами. Сомнения эти вполне естественны. Чтобы развеять их, нужно выяснить, как отвечает современная филология на вопрос о соотношении преображающего вымысла Гомера с реальной правдой греческой истории. Обратимся к филологии. >ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМА ГОМЕРА Вопрос о соотношении гомеровских поэм с исторической реальностью находится в центре так называемой «проблемы Гомера», споры вокруг которой продолжаются в филологической науке уже добрых полтораста лет. Мы уже говорили в предыдущей главе, что, по одной из версий, первый полный письменный текст этих поэм появился только во времена афинского тирана Писистрата (560–529 гг. до н. э.). Эта «Писистратова версия», выдвинутая итальянским философом XVIII века Джамбатиста Вико, была у него связана с весьма решительным утверждением, будто никакого Гомера на самом деле не было, а прозвище это (одни толкуют его как «слепой», другие — как «заложник») в действительности означало весь коллектив «аэдов», сказителей древних преданий, устно передававших разрозненные части будущей «Илиады» вплоть до писистратовых времен, когда она только и обрела благодаря записи вид единой поэмы. Хотя против этой гипотезы выступали уже многие современники Вико (Гете, например, Даже написал целый трактат, доказывая принадлежность «Илиады» одному автору), она возымела большое влияние, и первые серьезные филологические исследования, посвященные «проблеме Гомера», ставили своей главной целью разъять гомеровский текст на более мелкие куски, якобы принадлежащие различным более ранним устным сказаниям. Такой подход, рассказывают Л. Гиндин и В. Цымбурский в упоминавшемся мною (во вступлении) филолого-лингвистическом исследовании «Гомер и история Восточного Средиземноморья», основывался на господствовавшем поначалу в филологии XX века априорном представлении об устном народном эпосе как о совокупности «окаменевших» текстов, которые после своего создания передавались неизменными от певца к певцу и могли лишь «состыковываться» в готовом виде в более крупные поэмы. Считалось также, что сюжеты этих малых «первичных» текстов должны были быть крайне простыми, а поскольку Гомер начинает «Илиаду» с обещания рассказать о «гневе Ахилла» и затем то и дело нарушает это обещание многочисленными сюжетными отступлениями — в сущности, перебивает сюжет другими короткими рассказами, — такое построение казалось как раз подтверждением того, что «Илиада» является механической смесью «простых» первичных текстов. Был, дескать, в глубокой древности простенький рассказ об Ахилле и Агамемноне, построенный на традиционной формуле «обида — примирение», характерной для многих эпических сюжетов, и к этому рассказу постепенно присоединялись другие, побочные. Эта теория продержалась до 20-30-х годов нашего века. Затем, однако, в результате углубленного изучения эпических традиций, сохранившихся у некоторых балканских и азиатских народов, было выявлено, что от певца к певцу передаются не столько готовые тексты, сколько, скорее, «формульные конструкции» — набор традиционных сюжетов, канонизированных образов и ситуаций, словесно-ритмических формул и тому подобных «готовых наборов», с помощью которых каждый сказитель создает всякий раз заново рассказываемую им историю. Когда эта закономерность была проверена на материале поэм Гомера, оказалось, что и он самым широчайшим образом пользовался таким приемом. Один из исследователей подсчитал, что в некоторых частях его поэм — например, в зачинах и окончаниях речей героев или в характеристиках действующих лиц, — «формулы», от простейших до самых сложных, занимают около 90 процентов текста! Так, уже в первой песне «Илиады» предводитель. Троянского похода, микенский царь Агамемнон, именуется то «пространно-властительным», то «могучим», то «гордым могуществом», то «повелителем мужей»; а пройдя по всем 24 песням поэмы, можно обнаружить, что буквально для каждого из важнейших ее героев заготовлен набор из десятка и более таких характеристик, чередующихся в самом разнообразном порядке. Как ни странно, именно эта «формульность» гомеровской поэтики позволила М. Пэрри и А. Лорду выдвинуть утверждение, что Гомер был «индивидуальным автором внутри коллективной традиции». Это утверждение может показаться противоречивым, однако в действительности оно вполне логично. В самом деле, в том смысле, что некое эпическое сказание, каждый раз импровизируется данным певцом заново, оно действительно является его индивидуальным творчеством; но в том плане, что певец всякий раз использует общий набор элементов, присущий данной культуре и знакомый ее носителям, его произведение, несомненно, принадлежит к коллективному творчеству. Иными словами, Гомер, по мнению Лорда и Пэрри, был гениальным реализатором коллективного эпического канона. Такой точке зрения противостоял В. Шадевальдт, который в конце 30-х годов предложил изучать каждый эпизод. «Илиады» с точки зрения его функций в составе поэмы как целого и показал, используя этот подход, что гомеровская «Илиада» отличается от обычного эпоса наличием строго организованного единства. Ни один из ее эпизодов нельзя изъять, не нарушив общей связности поэмы. Композиция «Илиады» оказалась продуманной и структурно, и эстетически, а это возможно только в том случае, если текст всецело является авторским, то есть ближе к тексту, скажем, Вергилия, чем к песням неграмотных устных сказителей; это не просто реализация эпического канона, а творческое переосмысление его. Однако ведь и авторский текст может быть совершенно различным: грубо говоря, одни авторы создают близкие к подлинной истории романы-хроники, другие расшивают по исторической канве самые фантастические узоры. Что же создавал в этом смысле Гомер? Для суждения о соответствии гомеровских поэм исторической реальности войны ответ на этот вопрос имеет решающее значение. Здесь тоже имели место (и частично до сих пор продолжаются) ожесточенные споры: одни ученые — вроде Д. Пэйджа («История и «Илиада» Гомера», 1959) или Майкла Вуда («В поисках Троянской войны», 1986) — увлеченно утверждали, что «Илиаду» следует считать весьма или даже вполне надежным историческим источником, находя доказательства этого в данных современной археологии и лингвистики; другие, как влиятельный Майкл Финли («Троянская война», 1964), выражали изрядный скепсис в отношении историзма Гомера, находя в его творчестве многие черты сказки и мифа (достаточно вспомнить, что боги играют в «Илиаде» почти такую же роль, что земные герои, да и многие из этих героев описываются как дети богов). Но большинство филологов-гомероведов занимает в этом вопросе срединную позицию, которая совмещает оба указанных взгляда. С одной стороны, говорят эти филологи, эпос, в том числе и гомеровский, бесспорно содержит много мифических и сказочных элементов, поскольку он вырастает, ведет свое начало из мифа и сказки. Тем не менее эпос все-таки отличен от мифа. Как объяснял, например, замечательный российский исследователь мифопоэтики Е. Мелетинский, миф рассказывает о временах «создания» мира и всех его существующих форм, тогда как эпос занимается прежде всего «ключевыми», «героическими» периодами народной истории — вспомним былины о Владимире Красное Солнышко, героизирующие историю Киевской Руси, или, скажем, «Песню о Нибелунгах», отражающую становление раннегерманского общества в том же духе героических сказаний. Во всех этих классических памятниках мировой литературы прошлое народа воплощается по одному и тому же «эпическому канону» — в героических образах и великих деяниях. Все подобные произведения, как правило, монументальны по размаху, и все они, как показывают исследования, представляют собой заключительную стадию развития эпоса — стадию перехода к индивидуальному творчеству. Таким же было, как мы уже знаем, и творчество Гомера. Что же можно сказать об историзме такого эпоса? Этот историзм представляется несомненным (ведь и древний Киев с князем Владимиром, и раннегерманское племенное общество, и другие коллективные герои национальных эпосов различных народов существовали вполне реально), но он весьма специфичен. Эту специфичность блестяще вскрывает характеристика, предложенная крупнейшим специалистом по древним религиям Мирчей Элиаде: «Память об исторических событиях и о подлинных персонажах меняется по истечении двух-трех столетий таким образом, чтобы их можно было подвести под шаблон архаического способа мышления, неспособного к восприятию индивидуального и удерживающего в памяти лишь образцовое, то. есть сводящего события к категориям, а личности — к архетипам». Иными словами, в эпической поэзии появление, былинных, сказочных, мифологических черт попросту неизбежно, но это нисколько не противоречит ее сущностной историчности, поскольку, с другой стороны, в ней непременно должны содержаться и некоторые подлинные, фактические приметы былой истории, которые устный эпос не мог не увлечь с собой в своем развитии, как те зерна, вокруг которых только и могли кристаллизоваться его «архетипы». Эти «зерна» невозможно извлечь средствами одного лишь филологического анализа тут требуется помощь археологии и лингвистики. Мы еще обратимся к показаниям этих наук по вопросу о Троянской войне, здесь же ограничимся лишь несколькими частными примерами, подтверждающими наличие несомненных отголосков исторической реальности в эпических поэмах Гомера. Так, средства современного лингвистического анализа, основывающегося на том, что известно сегодня о диалектах Древней Греции, позволили обнаружить в гомеровском тексте прямые заимствования из языка, на котором говорили за полтысячи лет до Гомера, в древних Микенах. Немецкий исследователь Рейх заметил, что часто встречающаяся в «Илиаде» поэтическая «формула», которую можно перевести как «сила Гераклова», не укладывается в размер гекзаметра, которым написана поэма, но если написать имя Геракла так, как оно, судя по лингвистическим данным, произносилось в Древних Микенах, это противоречие немедленно исчезает. Можно думать поэтому, что данная «формула» сложилась еще в микенскую эпоху и дошла до Гомера неизменной, несмотря на изменившееся произношение. Другое яркое свидетельство в пользу исторической достоверности «Илиады» приводит И. Вуд в своей книге «В поисках троянской войны». Речь идет о так называемом «списке кораблей» во 2-й песне «Илиады». Этот список представляет собой в действительности перечень 164 греческих городов, которые послали свои корабли с воинами для участия в общем походе на Трою. Его отличие от общего стиля «Илиады», неуместность в той части текста, где он находится, и определенные расхождения с остальным текстом поэмы настолько бросаются в глаза специалистам-языковедам, что некоторые исследователи уже давно заподозрили здесь инородную вставку, а Д. Пэйдж даже выдвинул увлекательную гипотезу, что это — подлинный документ времен Микен, своего рода воинская диспозиция, отражающая расположение участников похода во время сражения. Действительно, такие длинные, однообразные списки имен, названий, предметов и т. п. были весьма характерны для древности, для периода возникновения первых, еще пиктографических (т. е. рисуночных) письменностей (полагают, что эти письменности и возникли-то из-за необходимости составлять такие списки). Но в «списке кораблей» есть и другая любопытная деталь, глубокая историчность которой выявилась лишь в наше время благодаря новейшим данным археологии. Здесь упоминаются некоторые подвластные Микенам города, многие из которых во времена Гомера уже не существовали, превратившись в руины, — например, «ветреный Эниспе» или «песчаный Пилос». Как мог Гомер знать о самом существовании этих городов, не говоря уже об этих их особенностях? А между тем раскопки Шлимана и других археологов подтвердили все эти детали. Об историзме Гомера столь же убедительно свидетельствуют и его характеристики Трои. Если бы эпос не содержал крупиц исторической реальности, Гомер никак не мог бы узнать о слабости троянских стен в одном определенном их месте — ведь эти стены давно были погребены под вековыми отложениями. Между тем раскопки Дорпфельда показали наличие такой «слабины» именно в том месте, о котором говорит «Илиада»! Правдивыми оказались и гомеровские описания военного снаряжения, упоминаемые в описании сражений под стенами Трои. Некоторые нестандартные детали этих описаний, вызывавшие недоверие историков, — например, шлем Гектора, украшенный полоской «медвежьих зубов», или «подобный башне» щит большого Аякса, — были впоследствии найдены на изображениях микенского времени, обнаруженных в ходе раскопок Шлимана, Эванса и др. Наличие и обилие всех этих реальных свидетельств далекого прошлого вынудило даже такого убежденного скептика, как М. Финли, признать, что «Илиада» во многом верно воссоздает картину жизни Древней Греции времен расцвета Микен и Трои. Подытоживая, можно сказать, что историко-филологический анализ гомеровских поэм, проведенный учеными XX века, несомненно, приблизил науку к решению загадки Троянской войны. Он показал, что «Илиада» правдиво отражает определенные исторические реалии далекого прошлого, а потому и описываемую в «Илиаде» Троянскую войну тоже может считать более или менее правдивым отражением исторической реальности. Требовать более решительного утверждения попросту нельзя. Филологический анализ не может доказать, что такая война действительно имела место. Как мы уже видели, славные войны и героические походы — одна из обязательных примет любого эпоса («категория архаического сознания», по определению Мирча Элиаде): такое сознание всегда мыслит прошлое в категориях славных войн и великих походов, независимо от того, происходили они в действительности и были ли они славными и великими. Поэтому реальность отдельных деталей — условие, хотя и необходимое, но еще недостаточное для убедительного вывода о том, что они некогда воевали друг с другом. Филологический анализ подводит к выводу о правдоподобии такой войны, но не дает и не может дать однозначных доказательств ее исторической реальности. Такие доказательства могут скрываться только в развалинах древних городов или в текстах древних рукописей. Обратимся поэтому к этим свидетелям истории — к памятникам и документам. >ГЛАВА 4 ТРОЯ И МИКЕНЫ Историко-филологический «суд над Гомером» не помог нам вынести однозначный вердикт касательно исторической подлинности или вымышленности описанной им в «Илиаде» Троянской войны. Реальность этого события может быть подтверждена или опровергнута только археологическими и лингвистическими изысканиями. Но любой археолог, который и впрямь вознамерился бы проверить правдивость гомеровского рассказа, тотчас оказался бы перед трудностью, которую выразительно охарактеризовал английский историк и писатель Майкл Вуд в своей книге «Поиски Троянской войны»: «В определенном смысле проблема историчности Троянской войны не очень изменилась со времен Фукидида, — пишет Вуд. — Гомер и мифы рассказывают нам некую историю; называемые ими места все еще существуют: некоторые из них демонстрируют явные признаки былой могущественности; другие столь же явно свидетельствуют о своей полной незначительности. Если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, как считал Фукидид, то как это доказать? Если вдуматься, Гомер рассказывает историю, в которую на первый взгляд, зная школьную историю Греции, действительно трудно поверить. Он утверждает, будто в XIV–XIII веках до н. э., т. е. чуть ли не за тысячу лет до той «классической эпохи», которую мы, собственно, и привыкли считать «Древней Грецией», здесь уже существовала могущественная цивилизация, охватывавшая почти всю территорию этой страны, включавшая в себя разбросанные по ней многочисленные города-царства во главе с Микенами и способная одновременно выставить в поход сотни боевых кораблей и тысячи воинов, как описывается в «Илиаде». В это трудно поверить еще и потому, что упоминаемые Гомером центры этой цивилизации: те же «богатые золотом» Микены, «крепкостенный Тиринф», «пыльный Πилос», «обильный стадами Орхоменос» и другие — уже в Гомеровы времена представляли собой крохотные, нищие городки, а то и просто груды развалин, да и вся греческая земля была не более чем полупустынным, нищим, безрадостным и необжитым пространством, где лишь предстояло спустя столетия подняться городам и крепостям, дворцам и храмам классической эпохи. Разумеется, Месопотамия или, скажем, Палестина тоже выглядели, еще и в XIX веке, пустынными, нищими и безрадостными, хотя, как мы знаем, за тысячи лет до того здесь действительно сменяли одна другую великие культуры. Но о тех культурах хотя бы свидетельствовали письменные памятники далекого славного прошлого, а единственным «доказательством» существования гомеровской «героической эпохи» был только рассказ самого Гомера да мифы и легенды весьма сказочного, скажем мягко, характера». Отыскать письменные памятники гомеровской «микенской цивилизации», изображенной в «Илиаде», нечего было и думать — еще и в начале XX века считалось, что письменность в Греции появилась не раньше, а то и позже Гомера, в VIII веке до н. э., то есть спустя добрых четыре-пять столетий после пресловутой Троянской войны. Стало быть, археолог, ищущий следы этой войны, мог уповать лишь на раскопки в тех местах, которые Гомер упоминал в связи с походом на Трою, — прежде всего, понятно, на раскопки самой «Приамовой» Трои и «Агамемноновых» Микен, но также, если повезет, — Орхоменоса, Тиринфа, Пилоса и многих других, что перечислены в пространном «списке кораблей» во второй главе «Илиады». Поскольку почти все эти города, как уже сказано, в виде развалин сохранились до нашего времени, обнаружить их местоположение не составляло особого труда. Вот как выглядел по состоянию на вторую половину XIX века примерный инвентарный список этого «гомеровского наследия». Открывала список, разумеется, Троя. Со времен Гомера ее приблизительное местоположение было известно всегда. Практически не было такой эпохи, когда бы современники не могли уверенно указать, где находится этот знаменитый город (что, кстати, в немалой степени подкрепляло их веру в правдивость гомеровского рассказа). С гомеровских времен и вплоть до эпохи Александра Македонского, то есть на протяжении пяти с лишним столетий, в Малой Азии, вблизи пролива Дарданеллы, существовал город, именовавшийся «Эллинской Троей», или «Новым Илионом», с величественным храмом Афины и протяженными стенами, которые, по преданию, включали в себя и останки стен Древней Трои. Чуть позже, примерно в 300 году до н. э., полководец Александра Лизимах построил южнее этой крепости новый город, назвав его Александрией Троянской; этот город (во всяком случае, его развалины) просуществовал до римских времен. Через шесть столетий после Лизимаха римский император Константин (тот, что сделал христианство официальной религией империи) построил на месте бывшей «Эллинской Трои» еще один город, который впоследствии получил название «Византийской Трои». Эта очередная Троя, в свою очередь, просуществовала несколько столетий. Ее развалины видны были даже тысячу с лишним лет спустя, во времена султана Бехмета (взявшего Константинополь). За эти тысячелетия (а от Гомера до Бехмета прошло как-никак две тысячи триста лет) Троя благодаря гомеровским поэмам превратилась в место настоящего паломничества — не было, кажется, такой исторически важной персоны, от Александра Македонского в 334 году до н. э. и до лорда Байрона в 1810 году н. э., кто не почел бы своим долгом лично приобщиться к древней славе этого места и произнести какие-нибудь подобающие ситуации слова. Александр Македонский, как утверждали его верноподданные биографы, нашел здесь (под алтарем храма Афины) меч «самого Ахилла», с которым отправился затем на завоевание Азии; Юлий Цезарь поклялся восстановить Трою и сделать ее столицей Римской империи; Константин Великий повторил эту клятву (что не помешало ему впоследствии перенести свою столицу на берега Босфора, в стратегически более важный Константинополь); и еще спустя тысячу с лишним лет упомянутый выше турецкий султан Бехмет, поставив ногу на указанную ему переводчиками «могилу Аякса», провозгласил, что, взяв Константинополь, он-де всего лишь отомстил грекам за разрушение Трои! Словом, Троя — как город, как населенное место — была несомненной исторической реальностью — уже с времен «классической» Греции и вплоть до недавней современности. Печальный факт, однако, состоял в том, что уже к началу XVII века развалины последней по счету Трои тоже были полностью погребены землей. Как писал тогдашний английский автор, «даже руины были уничтожены». Одной из причин тому было беспощадное время, другой — усердно помогавшие ему небольшие, но частые землетрясения, по сей день весьма характерные для этих малоазийских мест. В результате ТОЧНОЕ знание местонахождения «Приамовой Трои» было утрачено. Ее европейским искателям (а любителей искать ее всегда хватало) приходилось руководствоваться разве что указаниями «Илиады» и некоторых греческих мифров. Мифы эти, при всей их сказочности, содержали важные детали. Так, в одном из них (записанном в V веке до н. э. Аполлодором Афинским) рассказывалась «предыстория» гомеровской Трои. Жил будто бы некогда некий Илус, который заложил на западном берегу Малой Азии город Илион, он же Троя, окруженный мощными стенами и нависавший над самым проливом Дарданеллы, ведущим в Черное море и в Колхиду (от Дарданелл, надо думать, и название жителей Трои, которых Гомер зачастую именует «дарданцами»; впрочем, вполне возможно, что и наоборот: от жителей пошло современное название пролива). Илус якобы оставил свое Троянское царство сыну Лаомедонту, а тот, видимо, чем-то раздосадовал греков-ахейцев, потому что миф рассказывает далее, что великий Геракл, прервав, по разным «объективным причинам», свое участие в походе аргонавтов, решил навести порядок на берегах Дарданелл и предпринял поход против Трои. Поход оказался удачным для греческого героя и сокрушительным для Трои: Геракл сжег город, разрушил его стены, убил в рукопашной схватке царя Лаомедонта и посадил вместо него молодого Приама — того самого, которого в рассказе Гомера мы встречаем уже почтенным старцем с пятьюдесятью сыновьями, и двенадцатью дочерьми во дворце. Судя по этой детали, поход Геракла состоялся примерно за 2–3 поколения до Троянской войны (это значит: в XIV или, может быть, даже в XV веке до н. э.). Если довериться этому сказанию, из него можно извлечь весьма любопытные выводы. Самым важным в местоположении Трои было то, что она прикрывала — проход в Дарданеллы. Троянцы, таким образом, владели ключами к Черному морю. Это обстоятельство было крайне существенным. Поскольку греки издавна вели торговлю с народами на черноморских берегах (не случайно аргонавты искали золотое руно именно в Колхиде), свобода судоходства через Дарданеллы была для них, надо думать, весьма небезразлична; троянцы же эту свободу, видимо, пытались ограничить — в свою, разумеется, пользу. Это позволяет думать, что сказание о походе Геракла на Трою является одним из отголосков этой давней и длительной «борьбы за проливы» между греками и троянцами. Комментируя это сказание, Р. Грейвз («Греческие мифы», 1955, гл. 137) замечает, что «Лаомедонт, видимо, препятствовал греческим торговым экспедиция в Черное море, и приструнить его можно было, только разрушив город, владевший Дарданеллами». Не был ли, в таком случае, и следующий поход греков на Трою — тот, что описан Гомером, — еще одной такой «карательной экспедицией»? Как бы то ни было, всего сказанного еще недостаточно, чтобы найти, где в точности располагалась древняя Троя. Но, к счастью, есть ведь рассказ Гомера, а рассказ Гомера, надо сказать, в любом своем месте изобилует живыми, точными и зримыми деталями. И там, где Гомер описывает Трою, тоже так и видишь — могучие стены на высоком холме над равниной и две извивающиеся по ней реки (Скамандр и Симиос, ныне турецкие Медерес и Думрек Су), по которым корабли греков поднимаются почти к самым стенам;.так и слышишь вой бешеных ветров, бушующих над осажденным городом; так и ощущаешь жар, идущий от одного из бьющих под стенами источников, и ледяной холод, идущий от другого… — но здесь, пожалуй, лучше передать слово самому Гомеру (песнь 22-я, строки 145–153, сцена погони Ахилла за Гектором): «Мимо холма и смоковницы, Как он писал, этот слепой гений, три тысячи лет назад, вы только вслушайтесь: «…хладный, как град, как снег; как в кристалл превращенная влага»! Вернемся, однако, к скучной прозе. А скучная проза жизни состоит в том, что ни одно из этих поэтических указаний Гомера, увы, не помогает, оказывается, обнаружению Древней Трои. Злые колючие ветры никогда не прекращаются на всей равнине бывшего Скамандра (на это непрерывно жаловался потом в своих письмах с раскопок Генрих Шлиман); эта равнина действительно изобилует ключами, но двух таких, где. температура воды разнилась бы так сильно, как указывается в «Илиаде», ни одному искателю «Приамовой Трои», несмотря на все усилия, найти не удалось; а что касается кораблей, поднимавшихся по реке к самой крепости, то за прошедшие тысячелетия воды в этих местах отступили так далеко от прежних берегов, что ни один холм на равнине Скамандра (Мендереса) сегодня не имеет прямого выхода к морю. (Это, между прочим, было еще одной причиной упадка и разрушения последней по счету, «византийской», Трои.) Иными словами, стоя на Троянской равнине и оглядываясь кругом, можно сказать только, что Древняя Троя погребена, по-видимому, где-то в толще какого-то из многочисленных окрестных холмов, да вот беда — неизвестно какого. Иное дело Микены. Здесь в точном местонахождении древнего города не приходилось сомневаться. Даже в наше время стоит выйти из автобуса, приволокшего тебя по извивам дорог из далеких и шумных Афин в тишину курчавых гор Арголиды, как нетерпеливому взгляду тотчас открываются (точно такие, как представлял) — зубцы древних стен, охватывающие заросшую вершину крутого холма, а в тех стенах — знаменитые Львиные ворота, на удивление невысокий проход, охраняемый двумя вставшими на задние лапы безголовыми каменными львами. Знаменитое, древнее, почти «знакомое» место — только разве что неожиданно невзрачное и стесненное, как на нынешний туристский вкус. Только размах соседствующей с развалинами громадной пещеры, именуемой «гробницей Атридов», один лишь и способен, пожалуй, примирить ворчливого туриста с потерей целого дня в утомительной поездке. Почти в таком же жалком виде «Агамемноновы» Микены находились уже в гомеровские времена: древнегреческий историк Фукидид, описывая (в V веке до н. э.) город под таким названием (тогда это еще был город, а не сегодняшние развалины), называл его «небольшим», сообщая, что на битву под Фермопилами тогдашние Микены выставили всего 40 человек! Впрочем, уже через несколько столетий и этот жалкий городок исчез, превратившись в развалины, и уже во II веке н. э. историк Павсаний с удивлением размышлял: неужто эти руины и есть великая столица Агамемнона? Почти две тысячи лет спустя, в 1876 году, Шлиман увидел руины Микен в точности такими, какими их описывал Павсаний. То же самое можно сказать и о других древних «царских столицах», упоминаемых Гомером. В тех же местах, на Пелопонесском полуострове (это, кто не помнит, юго-западная оконечность материковой Греции), вплоть до наших времен поближе к морскому побережью были видные уцелевшие остатки поистине циклопических укреплений гомеровского «крепкостенного Тиринфа». А в срединной Греции, вблизи Афин, можно было увидеть развалины некогда «богатого стадами» Орхоменоса. Несколько хуже обстояли дела с «песчаным Пилосом», еще одним центром воспетой Гомером «микенской цивилизации». Хотя город с таким названием существует и сейчас, на западном берегу Пелопонесса, но недаром у греков издавна была в ходу поговорка: «После Пилоса был еще один Пилос, а рядом еще один»; города с таким названием сменяли в этих местах друг друга неоднократно, так что найти погребенные в земле руины самого древнего из них, гомеровского, тоже было непросто. Шлиман, во всяком случае, ошибся, начал искать Пилос. не там, ничего, естественно, не нашел и в досаде прекратил раскопки. Только перед самой Второй мировой войной Карлу Блегену удалось отыскать «настоящий» древний Пилос. Проведя эту беглую «инвентаризацию руин», мы можем лишь, кажется, воскликнуть вслед за другими скептиками: «Да действительно ли существовала, и притом уже в той баснословной, покрытой мраком забвения древности, то бишь в XIV–XIII веках до н. э., — та могущественная «микенская цивилизация», которую изобразил Гомер в своей «Илиаде»? Да неужто уже в те «варварские», по греческим меркам, времена этот невзрачный ныне городок Микены был столь могуществен и влиятелен, что мог организовать общегреческий — многолюдный, многокорабельный и многолетний — поход против Трои?» Пыльная скудность всех этих развалин способна, скорее, убедить лишь в обратном. Как я уже заметил, мы не окажемся одиноки в своем скептицизме. Этот вопрос задавал себе еще Фукидид, удивленный неприглядностью современных ему Микен, и из его текста видно, как он буквально заставлял себя поверить в правоту Гомера: «Верно, Микены. — небольшой город, и многие города того периода выглядят сегодня не очень внушительно, но мы… не имеем права судить города по их внешнему виду, а не по их реальному могуществу.» Весь вопрос, однако, как раз и заключался в том, существовало ли в описанные Гомером времена это «реальное могущество». И здесь нам остается лишь вернуться к уже процитированным словам Майкла Вуда: «В определенном смысле проблема… не очень изменилась со времен Фукидида — если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, то как это доказать?» Специалисту, историку, ученому и впрямь очень трудно найти это зерно. Он знает, что когда-то, примерно за две тысячи лет до нашей эры, Греческий полуостров заселили дикие племена, пришедшие откуда-то из глубин Малой Азии или Балкан; что и после этого здешние земли раз за разом становились добычей очередных завоевателей-варваров, последними из которых были вторгшиеся с севера (примерно в 1100 году до н. э., много позже предполагаемых времен Троянской войны) племена дорийцев; что затем в истории Древней Греции наступил многовековой провал, который ее собственные (более поздние) летописцы назвали «Темными веками»; и что из этого своего беспамятства Греция вышла на свет истории лишь в начале VIII века до. н. э. — скудно заселенной, бедной, безграмотной страной, самый великий тогдашний поэт которой, Гесиод, сочинял свою (ныне знаменитую) философско-мифологическую поэму «Теогония», в изнеможении бредя за буйволом, медленно тащившим железный плуг по нищей борозде. Величие того, что мы сейчас называем «Древней Грецией», лежало далеко впереди Гомера и Гесиода, и какой же грамотный историк решился бы (без всяких тому фактических подтверждений, на основании одних лишь поэм Гомера) всерьез утверждать, что еще большее величие Греции лежало далеко позади, за бездной «Темных веков», еще до вторжения дорийцев, в некой «героической эпохе» некой «микенской цивилизации»? Уже тогда разговоры о «великих исчезнувших цивилизациях» (о которых к тому же зачастую и по сей день утверждается, будто они намного превосходили цивилизации современности) вызывали у всякого серьезного ученого определенную интеллектуальную неловкость. Не случайно ведь педантичный немецкий историк XIX века Г. Гроте начал свою «Историю Греции» лишь с Олимпиады 776 года до н. э., с первого греческого события, о котором есть надежные письменные свидетельства: «Все предшествующие времена, — писал он, — это область поэзии и легенд». К счастью для науки, за поиски Трои и Микен взялся любитель-дилетант, который не был серьезным ученым и потому верил в правдивость этих «легенд». Этим смельчаком, как всем сегодня известно, был Генрих Шлиман. >ГЛАВА 5 ШЛИМАН: ОТКРЫТИЕ МИКЕНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Существуют, две биографии Генриха Шлимана. Согласно первой из них, любящий отец (протестантский пастор) подарил семилетнему сыну толстую книгу «Всеобщая история», содержавшую пересказ «Илиады», и тем самым навсегда заронил в маленького Генриха мечту отыскать описанную Гомером Трою. Дальнейшее общеизвестно: разбогатев на деловых операциях, Шлиман решил осуществить свою детскую мечту, сменил сюртук бизнесмена на блузу археолога, отыскал, согласно указаниям Гомера, в которые он свято верил, старинный холм, в толще которого скрывались остатки древней Трои, и — раз-два! — обнаружил там ее развалины. Затем он примерно тем же способом (раз-два!) нашел в развалинах Микен гробницу древнего царя Агамемнона, руководившего, согласно Гомеру, походом греков на Трою, и тут уж его слава стала поистине всемирной, но в это время он как-то неожиданно умер — упал прямо на улице и в одночасье скончался. Лет его жизни, как говорилось в старину, было 68 — с 1822-го по 1890-й. Существует вторая биография Шлимана, не столь — лубочная, как первая. Шлиман, несомненно, заслужил звание «отца археологии», как некогда Геродот — «отца истории», но это не отменяет того факта, что его методы раскопок были ужасны и разрушительны, а датировка — приблизительна и, как правило, ошибочна. Он был неутомим и самоотвержен в археологическом труде, но окружал свои находки шумной и отталкивающей рекламой, достойной скорее бизнесмена, каким он и был, нежели ученого, каким он не был. Он был одарен потрясающей интуицией, но начисто лишен вкуса (чего стоила напыщенная телеграмма, отправленная им в греческие газеты с раскопок в Микенах: «Сегодня я взглянул в лицо Агамемнона»!). Его жизнь была полна удивительных коммерческих подвигов (дерзкие, на грани закона, деловые операции в России, спекулятивная скупка золота у старателей Калифорнии, монополизация порохового рынка во время Крымской войны и другие хищные налеты на легкую добычу), но он еще вдобавок и сам приукрашивал и расцвечивал ее собственным вымыслом (своему отцу, запойному пьянице и мелкому семейному тирану, он писал уже в зрелом возрасте: «Я рассказал журналистам, что это ты впервые познакомил меня с историей Трои и с тех пор я начал мечтать о том, как я ее отыщу…» — словно наставляя престарелого родителя в своей придуманной «на продажу» биографии). Он оставил по себе 11 толстых книг о своих открытиях, 18 путевых дневников, 60 тысяч писем и 175 томов раскопочных тетрадей, но исследователи до сих пор не могут понять, где факт, а где вымысел в этой огромной массе материала. Например, в своей книге «Троя» он рассказал почти детективную историю о том, как во время раскопок Трои его жена, гречанка Софья, приметила в глубине траншеи полускрытое землей золотое ожерелье и как ей пришлось прикрыть его своей длинной юбкой, пока Шлиман не уговорил рабочих разойтись на обед, чтобы скрыть от их завистливых глаз поразительную находку, составлявшую, как оказалось, лишь ничтожную часть богатейшего клада, который впоследствии получил название «сокровища царя Приама». Однако куда более поразительным, чем эта находка, многие тогдашние недруги и нынешние биографы считают тот факт, что в действительности (это доказано вполне надежными документами) Софьи Шлиман в это время не было не только на раскопках, но и вообще в Турции! Был даже пущен слух, что «сокровища Приама» Шлиман купил на стамбульском рынке и сам подбросил в траншею. Доказать или опровергнуть это не удалось: после того как Шлиман тайком от турецкого правительства вывез сокровища в Грецию, основная их часть бесследно исчезла. Сохранились лишь немногие фотографии и среди них самая знаменитая — Софья Шлиман «в диадеме и ожерелье Елены Прекрасной»{9}. Знакомясь с этим списком претензий, начинаешь удивляться — что же все-таки сделал этот человек, которого обвиняют в том, что он чуть ли ничего не сделал? Шлиман сделал великое дело. До него вся так называемая «археология» состояла в том, что сотни любителей искали в старинных развалинах зарытые там сокровища или случайно сохранившиеся старинные, рукописи и предметы искусства; в лучшем случае они составляли описания развалин и собирали то, что лежало на поверхности. Шлиман был первым, кто стал вести планомерные и целенаправленные раскопки, и притом с серьезной научной целью — найти следы древней цивилизации, обнаружить не столько ее клады, сколько ее историю и культуру, проверить рассказы древних об их далеком прошлом. Эти первые широкие поиски материальных свидетельств прошлого и породили всю современную научную археологию как исследовательское орудие историков. Спору нет, они породили также и то, что можно назвать «сенсационной археологией» — ту ее глянцево-приукрашенную, облегченно-газетную версию, что то и дело возбуждает читателей во всем мире открытием какой-нибудь очередной гробницы Тутанхамона. Но в науке главным достижением Шлимана является все-таки не находка «сокровища Приама» или «маски Агамемнона», а обнаружение «Приамовой Трои» и «Агамемновых Микен» — впечатляющее «воскрешение из мертвых» необыкновенно сложного и многоцветного мира, погребенного в глубинах прошлого. Напомню: к началу работ Шлимана наука о человеческой истории находилась в самом зачаточном состоянии; даже термины «палеолит» и «неолит» были придуманы лишь за несколько лет до того, а первая книга о древней истории (Вильсон: «Предысторические анналы») появилась только в 1851 году; но уже тридцать лет спустя Р. Даукинс имел все основания говорить: «Археологи подняли изучение древностей до уровня настоящей науки». И кто же ее поднял на этот уровень за столь короткий срок? Вот именно — Генрих Шлиман в первую очередь. Пусть поначалу дилетантски-грубо, с неизбежными издержками, с ошибками и преувеличениями, но именно он (и поначалу в одиночку) проделал всю или почти всю работу по превращению археологии в науку, — и первый шаг к этому он сделал в 1868 году в Турции, на холме Гиссарлык. Я уже рассказывал, что множество холмов на Троянской равнине оспаривало честь быть хранилищем остатков Древней Трои, подобно тому, как множество городов Древней Греции оспаривали в свое время честь считаться родиной Гомера. Главными фаворитами были Гиссарлык, находившийся на самом краю плато, обрывавшегося к равнине Мендереса-Скамандра, и лежавший несколько дальше в глубине плато Бурунбаши. Шлиман мог бы ошибиться в своем выборе места раскопок (как он впоследствии ошибся при поисках Пилоса), но, на его счастье, сопровождать уважаемого гостя в экскурсии по Трое вызвался большой знаток тамошних мест и по совместительству американский консул в этой провинции Оттоманской империи Франк Кальверт. Этот незаурядный, судя по воспоминаниям, человек тоже интересовался древностями и даже предпринял некогда пробные раскопки на Гиссарлыке. Заложенная им траншея была неглубока и коротка, но и этого хватило, чтобы убедиться, что холм содержит несколько «культурных слоев» (следов существовавших здесь когда-то одно за другим и одно над другим поселений). Под влиянием Кальверта Шлиман решил искать Трою именно на Гиссарлыке{10}. Свои раскопки он начал в 1871 году. К концу третьего года работ Шлиман вскрыл пять последовательных культурных слоев, один под другим, и убедился, что каждый из них представлял собой останки сменявших здесь друг друга древних городов. К сожалению, будучи дилетантом в предпринятом им новом деле, Шлиман приказывал рабочим вести траншею напрямик, сквозь все препятствия, и в результате разрушил попутно многие более поздние останки. Позднее он оправдывался: «Поскольку моей целью было раскопать Трою, которую я ожидал найти в одном из самых нижних слоев, я был вынужден разрушить руины в слоях более высоких». (Как теперь известно, он попутно разрушил руины и той Трои, которую искал.) Тем не менее во втором снизу слое на глубине 15 метров (по нынешней нумерации, это Троя-2) он обнаружил более или менее «гомеровский» элемент: развалины большой крепостной башни. В марте 1873 года в этом же слое были найдены остатки мощеной улицы, покрытые толстым слоем разноцветного пепла (пепел — это пожар, а пожар — это война!), а также развалины двух больших ворот, заваленных обломками. И, наконец, несколько позже, под самый конец сезона, здесь же были раскопаны и знаменитые «сокровища Приама» — золотая «диадема Елены Прекрасной», как тотчас назвал ее Шлиман, собранная из 16 тысяч золотых звеньев, и множество других золотых украшений{11}. Все это убедило его, что он отыскал заветную цель. Да и как иначе: укрепления, сокровища, а главное — пепел! Пепел — это пожар, а пожар — это война, не так ли?! И какая же, если не Троянская? С момента сенсационной публикации всех этих гиссарлыкских открытий за Шлиманом прочно укрепилась слава «человека, который нашел Трою». В каком-то смысле это было справедливо, потому что он действительно нашел «точное местоположение» этого древнего города. Однако ту Трою, которую он искал — гомеровскую, «Приамову» Трою, — найти оказалось значительно труднее. Шлиман поторопился, объявив ею найденную им Трою-2. Это отождествление сразу вызвало у специалистов серьезные сомнения: Троя-2 была слишком мала по размерам (всего 100*80 метров), а грубость и примитивность ее строений никак не соответствовала пышным описаниям Гомера. Шлиман, правда, пытался убедить скептиков (а заодно, наверно, и самого себя), что «Гомер был эпический поэт, а не историк; к тому же он видел Трою через 300 лет после ее разрушения», но и сам не мог не согласиться: «Если Троя действительно была таким небольшим по размерам городком, то несколько сот человек могли взять ее за несколько дней, и тогда всю «Троянскую войну» пришлось бы признать полным вымыслом…» Эти сомнения заставили его вскоре вернуться на Гиссарлык. И еще не раз вернуться. В промежутке, однако, он совершил поистине «кавалерийскую атаку» на Микены, которые Гомер описал как столицу Агамемнона, возглавлявшего Троянский поход. Как и на Гиссарлыке, он руководствовался здесь буквалистским прочтением свидетельств древних авторов — в данном случае историка II века Павсания. В своем описании Микен Павсаний утверждал, что гомеровский Агамемнон был похоронен внутри стен древней крепости. Поскольку сохранившиеся к XIX веку стены Микен охватывали очень малое внутреннее пространство, недостаточное для размещения пышных царских гробниц, все исследователи считали, что Павсаний имел в виду какие-то другие, наружные, более протяженные стены, которые, видимо, разрушились еще в старину (останки таких стен были, действительно, найдены при последующих раскопках, уже после Шлимана). Но Шлиман, читавший своих древних наставников буквально, начал раскопки именно в пределах сохранившихся стен, с внутренней стороны Львиных ворот. Слой обломков, заваливших здесь бывшую крепостную площадь, был в несколько метров толщиной; Шлиман, не задумываясь, приказал своим рабочим вымести этот слой и проложить через расчищенное место горизонтальную траншею. Стоит ли говорить, что он опять нашел то, что искал! Раскопки почти сразу вскрыли поразительное сооружение — ряд вертикально поставленных плоских каменных плит, образующих кольцо диаметром метров в тридцать. Площадка внутри этого круга явно была выровнена еще в древности, и на ней, вкопавшись до самого скального основания, рабочие обнаружили входы в пять вертикальных округлых колодцев-гробниц. Эта площадка впоследствии получила название «первого круга гробниц». Но главное состояло в том, что в этих гробницах были обнаружены сохранившиеся с глубокой древности останки девятнадцати мужчин и женщин и двух детей. Их скелеты были буквально погребены под грудой бесчисленных золотых украшений и предметов; на лицах мужчин были золотые маски, черты которых повторяли черты их лиц; тела были покрыты доспехами из золотых листьев; на женщинах были золотые браслеты и диадемы; вокруг лежали мечи и кинжалы с изумительными изображениями батальных и охотничьих сцен, кубки и чаши с тончайшими рисунками и многое-многое другое{12}. Что должен был подумать человек, наизусть знавший Гомера, увидев эти богатейшие захоронения? Мы точно знаем, что подумал Шлиман, потому что сохранилась телеграмма, посланная им в тот же день греческому королю: «С огромной радостью спешу известить Ваше Величество, что я нашел гробницы, представляющие собой, согласно рассказу Павсания, захоронения. Агамемнона, Кассандры, Евромедона и их спутников, которые были убиты во время пиршества Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом». Традиция, идущая от Гомера, действительно утверждает, что великий микенский царь, руководитель Троянского похода Агамемнон по возвращении домой был предательски убит на пиру вместе со своими приближенными и наложницами, в том числе Кассандрой и ее двумя детьми, а в найденных им гробницах Шлиман действительно обнаружил скелеты нескольких мужчин, а также женщин и двух детей, так что у него были все основания для восторженной телеграммы, но, как и в случае с Троей-2, он опять оказался не прав. Его датировка была ошибочной: как выяснилось позже, найденные им скелеты, по меньшей мере на 300 лет были старше предположительной даты Троянской войны. Доказательство реальности Троянской войны опять ускользнуло, но зато обнаружилось нечто иное, и, быть может, намного более важное. В самом деле, если уже за триста лет до пресловутой Троянской войны цари Микен (а внутри стен наверняка находились гробницы царей) располагали такими богатствами и их хоронили с такой пышностью, то лучшего доказательства могущества и величия Микенского царства трудно и желать. Более того, как показал впоследствии американский археолог профессор Алан Вэйс, руководитель многолетних систематических раскопок в Микенах в 30-е годы XX века, останки, найденные Шлиманом, в действительности принадлежали людям разных эпох и в совокупности покрывали время от XVI до XIII века. А это уже позволяло утверждать, что Микены, как и говорил Гомер, на протяжении ряда столетий действительно были центром богатого и мощного государства, а возможно, и всей тогдашней греческой цивилизации. Но Шлиман нашел и другие, хоть и более мелкие, но крайне важные подтверждения правдивости рассказа Гомера. На некоторых золотых украшениях были изображены те самые загадочные «башнеподобные» щиты, прикрывавшие тело воина с головы до пят, которые у Гомера принадлежали «большому» Аяксу и подобных которым в гомеровские времена уже не было. В другой гробнице была найдена золотая чаша с двумя ручками в виде голубей, очень похожая на описанную Гомером в «Илиаде» чашу героя Нестора, а также шлем с гребнем из медвежьих зубов: дословное описание такого шлема содержится в 10-й главе «Илиады». Даже сдержанные историки были потрясены: казалось, гомеровские герои явились перед их глазами живым воплощением слов Гомера. Однако, как ни сенсационны были эти находки, для развития археологии как науки куда более важными оказались многочисленные образцы древней посуды, найденные Шлиманом в Микенах. До того, в Трое, он находил лишь отдельные черепки каких-то непонятных эпох. Обилие найденной им теперь керамики впервые позволяло специалистам произвести более или менее точную датировку этих эпох путем сопоставления микенских черепков с остатками аналогичной посуды, обнаруженной в других местах Средиземноморья, прежде всего — на раскопках в Египте, хронология культурных слоев которого благодаря обилию и детальности письменных памятников известна весьма точно. Детальная разработка этого метода датировки заняла еще многие годы, но в конце концов ее принципы были установлены достаточно прочно, что позволило со временем заложить основы надежной микено-троянской хронологии. Шлиману не суждено было воспользоваться этим методом. Его уверенность, что он нашел гробницу Агамемнона, оставалась непоколебимой и подвигла его продолжить поиски «микенской цивилизации», на сей раз — в Орхоменосе, том самом, о котором Ахилл у Гомера говорит: «Даже ради богатств Орхоменоса не соглашусь». Подобно останкам Микен, развалины Орхоменоса (с огромной гробницей, некогда описанной все тем же Павсанием) сохранились на виду, и Шлиман быстро произвел там разведывательные раскопки. Золота он, однако, не обнаружил, других сенсационных находок тоже (если не считать очередного обилия черепков), и уже через несколько недель прервал работу; единственным ее результатом было обнаружение удивительного сходства гробницы в Орхоменосе с гробницей в Микенах (позднее была высказана гипотеза, что их строил один и тот же архитектор). Из Орхоменоса, лежавшего к северу от Афин, Шлиман направился к развалинам древнего Тиринфа, расположенного к югу от Микен, почти у самого берега моря («крепкостенный Тиринф» у Гомера, откуда под Трою пришел царь Диомед со своими воинами: «Осмьдесят черных судов под дружинами их принеслося». Циклопические стены этого города тоже сохранились с древних времен и не могли не привлечь внимание Шлимана. Свои раскопки в Тиринфе Шлиман начал в 1884 году, на сей раз вместе с архитектором Дорпфельдом, и участие этого молодого человека, который впоследствии вырос в серьезного, самостоятельного археолога, оказалось весьма существенным: именно Дорпфельд помешал Шлиману проложить траншею, которая наверняка бы уничтожила таившийся под обломками средневековой византийской церкви древний царский дворец. В результате вмешательства Дорпфельда дворец был раскопан неповрежденным, что позволило впервые воочию узреть многие детали замечательной дворцовой и крепостной архитектуры XIV–XIII веков до н. э. Они опять оказались предельно совпадающими с описаниями Гомера, и Шлиман не замедлил оповестить мир о своем очередном сенсационном открытии: «Я извлек на свет великий дворец легендарных царей Тиринфа, — писал он, — и отныне до конца времен никто не сможет опубликовать книгу о древнем искусстве, не упомянув о моем открытии». После Тиринфа Шлиман предпринял еще несколько попыток: следуя путями гомеровских героев, он безуспешно искал местонахождение «Менелаевой Спарты»; затем пробовал копать в упоминаемом Гомером «песчаном Пилосе» царя Нестора, но, как я уже говорил, ошибся в местоположении древнего города и ничего существенного не нашел; и, наконец, несмотря на огромную усталость («Я испытываю огромное желание до конца моих дней устраниться от раскопок…»), решил снова «копнуть» в любимой Трое. Он уже был тут несколько раз в промежутке между раскопками в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе, Пилосе и каждый раз находил что-то новое и неожиданное. Но все эти открытия не приносили ему того удовлетворения, которое он так хорошо имитировал в своих победных реляциях на публику. Его продолжали одолевать сомнения. Возражения скептиков разъедали его уверенность. Он возвращался и снова искал — искал доказательств, которые бы окончательно и однозначно убедили скептиков (и его самого), что найденная им Троя-2 — это действительно «Приамова Троя». И вот теперь он решил возвратиться сюда снова — поискать еще раз. Кто ищет, тот, как известно, всегда найдет. Хотя, конечно, не всегда то, что ищет. >ГЛАВА 6 «ПРИАМОВА» ТРОЯ — ВТОРАЯ, ШЕСТАЯ, СЕДЬМАЯ? В сознании широкой публики слава Шлимана как «первооткрывателя Трои» связана с его сенсационными открытиями 1871–1873 годов — раскопками в Трое-2 и обнаружением там «Приамового сокровища». Но, как мы уже сказали, среди специалистов оставались многие, кто весьма скептически относился к Шлиманову отождествлению Трои-2 с гомеровской Троей. Сомнения, как мы тоже уже говорили, были и у самого Шлимана; вот почему в промежутках между раскопками в Греции — в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и Пилосе — Шлиман неоднократно возвращался на Гиссарлык. Первый раз он вернулся в 1878–1879 годах, — но единственным результатом этих двух раскопочных сезонов было лишь открытие еще одного, самого глубокого культурного слоя. Судя по находкам, этот слой принадлежал к далеким доисторическим временам и к гомеровской Трое отношения не имел. Еще через два года, в 1881-м, Шлиман объехал верхом на лошади самые дальние окрестности Гиссарлыка, словно отыскивая другие возможные места раскопок, но ничего подходящего не нашел и в 1882 году снова вернулся на Гиссарлык, на сей раз вместе со своим новым помощником Дорпфельдом. И вот тут, наконец ему улыбнулась удача. Продолжив раскопки в Трое-2, он обнаружил новые признаки существовавшего здесь в древности укрепленного города — еле заметные следы кольцевых стен, почти стертые временем остатки мощных бастионов, а главное — развалины обширного здания, напоминавшего царский дворец. Вкупе с прежними находками в том же слое это делало Трою-2 куда более соответствующей описаниям Гомера, и Шлиман не замедлил известить своих друзей и недругов: «Моя работа в Трое завершена окончательно. Я доказал, что в глубокой древности на, этой равнине находился большой город, разрушенный страшной катастрофой и в точности отвечающий гомеровскому описанию…» Увы, победоносное извещение и теперь оказалось преждевременным. В 1889 году Шлиман с Дорпфельдом в очередной раз вернулись на Гиссарлык, чтобы расширить раскопки Трои-2, и почти сразу же наткнулись на обескураживающий факт. Заложенная ими новая траншея вскрыла следы еще одного дворцового зала, в помещениях которого оказалось множество остатков посуды микенского («Агамемнонова») типа, но, увы, культурный слой, в котором располагался новонайденный дворцовый зал с его посудой, оказался шестым, считая снизу, то есть намного более поздним, чем Троя-2. Если Шлиман был прав и Троя-2 была, как он утверждал, гомеровской, то кому тогда принадлежали дворец и посуда Трои-6? История не знала на этом месте более поздних городов с такими дворцами, да и посуда не соответствовала более позднему времени. Если же гомеровской была новонайденная Троя-6 (на что могли указывать дворец, а главное, датировка посуды), то, что же тогда нашел Шлиман в Трое-2? Все здание троянской датировки Шлимана вдруг заколебалось, и стало понятно, что без новых раскопок не обойтись. Шлиман назначил эти работы на следующий, 1891 год, но ему уже не суждено было вернуться на Гиссарлык — в том же году он скоропостижно умер после неудачной операции застуженного на раскопках уха: свалился прямо на улице, парализованный и утративший речь, был доставлен в больницу для бедных и через несколько часов, не приходя в сознание, скончался. Польский писатель Генрих Сенкевич, случайно оказавшийся свидетелем отправки его тела домой, в Афины, позднее писал: «Хозяин отеля подошел ко мне и спросил: «Знаете ли, вы, кто этот господин? Нет? Это великий Шлиман!» Бедный «великий Шлиман»! Подумать только — откопать Трою и Микены, заслужить, бессмертную славу у людей и так вот умереть…» Шлиман, несомненно, заслужил эту бессмертную славу как первооткрыватель Трои и, что еще важнее, микенской цивилизации, но «настоящую», гомеровскую Трою он, как вскоре выяснилось, не опознал. Установил это Дорпфельд. В 1893 году, получив от Софьи Шлиман средства на продолжение раскопок, он вернулся на Гиссарлык, заложил огромную кольцевую траншею, вокруг найденных им (в последних раскопках со Шлиманом) остатков дворца в Трое-6 и почти немедленно обнаружил останки стен, намного более грандиозных, чем все, что нашел Шлиман в своей Трое-2. Продолжая раскопки, он нашел еще целый ряд строений, некогда составлявших тот же город, — сначала остатки пяти больших, неплохо сохранившихся домов аристократического типа, затем еще нескольких сильно поврежденных зданий того же характера и, наконец, развалины могучего крепостного бастиона в северо-восточной части стены. Особенно важным было то, что повсюду в этом слое обнаруживались черепки посуды точно того же типа, что нашел Шлиман в Микенах и Орхоменосе. К этому времени уже было доказано, что такой тип посуды производился исключительно в греческих («микенских») городах XV–XIII веков до н. э., и это означало, что на Гиссарлык она могла попасть лишь из Греции; иными словами, Троя-6 имела давние и длительные — по крайней мере, с XV по XIII век — контакты с городами «микенской цивилизации». В этот промежуток времени попадала любая предположительная дата Троянской войны; а если еще добавить, что, судя по некоторым приметам, гибель Трои-6 сопровождалась тяжелыми разрушениями: крепостные стены во многих местах были повреждены, здания и дворец еще хранили следы пожара, то общий вывод напрашивается как бы сам собой: именно этот город, Троя-6, а не Троя-2, и мог быть искомой гомеровской Троей. Теперь настала очередь Дорпфельда публиковать победные реляции. Сообщая о своих находках, он писал: «Долгий спор о реальности Трои и ее местоположении пришел к концу… Шлиман оправдан… Вид крепости был несомненно знаком певцам «Илиады»…» (Шлиман, надо думать, был оправдан в том смысле, что подлинная Троя оказалась именно там, где он ее искал, хотя и не в том слое.) Дорпфельд мог бы добавить: вид крепости был Гомеру не просто знаком, а знаком детально. На одном из участков разрушенной крепостной стены раскопки вскрыли место, весьма напоминавшее то, где, по словам Гомера, «трижды Менетиев сын (Патрокл. — Р.Н.) взбегал на высокую стену»: камни здесь прилегали друг к другу так неплотно, что и турецкие землекопы, далеко не Патроклы, тоже запросто могли по ним подниматься. А в западной части крепостной стены Дорпфельд обнаружил слабо укрепленный участок, что опять же соответствовало рассказу Гомера, согласно которому Одиссей еще во время осады пробрался в осажденный город через слабину в западной части стены! Эти поразительные совпадения едва ли не более, чем всё остальное, побудили большинство исследователей согласиться с выводом Дорпфельда. Так, видный английский гомеровед Уолтер Лиф в своей книге «Гомер и история» писал: «Крепость (найденная Дорпфельдом. — Р.Н.) находится на том самом месте, где ее помещала гомеровская традиция». И продолжал: «Отсюда следует историческая реальность Троянской войны. Можно даже думать, что, по крайней мере, некоторые из героев Гомера тоже были реальными участниками той войны и носили те же имена, что у Гомера». Другим специалистам тоже казалось, что долгие поиски Трои наконец-то благополучно завершились. Но Троя и на этот раз приготовила своим искателям неприятный сюрприз. Примерно через сорок лет после Дорпфельда, в 1932 году, на Гиссарлык прибыл еще один продолжатель дела Шлимана — замечательный американский ученый Карл Блеген. К тому времени он уже был широко известен специалистам во всем мире своими тщательными раскопками в «микенских» городках материковой Греции — Коракоу, Зигурос и Просимна. Эти его работы (вкупе с новыми раскопками англичанина Алана Вэйса в самих Микенах) позволили окончательно завершить создание детальной и точной хронологии культурных слоев и стилей керамики, общих для всей микенской цивилизации. Теперь, возвращаясь вслед за Шлиманом и Дорпфельдом на Гиссарлык, Блеген хотел всего лишь проверить на основе этой хронологии их датировку культурных слоев многовековой Трои. Но неожиданно для него самого это «невинное» намерение повлекло за собой сенсационные результаты. В ходе дотошного (а это он умел!) изучения Трои-6 Блеген установил, что ее стены и дома были повреждены отнюдь не военным штурмом, а естественной катастрофой: в стенах и зданиях обнаруживались сдвинутые с места камни фундамента, а сдвинуть с места фундамент могло только мощное землетрясение. Вывод опять напрашивался сам собой: если Троя-6 погибла не в результате осады и штурма, то, значит, Троя-6 тоже не является гомеровской Троей! Точно так же, как Дорпфельд в свое время опроверг Шлимана, Блеген теперь опроверг Дорпфельда, и с убедительностью этого опровержения вынужден был согласиться и сам Дорпфельд, когда в 1935 году посетил раскопки Блегена. Но Блеген сделал и нечто намного большее. Поняв, что Троя-6 не может быть гомеровской, он стал искать следы гомеровской Трои в более поздних культурных слоях. Он проделал гигантскую работу по детальнейшей датировке всего Гиссарлыкского холма, от основания до макушки, и выявил в нем 11 культурных слоев, которые распадались на пятьдесят (!) подслоев. Два из них — 7а и 7б — располагались непосредственно над Троей-6, друг за другом, и, как оказалось, в одном из них, в подслое 7а, Блегена ожидали поистине сенсационные открытия. Прежде всего, он установил, что город, возникший на развалинах Трои-6 спустя примерно полвека после ее разрушения (Блеген назвал его «Троя-7а!»), был построен внутри тех же стен, что и Троя-6. Это означало, что многие из характеристик Трои-6, открытых Дорпфельдом, — участки стен, поврежденные штурмом, неплотно уложенные камни в том месте, где, по Гомеру, пытался взбежать на стену Патрокл, слабина в западной стене, могучие ворота и бастионы, даже характер посуды — все это относилось и к Трое-7а. Это означало также, что спустя полвека люди вернулись на развалины и отстроили свои жилища, но почему-то не стали восстанавливать разрушенные крепостные укрепления. Почему? Объяснение этого факта потребовало дальнейших раскопок, в ходе которых Блеген сделал еще более поразительные открытия. Изучая характер построек в исследуемом подслое, он установил, что постройки Трои-7а были куда бедней и примитивней, чем в непосредственно предшествовавшей ей Трое-6, раскопанной Дорпфельдом, но зато их было намного больше. Там, где раньше высилось лишь несколько элегантных зданий, группировавшихся вокруг дворца, теперь располагался запутанный лабиринт однокомнатных каменных строений, настоящих лачуг, явно построенных на скорую руку, как попало, вплотную друг к другу, в страшной скученности. Троя-7а мало походила на царственную Трою-6 — она, скорее, напоминала лагерь беженцев. Казалось, будто окрестные жители внезапно хлынули в разрушенный землетрясением город и наскоро стали строить жилища-времянки среди развалин, не имея ни времени, ни средств восстановить прежние здания и дворцы или залатать поврежденные крепостные стены. Более того, внутри многих лачуг, у входа, Блеген обнаружил следы некогда вкопанных в землю громадных, в человеческий рост, глиняных сосудов, в которых древние. обычно хранили съестные припасы. Впечатление было такое, будто жители не просто бежали за стены от какой-то внезапной опасности, но еще и ждали длительной осады — потому и собирали запасы продовольствия. Об «осадном положении» говорило и почти полное отсутствие в развалинах Трои-7а каких-либо следов импортной посуды или тканей — все находки были местного производства, как будто связи города с наружным миром были перерезаны. Свое последнее открытие Блеген сделал уже внутри жилищ Трои-7а. Их стены демонстрировали следы насильственного разрушения, там и сям обнаруживались куски обожженного дерева, под одной повалившейся стеной был найден человеческий скелет, в другом месте — человеческий череп, пробитый стрелой. Эти следы разрушения и гибели могли быть оставлены только войной. Взятые вместе, все эти находки выстраивались в связную картину: известие о приближении врага — торопливое бегство людей со всей округи под защиту крепостных стен — осада — штурм — взятие и разрушение города. По оценке Блегена, Троя-7а была взята штурмом не более чем через 50 лет после землетрясения и не позднее чем в 1240 году, т. е. «именно в тот период, — писал он, — когда микенские царства материковой Греции переживали самый высший расцвет и наверняка были достаточно могущественными, чтобы предпринять совместную военную экспедицию» (К. Блеген, «Троя и троянцы»). То же самое можно сказать й иначе: гомеровская Троя существовала — это была Троя-7а. Ошибка Дорпфельда была вполне извинительной: не имея в руках тех методов, которыми (40 лет спустя) располагал Блеген, он приписал Трое-6 те признаки, которые на самом деле принадлежали лежавшей буквально над ней, почти без перерыва, Трое-7а. Но основной вывод Дорпфельда был, по мнению Блегена, бесспорен. «Не может быть больше сомнения, — писал Блеген в той же своей книге, — что Троянская война, в которой коалиция ахейцев, или микенцев, сражалась с троянцами и их союзниками, была исторической реальностью… И Троя-7а, которая и должна быть признана настоящей Троей, была той самой крепостью, чья осада и штурм так врезались в память трубадуров и бардов, что они передали своим потомкам имена героев, сражавшихся в этой войне». В этом замечательном обобщении итогов всех трех стадий исследования Трои — шлимановской, дорпфельдовской и собственно блегеновской — есть только одна неточность: найденные Блегеном факты в действительности свидетельствовали лишь о разрушении Трои, но не могли служить доказательством, что этому разрушению предшествовала предварительная осада. Что, собственно, подкрепляло мысль об осаде? Только разве что вкопанные у входа в дома кувшины с продуктами? Но ведь и в Помпеях тоже были найдены такие кувшины, а Помпеи никто не осаждал, как известно. Не случайно один археолог (уже после раскопок Блегена) насмешливо заметил, что «разрушение Трои — это исторический факт, но ее осада — всего лишь возможность». Новый свет на вопрос о реальности осады Трои был пролит лишь спустя полвека, когда все герои нашего рассказа давно уже сошли с исторической и просто жизненной сцены. В 1988 году, ровно через 50 лет после завершения раскопок Блегена, на Гиссарлыке начала работать новая археологическая группа под руководством Манфреда Корфмана. В числе прочего она произвела широкую разведку в окрестностях Гиссарлыка и, в частности, к юго-западу от него, вблизи высокого могильного кургана конической формы Бесик-Тепе. Во времена «классической», послегомеровской Греции (с V века до н. э. и позже) этот курган считался «могилой Ахиллеса», и именно на нем в свое время позировали для истории персидский царь Ксеркс и великий Александр Македонский. А в наше время экспедиция Корфмана сделала здесь весьма важное открытие. Во-первых, было обнаружено, что именно здесь в XIII–XII веках до н. э. (то есть во времена предполагаемой Троянской войны) находился морской берег. А во-вторых, всего в нескольких метрах от тогдашней береговой линии было найдено захоронение XIII века до н. э., содержавшее около 50 камер-гробниц с прахом кремированных людей. В гробницах сохранилось множество погребальной посуды и других предметов греческого производства. Среди этих предметов были также камни, игравшие роль личных печатей микенских аристократов. Близость этого «греческого кладбища» к тому кургану, который греческая традиция упорно именовала «могилой Ахиллеса», а также к древнему морскому берегу была слишком красноречивой, чтобы быть случайной. Гомер («Илиада», 14:30) говорил о лагере, который греки во время осады разбили вблизи моря («Их корабли от равнины, где бились, далеко стояли // берегом моря седого…»); он говорил также, что здесь же, вблизи своего лагеря, греки хоронили героев, павших во время осады. Не нашел ли Корфман этот гомеровский лагерь? Тогда это однозначно доказывало бы историческую реальность осады города. Сам Корфман сформулировал свое мнение крайне осторожно: «Я могу лишь высказать интуитивное впечатление, что открытое нами кладбище в гавани Трои, скорее всего, относится к тем временам, когда происходила Троянская война». Любопытные находки были сделаны и в самой Трое. В южной части древней Трои-6 (и 7а, соответственно) экспедиция Корфмана обнаружила остатки шести домов с таким количеством микенской посуды, которое невольно порождало вопрос, не находилась ли здесь когда-то греческая торговая колония (доказано, например, что в Милете, много южнее Трои по берегу моря, такая колония действительно существовала). В таком случае захоронению, найденному Корфманом в Бесик-Типе, можно было бы дать и другое, более прозаическое объяснение — это могло быть, например, кладбище богатых микенских купцов, живших в Трое. Корфман и впрямь нашел признаки того, что Троя-6 была достаточно большим городом, далеко выходившим за стены той крепости, которую раскопали Дорпфельд и Блеген, и потому — особенно учитывая ее географическое расположение на берегах Дарданелл — вполне могла привлечь к себе внимание купцов из разных стран. Но ведь в той же мере и по тем же причинам она могла привлечь к себе и внимание хищных завоевателей! Уж очень многое в Трое-6 и 7а несло на себе следы чисто военных разрушений. На окончательный выбор могли бы существенно повлиять показания каких-нибудь «независимых» свидетелей тогдашних событий. Но были ли у гомеровских Микен и Трои современники и одновременно близкие соседи, которые могли бы оставить такие свидетельства? Как ни странно, были — и даже два: Крито-Минойское царство на западе и Хеттская империя на востоке. К ним мы и обратимся на этом последнем витке нашего исторического расследования. >ГЛАВА 7 КРИТ И МИКЕНЫ У Микен и Трои были два современника-соседа, и одним из них было Крито-Минойское царство. Заслуга его открытия принадлежит замечательному британскому археологу Артуру Эвансу. Подробный рассказ о работах Эванса увел бы нас далеко в сторону; ограничимся поэтому лишь тем, что непосредственно связано с загадкой Троянской войны. Эванс заинтересовался археологией Древней Греции под влиянием находок Шлимана в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и т. д. Ему казалось непонятным, что такая могущественная цивилизация, какой в результате раскопок Шлимана представала цивилизация Микен (ведь она простиралась чуть не на всю основную часть Греции), не оставила по себе никаких письменных памятников вроде тех, которыми засвидетельствовали свое существование Древний Египет или Шумерское и Ассирийское царства в Месопотамии. Эванс был убежден, что такие письменные следы микенского прошлого должны отыскаться, и его уверенность была подкреплена случайной находкой: в 1893 году, во время посещения Афин, некий торговец древностями предложил ему купить старинные камни с выцарапанными на них причудливыми узорами. По причине своей невероятной близорукости Эванс очень хорошо различал микроскопические детали и потому сумел разглядеть в узорах-царапинах явные следы некой системы. Он заподозрил, что это и есть разыскиваемая им микенская письменность. Однако на его вопрос, откуда камни, продавец сказал: «С Крита». Надо сказать, что Шлиман в свое время интересовался Критом и даже побывал в 1886 году в Кноссосе, что под Гераклионом, чтобы решить, не начать ли здесь свои очередные раскопки (ему это не удалось по весьма прозаической причине — турецкое правительство отказалось продать ему землю). Он с поразительной интуицией предвидел, что здесь может таиться нечто важное. «Я не буду поражен, если здешняя почва таит останки цивилизации, древность которой сделает Троянскую войну событием вчерашнего дня…» — писал он одному из корреспондентов. Разумеется, у шлимановой интуиции, как и у всякой иной, были вполне рациональные основания. Еще древние греческие мифы связывали с Критом начало науки, техники и архитектуры. Так, в знаменитом мифе о критском царе Миносе говорилось, что именно в Кноссосе легендарный архитектор, инженер и изобретатель Дедал построил царю дворец, а под ним — Лабиринт, куда был упрятан получеловек-полубык Минотавр, которого похотливая жена Миноса родила от совокупления с быком и который питался исключительно человечиной. Миф о Тезее рассказывал, как афинский герой Тезей пробрался в лабиринт, убил Минотавра и выбрался обратно с помощью нити Ариадны, дочери царя Миноса. Если верить мифу, этот подвиг Тезея избавил Афины от древней обязанности ежегодно отправлять в Кноссос человеческую дань. Если рассматривать эту легенду как отражение реальности в мифологическом сознании, она означает, что Афины, видимо, были подчинены Криту. Поэтому можно думать, что могущественное царство Миноса, владея множеством боевых кораблей, сумело подчинить себе и многие другие города — как на островах Эгейского моря, так и в материковой Греции. И действительно, в ходе своих раскопок в Микенах Шлиман нашел несколько предметов с изображением критского быка, что, собственно, и навело его на мысль, что между Микенами и Критом могла существовать древняя связь — не случайно же его любимый Гомер упомянул критского царя Идоменея в числе властителей, приславших, по призыву Агамемнона, свои корабли и воинов под Трою. Так что визит Шлимана на Крит был целенаправленным — он надеялся отыскать там следы древних крито-микенских связей. Эванс прибыл на Крит с другой целью — найти здесь следы «микенской письменности». Он быстро убедился, что камней с загадочными надписями, вроде купленного им в Афинах, здесь превеликое множество — местные женщины носили их на груди в виде амулетов и называли «молочными камнями». Но у местного археолога-любителя Калокаириноса он увидел еще более любопытный предмет — глиняную табличку, сплошь покрытую несомненными письменами. Калокаиринос нашел ее в ходе своих пробных раскопок в Кноссосе, когда проложенная им траншея вскрыла остатки обширного дворцового комплекса, стены которого были покрыты охровой краской, а полы завалены щебнем и обломками глиняной посуды. Прослышав о дворце, Эванс немедленно купил указанный ему кусок земли в Кноссосе (в отличие от Шлимана, ему это удалось, потому что к тому времени Крит уже освободился от турецкого владычества) и в 1900 году приступил к систематическим раскопкам. Первоначально весь его интерес сосредоточивался на поиске табличек; вскоре, однако, эти поиски отошли на второй план, поскольку первые же траншеи вскрыли богатейшие остатки какой-то могущественной цивилизации, значительно более древней, чем микенская (как и предсказывал за 15 лет до того Шлиман). Вскоре находки пошли сплошь и подряд: дворцовые залы с изумительными фресками на стенах, помещения с громадными сосудами, на которых были изображены сцены каких-то загадочных игр людей с бкками, статуэтки неизвестных дотоле богинь с обнаженной грудью, колонны и статуи, золотые украшения и множество обожженных глиняных табличек с отчетливыми письменами. Архитектура построек, характер живописи, детали росписей на сосудах — всё свидетельствовало о том, что открытая Эвансом культура не имела ничего общего с микенской и отличалась совершенно особым, индивидуальным характером. Постепенно усилиями других археологов, привлеченных Эвансом на Крит, выяснилось, что аналогичные дворцы, живопись, ритуалы существовали и в других районах огромного острова — на юге, в Фестосе, и на западе, в Мелии. Эванс назвал эту дворцовую культуру «крито-минойской» — в честь легендарного царя Миноса; по его убеждению, ее создателем был какой-то древний народ, возможно, пришедший на Крит из глубин Малой Азии. Современный греческий историк проф. С. Алексиу полагает, что это переселение людей из Малой Азии на Крит, на острова Эгейского моря и в материковую Грецию произошло примерно в середине третьего тысячелетия до н. э. Об общности раннего населения всех этих мест могут свидетельствовать общие для эгейских островов и Крита географические названия — Олимпус, Ида, Инатос и т. д. Возможно, географические названия с окончанием «-ос», столь многочисленные и на Крите, и в Греции — Коринфос, Кноссос, Фестос, Орхоменос, — распространились в это же время. В соответствии с нынешней хронологией, середина третьего тысячелетия до н. э. — это так называемый ранний бронзовый век{13}. Поскольку заселение Крита произошло, по теории Эванса — Алексиу, раньше, чем заселение материковой Греции, на Крите раньше возникли и предпосылки развития цивилизации. Контакты с близлежащим Египтом еще более ускорили это развитие. По мнению Эванса, около 2000 года до н. э. (т. е. в конце раннего бронзового века) лроизошло знаменательное событие: были возведены первые дворцовые комплексы в Кноссосе, Фестосе и Малии. Стала складываться «дворцовая культура». В ее основе лежало сельское хозяйство — не случайно все три дворцовых центра находились в самых плодородных районах острова. В 1700 г. до н. э., судя по археологическим данным, Крит постигла крупная естественная катастрофа, возможно — землетрясение. Однако она не прервала наметившегося развития: разрушенные дворцы были немедленно восстановлены, и последующий период стал временем высшего расцвета и могущества крито-минойского государства. Его колонии включали Теру, Родос, Карпатос, Мелос и другие острова Эгейского моря. То была «талассократия», или морская империя («таласса» по-древнегречески — море), опиравшаяся на силу своего обширного флота, равного которому не было во всем Средиземноморье. И вот в этом месте своих рассуждений Эванс подошел к. драматическому пункту: их логика с неизбежностью привела его к противоречию со Шлиманом. Дело в том, что во времена Эванса считалось, что микенская цивилизация, открытая Шлиманом, существовала в XIV–XII веках до н. э. Крито-минойская культура была явно древнее микенской — она достигла расцвета уже в XVII веке до н. э. Судя по раскопкам Эванса, она была также намного выше и изощренней: критские дворцы, архитектура, искусства, ремесла далеко превосходили все, что было найдено в материковой Греции того же времени. И вдобавок, по Эвансу, Крит с помощью своего флота контролировал все Эгейское море. Миф о Тезее утверждал, что критской власти подчинялись даже Афины. Напрашивалась мысль, что эта власть могла распространяться и на Микены с их городами. Иными словами, как бы сама собой складывалась гипотеза, что вся материковая Греция, включая Микены, была крито-минойской провинцией. Тогда некоторые приметы искусства и архитектуры, общие для обеих цивилизаций, можно объяснить тем, что дворцы в Микенах, Тиринфе, Пилосе и других центрах «микенской цивилизации», а также царские гробницы в этих городах принадлежали критским губернаторам и строились архитекторами с Крита, сосуды, утварь, оружие изготовлялись и расписывались критскими мастерами, а игры с быками и фигурки богинь были занесены критскими аристократами. Итогом этой цепи рассуждений неизбежно становился радикальный вывод: никакой особой «микенской цивилизации», на существовании которой настаивал Шлиман, не было вообще. Не удивительно, что от нее не осталось никаких письменных свидетельств. Письменность глиняных табличек — это не греческая, а крито-минойская письменность. А все найденное Шлиманом и его продолжателями в городах материковой Греции — это артефакты поздней крито-минойской культуры. Эта радикальная теория, выдвинутая Эвансом и получившая поддержку большинства историков и археологов начала XX века, столкнулась, однако, с определенными трудностями. Судя по данным критских раскопок, крито-минойская цивилизация, возникшая, по Эвансу, в 2000 году до н. э., просуществовала лишь шесть столетий. В 1420 году до н. э. (эта дата установлена достаточно надежно) какая-то загадочная катастрофа разрушила дворцы в Кноссосе и Фестосе, а с ними и все крито-минойское государство вообще{14}. Тем не менее, те же раскопки показали, что жизнь на Крите не угасла и после этого удара: дворец в Кноссосе был частично восстановлен, таблички продолжали писаться, хозяйство и торговля ожили и стали вновь развиваться. Это несоответствие требовало объяснения, и последователи Эванса его предложили. По их утверждению, города материковой Греции (Микены, Афины и др.), воспользовавшись крахом крито-минойской державы, освободились от власти критских завоевателей и сами, в свою очередь, завоевали и колонизовали Крит. Иными словами, подъем микенской цивилизации в XIV–XII веках до н. э. следовало представлять себе как восстание провинции против ослабевшей метрополии, — закончившееся ее подчинением. Но и при этом, говорили «эвансисты», Микены никогда не поднялись до тех высот, которых достигли в минойские времена. Второе несоответствие выявилось в результате раскопок 1930-х годов — А. Вэйса в Микенах и К. Блегена в Пилосе. И тот, и другой нашли в этих древних центрах микенской цивилизации глиняные таблички с точно такими же письменами, какие Эванс нашел на Крите. И тот, и другой нашли в своих раскопках такие исторические и культурные свидетельства, которые невозможно было уложить в Эвансову схему истории материковой Греции как критской колонии, населенной тем же народом, что и сам Крит. Одновременно с этими данными в печати появились в те же годы многочисленные работы лингвистов, филологов и историков, детально проанализировавших накопившиеся к тому времени данные о греческой «предыстории». Опираясь на всю совокупность этих новых данных, противоречивших теории Эванса, Вэйс и Блеген в совместной статье выдвинули альтернативную теорию. Согласно их историко-культурной схеме, материковая Греция была заселена носителями индо-европейского (древнегреческого) языка уже в конце раннего бронзового века, примерно с 1900 года до н. э., то есть тогда же, когда началось становление крито-минойской культуры на Крите, и эти же племена непрерывно населяли страну вплоть до падения микенской цивилизации около 1100 года до н. э., иными словами, много позже краха крито-минойского царства. Проще говоря, Греция всегда была греческой, ее (микенская) цивилизация и культура были автохтонными (местными и независимо возникшими), а не крито-минойскими, и именно ее (то есть древнегреческая, микенская) письменность была письменностью Эвансовых табличек. Наличие же общих культурных элементов объясняется просто культурными и торговыми связями этих двух цивилизаций. Эта гипотеза вызвала бурные возражения сторонников теории Эванса. Они заявили, что все аргументы Блегена — Вэйса являются косвенными; прямое отношение к спору имеют только найденные ими таблички с письменами, но как раз этой находке можно дать очень простое и естественное объяснение: либо эти таблички были оставлены в Микенах и Пил осе критскими купцами, либо микенские «варвары», завоевавшие Крит после 1420 года до н. э., вывезли к себе критские таблички, а может быть, — и уцелевших писцов-грамотеев. Сами же микенцы не могли создать ничего культурно значительного, тем более — самостоятельной письменности, поскольку их «цивилизация» была попросту последней, предсмертной «судорогой» великой крито-минойской культуры, а на своей последней стадии цивилизации, как и живые организмы, ничего нового создать уже не могут: творческий расцвет сопровождает молодость культур. Возникший спор имел прямое отношение и к интересующей нас загадке Троянской войны. «Шлиманцы» вслед за своим учителем (а также приведенные к этому собственными исследованиями) все более приближались к признанию исторической реальности этой войны. «Эвансисты» вслед за своим догматичным мэтром утверждали, что после краха «дворцовой культуры» Крита «варварские» города материковой Греции попросту не способны: были на такую далекую и трудную военную экспедицию. Поэтому никакой Троянской войны не было. А рассказ Гомера о ней, говорили «эвансисты» вслед за своим великим учителем, есть не что иное, как воскрешение критского мифа! Подтверждение или опровержение этого радикального тезиса требовало новых раскопок, но время для этого наступило самое неподходящее — грянула вторая мировая война, и Греция вместе с Критом были захвачены немецкими войсками. Единственным доступным полем исследований остались одни лишь критские и микенско-пилосские глиняные таблички. Только в их загадочных письменах могли теперь исследователи искать (и надеяться найти) решение жестокого и непримиримого спора между последователями Эванса и последователями Шлимана, а заодно, и возможные свидетельства «за» или «против» реальности Троянской войны. Задача была из труднейших. Ситуация казалась безнадежной. Неизвестны были не только знаки «глиняной письменности» — неизвестен был и язык, который скрывался за этими знаками: Вэйс и Блеген полагали, что это какой-то диалект древнегреческого (очень «древне» — времен расцвета Микен, XIV–XIII веков до н. э.), сторонники Эванса считали, что это никому неведомый «крито-минойский» язык. Тем не менее все эти трудности удалось преодолеть. Таблички заговорили. >ГЛАВА 8 ЛИНЕЙНОЕ ПИСЬМО Б Итак, Вторая мировая война прервала археологические исследования, которые могли бы пролить дальнейший свет на загадку Троянской войны. В распоряжении ученых остались лишь глиняные таблички с загадочными письменами, найденные Эвансом на Крите и Блегеном в Пилосе, неподалеку от Микен. Первых было около 4 тысяч, вторых — около 600 (перед самой войной Вэйс нашел еще несколько табличек в Микенах; позже они были найдены также в Тиринфе и Орхоменосе). Как уже сказано выше, по мнению Эванса, «коллективным автором» этих табличек был тот неведомый народ, что создал крито-минойскую культуру, а затем распространил ее по всему Эгейскому архипелагу и материковой Греции. По мнению сторонников Шлимана, этим «автором» были древние греки (гомеровские «ахейцы»): письменность глиняных табличек, утверждали они, была высшим достижением созданной ахейцами «микенской цивилизации». Расшифровка загадочных табличек могла решить этот спор, но на пути такой расшифровки стояло несколько затруднений, и первое из них состояло в том, что таблички распадались на целых три класса. Действительно, исследования Эванса выявили существование на древнем Крите трех последовательных стадий развития письменности. Примерно с 2000 по 1650 гг. до н. э., в эпоху складывания крито-минойской цивилизации, на Крите господствовало чисто «пиктографическое» (рисуночное) письмо, в котором каждый рисунок (звезда, солнце, рука, голова, стрела и т. п.) обозначал соответствующее слово или понятие. Табличек с таким письмом сохранилось очень мало, и произвести их расшифровку нечего было и думать. Следующий класс табличек датировался временами расцвета крито-минойской культуры (1750–1450 гг. до н. э.): здесь рисунки уже упростились до схематических, линейных очертаний, поэтому Эванс дал этой письменности название «линейного письма А» (почему «А», сейчас станет ясно). Этим письмом были, в частности, выполнены надписи на некоторых камнях-амулетах и бронзовых изделиях, найденных в различных местах острова. Расшифровка линейного письма А наталкивалась на ту трудность, что надписей, им выполненных, было не так уж много. Наибольшие шансы имела попытка расшифровки третьего, еще более позднего типа письменности, которая получила название «линейного письма Б». Появление табличек с этим письмом датируется примерно 1450–1400 годами до н. э., и хотя более точную границы установить не удалось (никогда нельзя исключить возможность, что более ранние тексты просто не обнаружены), но предположительная дата той великой катастрофы, что разрушила крито-минойскую цивилизацию (1420 н. до н. а, по Эвансу), как раз попадает в этот промежуток времени. Любопытно также, что почти все таблички с этим письмом были найдены только в одном месте на Крите — в Кноссосе — и что почти все они, по оценке ученых, относятся к периоду после разрушения Кноссоского дворца (общее число таких табличек, найденных в Кноссосе, составляет, как уже было сказано, около 4 тысяч). Крайне интересно, однако, что таблички, найденные Вэйсом, Блегеном и другими археологами в Микенах, Пилосе, Тиринфе и других местах материковой Греции, тоже выполнены исключительно линейным письмом Б и тоже относятся к периоду после 1450–1400 гг. до н. э. Дело выглядит так, будто начиная с середины — конца XV века до н. э., с момента своего появления, линейное письма Б является общим и для Крита, и для городов материковой Греции. По сравнению с предшествующим письмом А его знаки представляются еще более упрощенными (впрочем, в некоторых случаях, напротив, более вычурными), хотя и среди них еще встречаются очевидные пиктограммы (схематические изображения людей, животных, сосудов и т. п.). К середине XX века, когда лингвисты занялись изучением линейного письма Б, уже были прочтены памятники многих древних письменностей, начиная с древнеегипетской, ассиро-вавилонской и хеттской, и уже существовали мощные методы их расшифровки. Каждое новое продвижение в этой области происходило путем сопоставления новой, неизвестной письменности с уже расшифрованными. Как правило, дешифровка облегчалась тем, что исследователь знал либо язык, слова которого были изображены неизвестными знаками, либо значения знаков неизвестного ему языка — по их сходству со знаками уже известных. Но в случае линейного письма Б не были известны ни значения знаков, ни стоявший за этими знаками язык. О знаках было известно лишь, что их общее число — порядка восьмидесяти (эта цифра неточна, потому что распознавание различных знаков затрудняется многочисленными разновидностями и вариантами написания). Для лингвистов эта цифра, однако, содержала важную информацию. Она означала, что линейное письмо Б не алфавитное. В алфавитном письме каждый знак отвечает одной гласной или согласной, поэтому число таких знаков мало (22, 26 и т. п.). В то же время оно не могло быть и чисто рисуночно-иероглифическим вроде современного китайского, потому что для такого («идеографического») письма нужны тысячи знаков (в китайском их, например, свыше 50 тысяч). Стало быть, это было силлабическое, слоговое письмо, в котором каждый знак (кроме рисунков, а также числовых и вспомогательных значков) соответствует одному определенному слогу. Первые попытки дешифровки этого слогового письма основывались на упомянутом выше методе сопоставления его с какой-нибудь уже расшифрованной древней письменностью, имеющей сходные знаки. В данном случае сходные знаки обнаружились в так называемом «кипрском письме», найденном на древних табличках с острова Кипр. К этому времени «кипрское письмо» было уже расшифровано: было показано, что его знаки соответствуют отдельным слогам греческого языка. Однако прямая подстановка значений этих слогов под сходные знаки в критских табличках привела к полной абракадабре: отдельные слоги не собирались ни в какие осмысленные слова. Это говорило в пользу гипотезы Эванса, утверждавшего, что язык табличек не имеет ничего общего с греческим, а принадлежит тому неведомому народу, который создал крито-минойскую цивилизацию. В результате гипотеза о «крито-минойском языке табличек» обрела такой авторитет, что к ее оппонентам стали относиться как к еретикам. Даже такой знаменитый ученый, как профессор А. Вэйс, поплатился за эту ересь — руководство университета отстранило его на время от раскопок в Микенах. Не будем рисковать и поступим соглашательски — признаем, что знаки линейного письма Б изображают отдельные слоги неведомого «крито-минойского» языка. В таком случае мы оказываемся в тяжелейшем положении. Поскольку язык этот никому неведом, то неизвестны ни его слова, ни, естественно, их слоги, а стало быть, неизвестно, какие звуки подставлять под разные знаки табличек — нет никакой зацепки. Нужно найти хотя бы какие-то правдоподобные слова и их слоги, иначе нельзя даже сдвинуться с места. В поисках этих слов и слогов первые исследователи линейного письма Б стали обращать взгляды во все мыслимые и даже немыслимые стороны. Одни утверждали, что «крито-минойский» язык, скорее всего, не принадлежит к семейству индоевропейских, а потому может быть похож на современный баскский (поскольку баскский является единственным неиндоевропейским языком в нынешней Европе). Другие полагали, что он должен быть похож на древний этрусский (поскольку традиция утверждала, что этруски пришли в Италию с островов Эгейского моря, близких к Криту). Болгарский лингвист Георгиев объявил «крито-минойским» языком изобретенную им смесь греческого с элементами других индо европейских языков; его теорию энергично поддерживали в сталинском СССР. А пионер расшифровки хеттского языка чешский лингвист Б. Грозный, взявшийся на старости лет разгадывать поголовно все еще не расшифрованные языки, предложил свою трактовку крито-минойских линейных начертаний как произвольной смеси хеттских, древнеегипетских, протоиндийских и даже финикийских письменных знаков; эта гипотеза оказалась такой же бесплодной, как «расшифровка» Георгиева. Тем не менее не все попытки были одинаково безрезультатны. Среди них оказались и удачные. Так, А. Коули разгадал с помощью пиктограмм знаки, характеризующие девочек и мальчиков; Алиса Кобер опознала знаки, которые обозначают пол людей и животных, а также меняют форму слова, как при склонении по падежам (эти «падежные окончания» она нашла, обнаружив на табличках комплексы знаков (слова), в которых все знаки, кроме последнего, были одинаковы); Беннет, анализируя количество одинаковых фигурок в разных частях таблички, выявил знаки для системы счета. Но великую заслугу полной и окончательной расшифровки линейного письма Б нужно отнести, несомненно, на счет англичанина Майкла Вентриса. Этот молодой английский архитектор (в годы второй мировой войны — штурман самолета-бомбардировщика) увлекся загадкой критского письма еще в детстве, а первую свою работу по его дешифровке опубликовал уже в 1940 году в возрасте 18 лет. Поначалу, подобно многим другим, Вентрис предлагал на роль неизвестного языка табличек этрусский. Попытки в этом же направлении он продолжил и после войны и окончания университета. Однако в 1952 году после нескольких лет напряженных размышлений, интенсивных поисков и обширной переписки с другими исследователями он пришел к совершенно новой, революционной гипотезе, опробование которой очень быстро привело его к решающему прорыву. Невзирая на всё, сказанное выше, о нерушимом авторитете гипотезы Эванса, Вентрис рискнул предположить, что язык загадочных табличек не какой-то там «крито-минойский», а все-таки древнегреческий, только очень архаический его диалект — микенский, на котором говорили за 500 лет до Гомера. И действительно, оказалось, что стоит подставить под знаки табличек слоги этого диалекта, как сквозь беспросветную чащу линий и черточек начали проступать первые понятные слова. Каким же путем Вентрис пришел к своей гипотезе? Прежде всего, он опирался на достижения некоторых своих предшественников. Уже Эванс понял, что большинство текстов на его табличках — это хозяйственные списки: в них явно просматривались какие-то подсчеты и суммы. Как уже говорилось, среди линейных знаков текста отчетливо выделялись отдельные пиктограммы — изображения мужчин, женщин, лошадей, амфор, треножников, колесниц, колес и т. п., и это позволяло, понять, какие именно объекты подсчитывались. А.по значкам в итоговых суммах можно было угадать и систему счисления (это сделал Беннет). Выше я уже упоминал о других разгадках — знаках пола, возраста, падежей. Чтобы продвинуться дальше, нужно было прибегнуть к комбинаторике, и Вентрис начал с составления статистических таблиц: какова частота употребления каждого знака, какова частота его появления в начале, середине и конце слова и так далее. Это привело его к определенным важным выводам. Так, он заметил, например, что в начале слов преобладают три знака, под номерами 08, 61 и 38 (такими номерами Вентрис обозначил все различные знаки линейного письма Б в составленной им сводной таблице). Они появлялись также внутри слова, но почти никогда не встречались в конце. Вентрису было известно, что в слоговом письме слог, состоящий из отдельной гласной, редко появляется внутри слова, но часто — в его начале (это подтверждала, в частности, упомянутая выше кипрская письменность). Отсюда следовало, что подмеченные им знаки, скорее всего, означают гласные. Далее, знак 78 очень часто заканчивал слова в различных суммированиях однородных предметов (вроде: пять / рисунок кувшина / 78 шесть / рисунок кувшина / 78 и так далее), за которыми следовала общая сумма («равно тому-то»). Было разумно предположить, что знак 78 означает союз «и», заменяющий (очевидно, не известный критянам) знак «плюс»: «Пять кувшинов и шесть кувшинов и так далее равно такому-то числу кувшинов». В некоторых случаях Вентрису помогали ошибки писца: подметив, к примеру, что знак 28 очень часто исправлялся писцом на 38 (а на глиняных табличках эти замены были очень хорошо видны), он заключил, что соответствующие слоги, видимо, весьма близки (вроде сходства слов «то» и «до», которое действительно может приводить к частым опискам). Все эти догадки и предположения позволили Вентрису в конце концов составить таблицу знаков, в которой они были разделены на «предположительно гласные» и «предположительно согласные», а затем построить таблицу повторяющихся комбинаций тех и других. Некоторые из этих комбинаций оказались повторяющимися, причем одни из них наличествовали как в кноссоских, так и пилосских табличках, тогда как другие — только в тех или других. В известных к тому времени угаритских и других надписях Ближнего Востока такие повторяющиеся комбинации знаков обычно означали названия городов и групп населения. Вентрис сделал смелое предположение, что это верно и для его табличек. Тогда комбинации, присущие только критским табличкам, могли означать названия городов или местностей на Крите вблизи Кноссоского дворца. Одно такое «критское» сочетание — 70-52-12 — повторялось особенно часто, и Вентрис предположил, что эти слоги как раз и образуют слово Кноссос: «ко-но-со». Рядом с ним часто возникало сочетание 08-73-30-12, и можно было думать, что это слово (кончающееся на 12, т. е. тоже на «со») является названием какого-нибудь важного места вблизи Кноссоса; одно такое название было известно еще из Гомера: Амниос, близлежащая торговая гавань. В слоговом (древнем) написании оно должно было выглядеть скорее всего как «а-ми-ни-(о) — со», что позволяло определить написание еще трех слогов. Дальше Вентрис рассуждал так: согласно Коули, комбинации знаков для девочек и мальчиков — это 70–42 и 70–54; если 70 — это «ко», то оба слова имеют вид «ко-42» и «ко-54». В греческом языке среди прочих названий для мальчиков и девочек есть «корос» и «коре»; в ионийском диалекте Гомера «корос» звучит как «коурос», в дорийском диалекте — как «коруос»; быть может, исходным (древнемикенским) были «корвос» (а для девочек — «кор-ва»)? Это добавляет еще два слога в таблицу. Работа Вентриса, таким образом, отчасти напоминала решение кроссворда, где разгадка первых слов все более и более облегчает разгадку следующих, но лишь в том случае, если каждое очередное слово читать именно по-гречески («по-древнемикенски»). Тем самым вероятность того, что язык табличек — действительно древнегреческий, а не какой-то крито-минойский, постепенно усиливалась. К 1952 году Вентрис (работая теперь совместно с кембриджским специалистом по греческим диалектам Джоном Чадвиком) расшифровал слоговые значения почти всех знаков «линейного письма Б» и составил их сводную таблицу. Однако многие специалисты (в особенности ярые сторонники «крито-минойского» происхождения табличек) не верили в эту «греческую» расшифровку и требовали в качестве решающего эксперимента, чтобы Вентрис прочел с ее помощью незнакомый текст (т. е. текст, не использованный при составлении самой таблицы). И Вентрис блестяще справился с этой задачей: получив от Карла Блегена еще не опубликованную табличку из Пилоса и применив для ее расшифровки найденные им слоговые (греческие) значения знаков, он получил связный й осмысленный текст! После этого чтение табличек пошло полным ходом, и уже в 1956 году Вентрис и Чадвик опубликовали толстый том «Документов микенского греческого языка», где было собрано большое число расшифрованных ими к тому времени текстов. А через две недели после выхода этого главного труда своей жизни 34-летний Майкл Вентрис погиб в автомобильной катастрофе. >ГЛАВА 9 ХЕТТСКИЕ СОСЕДИ История расшифровки линейного письма Б бесконечно интересна сама по себе, но скажем честно: мы не стали бы ею так долго заниматься, если бы одна деталь этой истории не имела прямого отношения к интересующей нас загадке Троянской войны. Вот она, эта важная и далеко ведущая деталь. В строках глиняных табличек из Пилоса то и дело встречаются перечни рабов и рабынь, работавших в царском хозяйстве (кстати, термин для обозначения этих людей, «лавийяйи», произведен от того же слова «лавия», «добыча», которое употребляет Гомер в 20-й песне «Илиады», рассказывая о пленницах, захваченных Ахиллом: «…множество жен полонил и, лишив их жизни свободной, в рабство увлек»). Если вдуматься, эти упоминания о рабах и рыбынях отнюдь не удивительны — рабский труд составлял в те времена один из главных хозяйственных устоев всех империй и царств. Любопытней другое. Зачастую рядом со значками, обозначающими рабов, обнаруживаются слова, которые можно расшифровать как указание, где именно эти рабы захвачены. Например, один такой (особенно подробный) список из Пилоса насчитывает около 600 женщин и 700 детей рабского сословия, причем о части из них сказано: «Из Милета» («милатийяйи»), что свидетельствует о походах микенцев к этому городу, находившемуся на западном побережье Малой Азии: В другом месте читаем о рабыне родом из местности «Асийяйи», что сразу напоминает (специалисту, конечно) слово «Ассува» — тогдашнее название обширного региона на том же побережье, позднее трансформировавшееся в греческое название для всей Малой Азии — «Асия». А одна из таких «пленниц» в пилосском списке и вообще характеризуется как «То-ро-ва» — может быть, «из Трои»? Впрочем, подобные фонетические сходства следует толковать крайне осторожно. Не зная, по каким законам меняются со временем гласные и согласные в данном языке, а также как они меняются при переходе от языка к языку (а лингвисты уже обнаружили множество таких законов), очень легко попасть впросак и принять желаемое за действительное. Не будем поэтому торопиться и выделим лишь то, что является несомненным. Несомненным во всем ранее сказанном представляется тот факт, что перечисленные выше упоминания «микенских» табличек о рабах и рабынях, будучи сведены воедино, убеждают нас, что уже в XV–XIII веках до н. э. (пилосские таблички относятся именно к этому времени) микенские и другие цари Ахейи совершали довольно частые походы за «живым товаром» в Малую Азию (в район Милета и «Ассувы»). Этот вывод настолько важен для наших «поисков Трои», что немедленно возникает волнующий вопрос: подтверждается ли он какими-либо другими фактами? Оказывается, да. Оказывается, в ходе новейших археологических раскопок на западном побережье Малой Азии обнаружено уже более 25 мест, где бытовала в больших количествах микенская посуда XV–XIII веков до н. э. Места эти концентрируются в центральной и южной части побережья, вблизи Эфеса и упомянутого выше Милета{15}. Более того, установлено, что микенцы, видимо, составляли заметную часть постоянных жителей тогдашнего Милета (а также, возможно, и некоторых других малоазийских мест). Действительно, этот город, основанный критянами и долго, сохранявший связи с Критом, в какой-то момент, примерно в 1450–1440 гг. до н. э., что совпадает со временем захвата Крита микенцами, резко меняет свой облик: он перестраивается, в нем воздвигается крепость, строятся храм Афины и дома с типично греческими большими залами — «мегаронами» — и т. п. Аналогичные приметы греческого пребывания появляются в то же время в соседних малоазийских городах Эфесе, Книде и других, а также в других бывших критских владениях — на островах Родосе, Хиосе и Самосе, лежащих у побережья Малой Азии. Иными словами, все критское стало теперь микенским. Как говорится, «убил — и еще наследовал». Это делает понятным упоминания о рабах в пилосских табличках. Разумеется, владея столь многими опорными пунктами у берегов Малой Азии и даже на ее побережье, ахейцы вполне могли совершать с этого плацдарма не только спорадические, но и вполне регулярные вылазки за рабами и рабынями в глубь малоазийского полуострова. Все эти факты интересны и сами по себе, ибо рисуют картину микенской цивилизации XIV–XIII веков до н. э. как весьма внушительного по размерам и военной силе царства, территория которого включала не только материковую Грецию, но также многочисленные острова Эгейского моря и даже прилегающее к ним побережье Малой Азии. Мы уже видели такую картину — в гомеровской «Илиаде», разумеется, где же еще! — но на сей раз уже не нужно гадать, достоверна ли она, на сей раз исторический фон гомеровского рассказа подтвержден как точными данными археологии, так и показаниями критско-микенской письменности. Это крайне интересно. Но у перечисленных выше фактов есть и другой, не менее важный аспект. Наличие форпостов Микенского царства на берегах Малой Азии и его неустанные попытки проникновения в поисках «живого товара» все дальше и дальше в глубину полуострова неизбежно должны были приводить к столкновениям ахейцев с другим могучим царством, которое в те же времена доминировало в этих же местах, вплоть до Милета и Трои, — с государством хеттов, с Хеттской империей. А если так, то можно думать, что конфликты двух столь серьезных противников могли найти какое-то отражение в том или ином хеттском клинописном тексте — ведь хеттские цари, как мы сейчас убедимся, вели обширную и детальную документацию всех своих военных, дипломатических и торговых действий. Продолжая эту логическую нить, мы приходим к очередному важному выводу: не исключено, что искомые нами отголоски Троянской войны (которая вполне могла быть одним из таких малоазийских «территориальных конфликтов») тоже могут обнаружиться в каких-нибудь хеттских текстах XV–XIII веков до н. э. Этот вывод заставляет пристальней присмотреться к хеттам, к их истории и в особенности, как мы уже сказали, к письменным памятникам этой истории. Хеттское царство часто называют «забытым». Действительно, долгое время господствовало представление, будто главными действующими лицами на древней ближневосточной сцене были египтяне да ассирийцы. Хетты воспринимались в духе многочисленных упоминаний в Библии (в той её части, которая у евреев называется «ТАНАХ», а у христиан — «Ветхий завет» для христиан), где о них говорится в основном как об одном из второстепенных племен («Хиттим»), встреченных евреями, когда они вернулись из египетского рабства в Палестину: например, красавица Батшева (в современном произношении Вирсавия), так возбудившая любострастие царя Давида, была женой «Урии Хеттеянина», т. е. хетта. Лишь в двух местах ТАНАХа мельком говорится о «хеттейских царях». В действительности, однако, хетты были не столько «зат бытыми», сколько, скорее, «неопознанными» участниками ближневосточной истории. Когда археологи обнаружили в Карнаке и других местах Египта стеллы с отчетом о великой битве при Кадеше (1275 г. до н. э.), эта историческая роль хеттов сразу стала очевидной: выяснилось, что фараону Рамзесу II противостоял в этой битве не кто иной, как «Великий Царь Хатти», армия которого включала воинов «шестнадцати народов» и насчитывала 2500 боевых колесниц! «Узнавание» хеттов получило огромный толчок, когда в 1834 году на поросшем дикими колючками холме вблизи заброшенной турецкой деревеньки Богазкёй в, Анатолии были открыты развалины бывшей хеттской столицы Хаттусы. Остатки ее могучих стен позволяли думать, что когда-то они тянулись на добрых три-четыре километра в длину и, следовательно, заключенный внутри них город не уступал по размерам Афинам в пору их высшего расцвета; там и сям на холме еще сохранились следы высившихся здесь некогда огромных храмов, посвященных каким-то неведомым богам, остатки львиных фигур, украшавших громадные ворота, и обломки странных скульптур, покрытых иероглифами на неизвестном языке. Вскоре аналогичная крепость, хотя и меньших размеров, была раскопана в Каркемише, а иероглифы, аналогичные богазкёйским, обнаружились во многих местах Сирии и Северного Ирака, а также Центральной и Западной Турции. Стало очевидно, что хеттское государство занимало огромную по тем временам территорию и его влияние ощущалось от западного побережья Малой Азии до Северной Сирии и верховий Тигра и Евфрата; иными словами, по размерам и силе оно не уступало тогдашним Египту и Ассирии. Эти представления были подтверждены открытыми в 1887 году глиняными табличками из Тель-Амарны (Сирия), содержавшими переписку фараонов XV–XIV веков до н. э. с мелкими сирийскими и палестинскими царьками, в которой удостоверялась реальность хеттской гегемонии в этих местах задолго до битвы при Кадеше. Но главный свет на историю хеттов пролили найденные в 1906–1908 годах Винклером таблички из Богазкёя, общим числом около 10 тысяч, с текстами на восьми языках (хеттский, аккадский, шумерский и др.), что, кстати, красноречиво свидетельствовало о многонациональном характере хеттского царства. Хеттские тексты этих табличек были расшифрованы во время первой мировой войны и вскоре после нее, и пионером здесь был уже упомянутый нами чешский лингвист Бедржих Грозный. Благодаря этим текстам история хеттов известна сегодня во многих подробностях. К сожалению, даже самое краткое знакомство с ней не может обойтись без упоминаний царских имен, ибо только перечисление последовательных царствований позволяет хоть как-то сориентироваться в хеттской хронологии. Говорю «к сожалению», потому что имена этих царей, как это сейчас же станет очевидным, зачастую труднопроизносимы. Хетты говорили на языке индо-европейской группы, близком к языкам других жителей тогдашней Анатолии — лувийцев, ликийцев и т. п. (эти языки тоже теперь расшифрованы), и пришли в свои земли откуда-то с северных берегов Черного моря, по всей видимости, за две — две с половиной тысячи лет до н. э., но надежное знание генеалогии их царей начинается лишь с 1650 года до н. э. (отрывочные сведения о более ранних временах, содержащиеся в некоторых ассирийских источниках, имеют туманный характер). В 1650 году до н. э. на трон объединенного хеттского царства взошел Хаттусилис Первый, прославившийся завоеванием царства Алеппо в Сирии; ему наследовал его внук Мурсилис, завоевавший долину Евфрата вплоть до Вавилона, а затем, после продолжительных династических распрей, — потомки Мурсилиса: Телипинус, его сын Аллувамнас и ряд последующих, не очень точно известных правителей. Этот период называется «Старым царством»; он продолжался до начала XV века до н. э., когда на трон взошел Тудхалйяс (по-видимому, второй по счету с таким именем), открывший славную эпоху «Нового царства». В эту эпоху хеттская держава стала подлинной империей, т. е. конгломератом многих народностей — в ее состав входили около 20 крупных городов и 40–50 «земель» (небольших царств и отдельных полисов вроде Алеппо, Дамаска, Хацора, Тира, Сидона и т. п.). Около 1400 года до н. э. правителем этой империи стал Тудхалйяс Третий; около 1380 года его сменил Суппилулиумас (я предупреждал!); примерно в 1340 году до н. э. на трон взошел Мурсилис Второй, а около 1315-го — Муватталис, о котором нам еще придется не раз говорить; за ним правили Мурсилис Третий (1296–1289) и, наконец, Хаттусилис Третий (1289–1265); он, видимо, и был тем хеттским царем, который сражался при Кадеше. Особенно интересными с нашей, «троянской», точки зрения являются последние 70 лет существования хеттской империи — времена царей Тудхалияса Четвертого (1265–1235), Арнувандаса Второго (1235–1215) и Суппилулиумаса Второго (1215–1190 гг. до н. э.); они интересны для нас потому, что включают те годы, к которым античная традиция относит Троянскую войну, а археологи — пожар Трои-7а. Они были также последними в истории хеттов, потому что вскоре после смерти Суппилулиумаса Второго или даже при нем, примерно в 1190 году до н. э., в страну вторглись неведомые завоеватели, которые захватили и сожгли столицу Хаттуса (Богазкёй) и положили конец великой Хеттской империи. Перед тем, как задернуть занавес над ее историей, обратим еще внимание, что время гибели объединенного хеттского государства практически совпадает со временем столь же внезапной и столь же загадочной гибели объединенной микенской цивилизации (примерно 1200 год до н. э.) — и тоже под натиском неведомых завоевателей. Если добавить, что примерно тогда же подвергся вторжению и Египет, то череда многозначительных совпадений станет слишком широкой, чтобы быть случайной, и это порождает некоторые предположения, разговор о которых мы, однако, отложим на конец нашего очерка. История хеттов могла бы стать предметом увлекательного рассказа, и даже не одного, но сейчас нас интересует в ней лишь ее узкий «ахейско-троянский» аспект. Этот наш интерес не оригинален: задолго до нас, с самого начала расшифровки хеттских документов, многие лингвисты и историки стали искать в них следы хеттско-ахейских контактов (а многие — и отголоски Троянской войны) и кое-что даже успели найти. В частности, на некоторых глиняных табличках из Богазкёя они обнаружили такие тексты, которые на первый взгляд недвусмысленно указывают на ахейцев и свидетельствуют о давних контактах хеттов с ахейским государством. Действительно, в некоторых хеттских документах (их насчитывается свыше 20) фигурирует некое (заморское?) царство Ахиява (хеттское Ahhijaawa), название которого так похоже на слово «Ахайвой» (так Гомер именует своих героев-ахейцев), что кажется попросту немыслимым истолковать его как-то иначе. В этих текстах встречаются и другие, столь же впечатляющие совпадения, например, Lazpas — какая-то страна, связанная с Ахиявой: это название почти до очевидности похоже на Лесбос — остров в Эгейском море у берегов Анатолии вблизи Трои; или Milawata — город на территории Ликии, находившийся в те времена под властью царей Ахиявы, — название, весьма похожее на Милет, древнегреч. «Миллатос», который, как мы уже говорили, действительно представлял собой в ту пору главный ахейский форпост в Малой Азии. Эти совпадения простираются и на имена собственные: так, исследователи обнаружили в текстах, связанных с Ахиявой, имя Tawakalawas, что с учетом различия произношений очень похоже на греческое «Этеоклес», которое в пилосских табличках зафиксировано как Etewoklewelos; а также совсем уж поразительное Attarisijas, которое можно прочесть как Atressias, что очень близко к имени легендарного греческого героя Атрея, родоначальника всех микенских царей-Атридов вплоть до Агамемнона. В 1924 году Эмиль Форрер, швейцарский лингвист и историк, один из главных дешифровщиков хеттских глиняных табличек, опубликовал статью «Догомеровские греки в клинописных — текстах из Богазкёя», в которой на основании перечисленных выше фактов и множества других, более тонких, но не менее впечатляющих сличений выдвинул гипотезу, что в соответствующих хеттских документах, откуда они были извлечены, речь действительно идет об «ахейской» (микенской) цивилизации времен Троянской войны и ранее, что эта цивилизация (объединение городов-царств во главе с Микенами) была издавна и хорошо известна хеттам и что контакты Хеттской империи с Ахиявой, временами дружеские, временами кровавые, продолжались на протяжении нескольких веков вплоть до эпохи Троянской войны и последовавшего вскоре после нее загадочного краха обеих держав. На наш несведущий взгляд, после всех перечисленных выше совпадений эти утверждения почти самоочевидны, поэтому покажется, наверное, неожиданным, что толкование Э. Форрера вызвало поначалу крайне резкую критику крупнейших хеттологов того времени и, прежде всего, Фердинанда Зоммера — автора фундаментального исследования, в котором были собраны и прокомментированы все хеттские источники с упоминаниями Ахиявы. С этого начался затяжной «спор об Ахияве», к которому и нам стоит присмотреться, так как он напрямую связан с интересующей нас проблемой исторической достоверности Троянской войны. Надо же знать, у кого какие аргументы… Критика гипотезы Форрера шла главным образом со стороны лингвистической. Оппоненты утверждали, что его фонетические сближения — Ахиява — Ахейя, Аттарисиас — Атреус — весьма произвольны и противоречат законам греческого и хеттского языков (например, хеттское «ийя» в слове Ахийява никак нельзя свести к греческому «аи» в слове Ахайвой). А кроме того, двадцать с лишним упоминаний Ахиявы в хеттских текстах — число, конечно, внушительное, но лишь до-тех пор, пока мы концентрируем внимание на одной Ахияве; оно сразу становится ничтожным, когда вспомнишь о многих тысячах (!) упоминаний Египта или Ассирии. Стало быть, предположение о «мощи» Ахиявы не так уж убедительно — это царство вполне могло быть и не таким уж большим, чем-то вроде других царств на западном берегу тогдашней Малой Азии или в Эгейском море — и может быть, именно там оно и располагалось. Исходя из подобных рассуждений, Ф. Зоммер помещал Ахияву вблизи Милета; Б. Грозный — на острове Родос; П. Кречмер — на крайнем юге Малой Азии (нынешняя Анталйя), Дж. Маккуин — возле Трои, а Дж. Мелларт — вообще во Фракии, на противоположном от Трои берегу Мраморного моря, на месте нынешней Румынии и Болгарии. Как насмешливо заметил один из корифеев хеттологии Ф. Шахермайр, «противники Форрера готовы были локализовать Ахияву хоть на Луне, лишь бы не на греческом континенте». Однако по мере того как археология уточняла истинные масштабы ахейского присутствия в Эгейском море и в Малой Азии, гипотеза Форрера начала привлекать все большее сочувствие ученых, и сегодня совпадение «Ахиявы» с какой-то частью ахейского мира считается почти доказанным. Спор идет скорее о том, включали хетты в это понятие всю микенскую цивилизацию или только ее форпосты в Малой Азии, Но в пользу первого предположения говорит тот факт, что в некоторых хеттских документах перед словами «царь Ахиявы» стоит значок, означавший у хеттов что-то вроде «Его Величество» титул, которого удостаивались в хеттской официальной переписке только цари Египта и Ассирии. О «величии» Ахиявы косвенно говорит и другой факт: в 1981 г. в греческих Фивах были найдены 36 ляпис-лазуревых печатей, происхождение части которых надежно прослежено до храма Мардука в Вавилоне, некогда ограбленного ассирийцами. Печати найдены в том слое, который соответствует времени хеттских попыток блокировать ассирийскую торговлю. Не были ли они подарком ассирийцев, пытавшихся привлечь Ахейю на свою сторону против хеттов? Эти и другие аналогичные свидетельства значимости Ахиявы постепенно побудили большинство ученых признать, что великий царь Ахиявы, равный по рангу царям других великих держав того времени, не мог быть правителем какой-то страны в Анатолии, где не было места ни для какой великой державы, кроме Хатти, и потому мог быть лишь царем материковой Греции. Итак, по нынешнему мнению большинства ученых, хеттская «Ахиява» — это действительно Микенское царство XV–XIII веков до н. э., а коль скоро это так, нам, конечно же, следует обратиться к хеттским текстам об отношениях с Ахиявой — ведь где-то там могут скрываться и упоминания о Трое, а может быть, и о Троянской войне. Сейчас мы этим займемся. Мы уже близки к финишу. >ГЛАВА 10 ТРОЯ В ХЕТТСКИХ ДОКУМЕНТАХ Хеттские клинописные тексты, сохранившиеся на десяти с лишним тысячах глиняных табличек из Хаттусы (Богазкёя), — это подлинная сокровищница исторических документов, на страницах которой запечатлены живые, яркие образы царей и полководцев, впечатляющие описания битв и походов, сложные и тонкие дипломатические интриги международной политики. В сравнении с этим тексты крито-микенского линейного письма Б выглядят как сухие безжизненные перечни, сквозь которые едва сквозят смутные силуэты мертвых предметов и безвестных людей. Но хеттские тексты не исключение на тогдашнем Востоке. Такую же широкую, яркую, поразительно выпуклую картину сложной политической и культурной жизни далекого прошлого запечатлели и памятники двух других великих держав той эпохи — Древнего Египта и Древней Ассирии. В этой связи английский историк Майкл Вуд меланхолически замечает: «Увы, микенская Греция находилась на периферии этого «клуба избранных»…» И он прав: в сравнении с хеттской, египетской и ассирийской цивилизациями XV–XIII веков до н. э. с их бесконечными территориями, огромными столицами и громадными военными полчищами материковая Треция тех времен — даже в любовном описании Гомера — кажется «убогой» и «варварской»; этакий архаичный вариант «рыцарской Европы» с ее безграмотными королями и утопавшими в грязи городами или же более знакомой нам Киевской Руси времен какого-нибудь Святослава или Владимира. Подобно Агамемнону и Ахиллу у Гомера, и те ведь ходили походами на Царьград с окраин своей ойкумены, и у тех всех радостей было — пировать в шатрах, враждовать друг с другом из-за пленниц или золота да схватываться с врагами в богатырских поединках. Боги, однако, смеются: где сегодня те византийцы — и где славяне? Где те хетты — и где греки? Именно таким «варварам» история, как правило, дарует великое будущее: пройдет лишь несколько столетий, и Хаттуса будет лежать в развалинах, а Афины станут центром ойкумены: там Платон будет учить Аристотеля, на Самосе родится Пифагор, а на Косе — Гиппократ, и греческие корабли разгромят самую крупную сухопутную державу азиатского континента — империю персов, которая к тому времени сменит хеттов, а потом Александр Македонский высадится в Малой Азии, чтобы завоевать и преобразить Восток. В описываемые нами годы до этого, однако, еще далеко, и, глядя на варварский городок Афины, никто не рискнет предсказать им великое будущее. Хетты еще правят в Малой Азии: их империя занимает всю центральную часть этого огромного полуострова, оползая по карте вниз, на юг, в Сирию и Двуречье, словно под грузом собственной тяжести. На западе она контролирует множество мелких полунезависимых царств на побережье Эгейского моря. Среди них и Милет — видимо, он находится в двойном подчинении (термин Шахермайра): подчиняется Микенам, но официально лоялен по отношению к Хаттусе. Эти места нас и интересуют — здесь, в их северо-западном углу, лежит Троя. Политическая география этого побережья сложна и запутанна, и хеттские тексты мало помогают в ее прояснении. Огромная хеттская держава мало интересуется этими местами: она требует лояльности от всех местных царствишек, ее цель — поддерживать нерушимый порядок в своих пределах, и лишь в те редкие периоды, когда чей-то серьезный мятеж или вторжение его нарушат, она вспоминает об этих местах и шлет туда армию, чтобы восстановить положенный миропорядок. Немудрено, что хеттские документы плохо и путано фиксируют местную географию — они и Ахияву-то, как мы видели, упоминают нечасто, в основном именно в связи с ее вторжениями или интригами на побережье. Все же можно восстановить, что главным царством на побережье хетты считали Арцаву (Аггауф), о местонахождении которой хеттологи по сей день ведут яростные споры. Одни помещают ее в юго-восточной части полуострова, и на карте в старой «Британской энциклопедии» вы увидите именно этот вариант, другие — их подавляющее большинство — отстаивают теорию «западной» Арцавы, в центре западного побережья Малой Азии, со столицей в Апасе, греческом Эфесе. Здесь, на западе, действительно раскопаны крупные города и роскошные дворцы, каких нет на юге; но главное — западное расположение Арцавы много лучше согласуется с имеющимися сведениями о соседних с ней царствах — Мира, Хапалла и Страна реки Сеха. На карте «Британники» они показаны севернее «южной» Арцавы, то есть уже в глубине малоазийского полуострова, но хеттологи показали, что название «Мира» точно сопоставимо с греческим «Мирос» — названием реки северо-восточнее Эфеса, а слово «Хапалла» — Со словом «Капалла», которым греки обозначали область побережья северо-западней Эфеса. Если принять «западное» размещение этих двух соседних с Арцавой царств, то и третий ее сосед, Страна реки Сеха, тоже найдет правильное место — еще дальше на север, в той части побережья, что против острова Лесбоса. То, что это размещение правильное, подтверждается упоминанием хеттских источников, что эта страна граничит со страной Lazpas, что как раз и означает, как мы уже говорили выше, греческий Лесбос. Все перечисленные царства вместе с Арцавой иногда именуются в хеттских документах одним словом «Ассува», которое замечательно близко к тому слову «Асуйя» (позднее — «Асия»), которым в крито-микенских табличках обозначается одно из главных мест, где ахейцы добывали себе рабов в набегах на малоазийское побережье. Видимо, такое единое обозначение следует понимать в том смысле, что все эти западные прибрежные царства время от времени объединялись в борьбе против власти хеттов, и потому хетты знали их как единого врага; это толкование действительно подтверждается списком городов-государств «Ассувы», перечисленных в «Анналах» царя Тудхалияса Четвертого. Может показаться, что мы копаемся в ненужных подробностях, но это не так: двигаясь от одного прибрежного царства к другому, мы имеем важную тайную цель — найти местоположение самого загадочного из них, которое в перечне из «Анналов» Тудхалияса именуется «Вилуса» (по-хеттски — Wilusija). Это название идет в перечне сразу же после другого, — еще более примечательного — «Truisa», которое тотчас и главным образом приковало к себе внимание исследователей (прежде всего Э. Форрера), попытавшихся отождествить его с гомеровским «Troih», т. е. Троей! Эта попытка встретила возражения других ученых, ибо хеттские знаки этого слова допускали несколько возможностей чтения (Форрер выбрал из них самую удобную для своих целей), и потому хеттологи, отложив на будущее загадку «Труисы», переключились на поиски Вилусы, и вот тогда-то П. Кречмер первым привлек для сравнения с ее названием греческое слово «Илион», или «Илиос», в котором, вглядываясь в особенности гомеровского языка, он выявил некогда существовавшее, но выпавшее начальное «В» — «Вилиос». Гипотеза Кречмера вскоре получила поддержку. При анализе хеттских текстов конца XIV века до н. э. времен царя Муватталиса выявилось, что тогдашний правитель Вилусы, некий Alaxandus (обратите внимание на это имя!) обратился к хеттам за помощью против соседей, отдав себя под власть Муватталиса. Между тем из много более поздних византийских хроник известно, что был в Византии город, основанный, по легенде, «царем Мотилом», который принимал там «Париса и Елену». Напомнив, что второе имя Париса было Александр, Кречмер предположил, что «Мотил» — это искаженное временем и легендой «Муватталис». Более того, в другом хеттском документе упоминается царь — предшественник Алаксандуса, по имени Кукунис, которое Кречмер отождествил с именем царя Кикна, упоминаемого в «Илиаде»: согласно Гомеру, он правил в городе Колоны, южнее Трои, и первым пришел на помощь осажденной Трое. Все эти совпадения побуждают сопоставить Вилусу с гомеровским Илиосом, или Троей. И действительно, если следовать перечню прибрежных царств в «Анналах» Тудхаилияса, то местонахождение загадочной Вилусы естественным образом совмещается с положением Трои. Может быть, Труисой в списке Тудхалияса называлась местность, окружавшая город, т. е. тот район, который мы сегодня называем Троадой? Ведь и у Гомера Троя и Илион-Илиос часто упоминаются так, будто Троя понимается и как город, и как страна (Троада), а Илион — только как город (мы говорили об этом в 3-й главе). Как бы то ни было, но в хеттских текстах перед словом Вилуса иногда стоят сразу два значка — страны и города, так что все вместе читается как «страна города Вилуса», а иногда только знак страны — «царство Вилуса». Это царство упоминается весьма часто, что создает впечатление давнего знакомства хеттов с этим районом. Самый первый «вилусский» документ хеттов — договор Алаксандуса и Муватталиса — рассказывает, что некогда хеттам подчинялась и Вилуса, и Арцава; позднее Арцава отпала, но Вилуса оставалась с хеттами в мире и дружбе, и отец Алаксандуса царь Кукунис даже оказал отцу Муватталиса — царю Мурсилису — помощь против Арцавы. Далее в этом документе следует: «У Кукуниса… было… вот он…» Исходя из того, что точно такое же сочетание слов было найдено в другом хеттском документе — об усыновлении одним хеттским царем некоего принца из страны Мира, историк И. Фридрих выдвинул смелую гипотезу, что и тут нужно читать: «У Кукуниса (не) было (детей), вот (он тебя, Алаксандус, и усыновил)». Гипотеза может показаться даже слишком смелой, учитывая скудость наличного текста, но ее делает привлекательной упоминание великого греческого драматурга Еврипида в его (известной, к сожалению, лишь в пересказе) трагедии «Александр» о том, что троянский Парис-Александр имел аналогичную биографию: он был усыновлен царем Приамом и провозглашен законным наследником, что вызвало недовольство и ропот троянцев. В договоре Муватталиса с Алаксандусом тоже говорится, что «человечество ропщет» против Алаксандуса. Параллели слишком волнующи, чтобы оставить их без внимания, — ведь, приняв гипотезу Фридриха, мы, по существу, обнаруживаем в хеттских текстах прямое указание на одного из главных героев «Илиады»! Судя по дальнейшему тексту договора, Муватталис поддержал Алаксандуса против «ропщущих» подданных, за что Алаксандус признал себя хеттским вассалом. Хетты, таким образом, в обмен за свою помощь получили еще одного вассала на западном берегу (в добавление к уже покоренным ими Хапалле, Мире и Стране реки Сеха). Как предположила Хайнхольд-Крамер, сколачивание этого блока вассальных царств было, видимо, необходимо хеттам для прикрытия побережья от возможного вторжения опасного врага. Мы сейчас увидим, что, скорее всего, этим врагом, была Ахиява, т. е. ахейцы. Пока же заметим, что с этим присоединением Вилусы к прохеттской коалиции прибрежных царств весьма подозрительно совпадает первое упоминание хеттами троянского племени: в стеле Рамзеса Второго о битве с хеттами при Кадеше (1275 г. до н. э.) говорится о хеттских союзниках «A-ru-sa-wi», что, видимо, означает воинов из Арцавы, и, «Dar-d-an-ja», что ученые расшифровывают как «дарданцы» — племя, обитавшее, согласно «Илиаде», на юге Троады-Илиоса (Вилусы); мы уже говорили много раньше, что это название то ли восходит к проливу Дарданеллы, то ли само дало ему такое название. Но откуда бы ни взялось слово «дарданцы», ясно, что их упоминание в Кадешской стеле — лишнее доказательство того, что Вилусу правильно отождествлять с Троадой: стоило ей стать вассалом Муватталиса (ум. в 1296 г. до н. э.), и вскоре (1275 г. до н. э.) вилусцы-дарданцы уже появляются в хеттских войсках при Кадеше. Есть и еще одно подтверждение того, что Вилуса — скорее всего, Троя: в договоре вилусского Алаксандуса с Муватталисом упоминаются вилусские боги; один из них — «Аппалинаус», что, несомненно, означает Аполлон. Напомним, что и у Гомера Аполлон не греческий, а именно троянский бог (о чем говорит, например, его история с Кассандрой, которой он хотел овладеть, а за отказ наплевал в уста). Следующим в списке вилусских богов назван «бог подземных вод», что не менее поразительно совпадает с тем фактом, что вблизи Трои воды реки Скамандр с шумом и грохотом выходят из подземного туннеля в широкое ущелье под горой Ида; это ущелье издавна было местом религиозных праздников в Троаде. Гомер, кстати, тоже называет Скамандр «божественным» и «богорожденным». После всего сказанного представляется уже почти несомненным, что в хеттских текстах, рассказывающих о царстве Вилуса, речь действительно идет о Трое-Илионе, знакомой Гомеру, и о ее древних царях времен Троянской войны: не забудем, что правление Муватталиса и его преемников, по какой хронологии ни считать, совпадает со временем существования Трои-6 и 7а, раскопанных Шлиманом, Дорпфельдом и Блегеном. Сам этот факт не так уж поразителен, если вдуматься, т— ведь сомнений в реальном существовании Трои на самом деле ни у кого нет, как нет сомнений и в том, что Троянское царство (а Троя-6, судя по ее размерам, должна была быть столицей довольно значительного царства — это самый большой древний город, раскопанный на северо-западе Малой Азии) уже хотя бы в силу своего геополитического расположения должно было входить в контакты с современной ему и соседствующей с ним могущественной империей хеттов. Приятно, конечно, что все эти представления, имеющие первоисточником гомеровский рассказ, подтверждены теперь перекрестными историческими, археологическими и лингвистическими доказательствами. Но это еще не доказывает исторической реальности описанной Гомером Троянской войны… Пока что мы не обнаружили в хеттских документах чего-либо, напоминающего об этом событии. Задумаемся поэтому: где следует искать такие упоминания (если они вообще существуют)? Ответ представляется однозначным. Троянская война велась ахейцами (для хеттов — Ахиявой) против Трои (для хеттов — Вилусы, их вассала). Следовательно, теперь, на завершающем этапе нашего исторического расследования, надлежит обратиться к тем хеттским текстам, в которых одновременно упоминаются и Вилуса, и Ахиява. Обратимся же к ним — и скорее — мы почти у цели! >ГЛАВА 11 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ХЕТТОВ Большинство хеттских документов повествует о внутренних делах империи; это вполне обычные, знакомые имперские дела: смены правителей, борьба за престол, смуты и гражданские войны, нерадивость местных чиновников и волнения в окраинных областях. Эти глиняные таблички не сохранили ни текстов своего Гомера, ни даже текстов своего Бродского, чтобы позволить потомкам вдохнуть горячую и горькую пыль тех веков, но и в них ощущается бескрайний размах имперского пространства, стянутого сетью нескончаемых, в пустоту уходящих дорог, всепроницаемость и вездесущесть централизованного надзора и тяжесть столичной длани на загривке провинций, бесконечная глушь отдаленных полисов и размеренная медлительность их предустановленного быта. Другой массив текстов посвящен делам внешним — это дипломатическая переписка с повелителями других империй, сообщения о битвах и походах, хвастливые отчеты о победах и сетования на нежданные поражения, договоры о торговле или их расторжение, смутные отголоски сложных политических интриг. Заморское царство Ахиява (которое большинство хеттологов, как мы уже говорили, отождествляют сегодня с материковой, «микенской» Грецией) упоминается здесь нечасто, около 20 раз, то есть несравненно реже, чем Ассирия и Египет, но ведь и то сказать — Ахиява далеко, и ее цари редко когда угрожают империи столь серьезно, как ее ближайшие и могущественные соседи на юге и востоке. Все же несколько-раз доходит, видимо, и до этого, и к таким конфликтам Ахиявы и хеттов нам нужно присмотреться особенно детально, потому что, как уже говорилось в конце предыдущей главы, отголоски Троянской войны, т. е. похода ахейцев на Трою-Вилусу, могут оказаться лишь в тех хеттских документах, которые повествуют о вторжениях царей Ахиявы в хеттские владения. Первый (из доныне найденных) хеттский текст, в котором упоминается такое вторжение, — это «рассказ о преступлениях Маддуваттаса», как его называют хеттологи, отнесшие этот рассказ после долгих споров примерно к 1440–1380 годам до н. э. Микенские греки в то время, как известно, уже овладели Критом и островами Эгейского моря, и вот уже пара десятилетий, как утвердились в Милете. Немудрено, что, ступив на побережье Малой Азии, они тут же начинают вмешиваться в дела прибрежных малоазийских земель, подвластных империи хеттов, и вот в тексте послания к некому Маддуваттасу (видимо, царьку одной из таких земель) в ходе перечисления его прегрешений впервые появляется упоминание об Ахияве: «…тебя (Маддуваттаса), из страны твоей изгнал Аттариссий, человек из страны Аххия… он и далее вслед за тобой… он постоянно преследовал тебя, он стремился к твоей, Маддуваттас, погибели. Но бежал ты, Маддуваттас, к от(цу Солнца Моего). И отец Солнца Моего отклонил тебя от погибели и Аттариссия назад отстранил…» В чем же состояли «преступления» Маддуваттаса, по которым названо это пространное и примечательное послание? Оказывается, едва оправившись благодаря помощи хеттов от поражения, он тотчас напал на своих соседей, других хеттских вассалов, и тогда отступивший было Аттариссий снова появился на сцене с огромным по тем временам войском, насчитывавшим 100 боевых колесниц. Пришлось снова отправлять против него хеттскую армию. Однако неугомонный Маддуваттас и после этого продолжал свои происки: он захватил ряд мелких прибрежных царств по соседству, сколотил из них серьезный анти хеттский блок и, что всего хуже, вступил в тайный сговор с Аттариссием и помог тому напасть на «страну Аласию» (ученые давно уже установили, что хеттская Аласия — это остров Кипр), где Аттариссий захватил много пленных (читай — будущих рабов). В этом месте так и просится упоминание, что по археологическим данным массовое проникновение микенской посуды на Кипр начинается именно в это время — около 1400 года до н. э. Мало того, массовое появление этой посуды на западном побережье Малой Азии тоже начинается в те годы, к которым, судя по хеттскому посланию, относятся вторжения «ахиявского царя» в малоазийские земли{16}. Созданная Маддуваттасом анти-хеттская коалиция сыграла роковую роль в истории «Старого» хеттского царства. Войдя в сговор с Египтом, эта коалиция едва не сокрушила хеттов; во всяком случае, накануне вступления на трон Тудхалияса Второго хетты находились на грани окончательного поражения. Однако новый правитель сумел отразить главные угрозы и возродить хеттскую империю под названием «Нового царства», а его преемники Тудхалияс Третий и Суппилулиумас неслыханно раздвинули пределы полученного наследия. На хеттских табличках сохранилась «Автобиография» Мурсилиса Второго, сына Суппилулиумаса, в которой он много рассказывает о своем отце, упоминая, в частности, что «когда отец мой в живых (был)… тогда он (что-то) с моей матерью… и ее в страну Ахиява… он на ту сторону отправил». Этот документ описывает времена, отстоящие на несколько десятилетий от походов Аттариссия, и отношения хеттов с Ахиявой за это время, видимо, изменились: они стали настолько дружественными, что Ахиява даже готова пойти навстречу хеттскому царю в довольно щекотливом вопросе распри с женой и принять у себя опальную царицу. Сам Мурсилис Второй продолжил победы своего отца, окончательно разгромив Арцаву, которая возглавляла антихеттскую коалицию на западном побережье Малой Азии, и главу ее, некого Ухацитиса, изгнал все в ту же Ахияву: «и он с моря… к царю Ахиявы… я снарядил с кораблем, и они увезли его прочь». Правда, в ходе этой войны был сожжен и главный форпост Ахиявы на побережье — город Милет, но ахиявские цари, судя по всему, не выразили никакого возмущения по этому поводу, и город вскоре был отстроен, кажется, руками самих же хеттов. А вскоре из Ахиявы ко двору заболевшего Мурсилиса отправляется некто «Антаравас» (возможно, Антреус) со статуями ахиявских богов, которые должны помочь выздоровлению царя. Одним словом, при Мурсилисе Втором глухая вражда между Хаттусой и Ахиявой сменяется подлинной политической идиллией. Однако ни во времена вражды, ни теперь, во времена дружбы, Вилуса в связи с Ахиявой, увы, не упоминается. Как мы помним, во времена правления следующего хеттского царя, Мувутталиса (1315–1296), некий принц из Вилусы, Алаксандус, опасаясь каких-то врагов, обратился за помощью к хеттам и согласился стать их вассалом (этими врагами скорее всего были его же «ропщущие» подданные, которым не понравилось, что усыновленный предыдущим вилусским царем Алаксандус взошел после его смерти На трон, минуя законных наследников). В договоре Алаксандуса с Муватталисом вассал обязывается противостоять какому-то врагу, и последующие события показывают, что обязательство это не было случайным — ожидать вторжения врага были все основания. Действительно, в сохранившемся отрывке письма, отправленного царем Страны реки Сеха (это царство, напомним, соседствовало с Вилусой с юга и востока) в Хаттусе, хеттскому царю (скорее всего, тому же Муватталису), говорится, что ожидаемый враг «пришел и войско страны Хатти привел… назад л страну Вилуса биться пошли». Весь этот эпизод хеттологи трактуют следующим образом: упрочив положение Алаксандуса на престоле Вилусы и сделав его своим вассалом, хетты, видимо, изменили прежнее положение вещей, при котором Вилуса была вассалом неведомого «врага»; этот противник не потерпел ослабления своих позиций и вторгся в страну, пытаясь восстановить прежнее положение; хетты тотчас отреагировали присылкой своих войск. Кто же этот неведомый противник, с которым хетты воюют из-за Вилусы? Хайнхольд-Крамер высказала предположение, что им могла быть Ахиява. На первый взгляд кажется, что это совершенно безосновательное предположение, но анализ последующих документов показывает, что оно вполне правдоподобно. Главным из этих документов является так называемое «Письмо о Тавакалавасе». Сопоставление его с другими хеттскими текстами, где упоминаются некоторые из лиц, указанных в «Письме», позволяет отнести события, излагаемые в письме, ко временам наследников Муватталиса — царя Мурсилиса Третьего (1296–1289), а скорее даже — его преемника и дяди, Хаттусилиса Третьего (1289–1265). Этот царь известен (из документов) своей политикой умиротворения противников, проводимой с большим дипломатическим искусством (впрочем, войну с Египтом при Кадеше он этим не предотвратил), а в «Письме о Тавакалавасе» обнаруживаются все приметы такой политики. История, стоящая за письмом, такова: некий Пиямарадус (судя по дальнейшему, мелкий властитель на западном побережье Малой Азии) восстал против хеттов на побережье, а когда хетты пришли навести порядок, этот «враг» бежал в Ахииву вместе с братом ахиявского царя Тавакалавасом, до того находившимся в Милаванде (как мы уже говорили выше, хеттская Милаванда — это главный ахейский, т. е. микенский, форпост в Малой Азии, город Милет, а имя Тавакалавас некоторые хеттологи отождествляют с греческим «Этеоклес», или «Этеокл», считая этого царевича Этеокла микенским наместником в Милете). И вот теперь хеттский царь пишет царю Ахиявы, именуя его «другом и братом», что он-де никаких враждебных замыслов против Ахиявы не имеет, Милаванду и трогать не намерен и просит лишь выдать ему мятежника Пиямарадуса, причем готов даже простить его, если царь Ахиявы будет на этом настаивать. Автор письма признает, что, возможно, обидел царя Ахиявы, и торопится заверить «друга и брата», что согласен на все его условия ради примирения с ним, а покамест посылает своего высокородного придворного в Ахияву в качестве «заложника мира». Подчеркнутая смиренность и миролюбивость текста выдает в авторе царя-миротворца Хатусилиса. Но самое интересное для нас таится в одной из второстепенных строк «Письма», где Хаттусилис вспоминает о прежних отношениях хеттов с Ахиявой. Он признает, что у царя Ахиявы могут быть обиды — ведь еще не так давно хетты воевали с ним из-за Вилусы, — но тут же оправдывается: во-первых, Ахиява ведь победила в той войне, а во-вторых, он, Хаттусилис, в ней вообще не виноват: «Я ведь юн был!» После чего восклицает с деланным недоумением: «Чего же еще?» Мол, какие еще могут быть претензии? Хаттусилис был «юн» во времена царствования своего брата Муватталиса, и это позволяет связать его слова о войне хеттов с Ахиявой из-за Вилусы с предыдущим сообщением царя Страны реки Сеха о вторжении неведомого врага в пределы Вилусы как раз во времена правления Муватталиса. В.таком случае предположение Хайнгольд-Крамер подтверждается: этим «неведомым врагом» действительно была Ахиява, цари которой не потерпели перехода Алаксандуса на сторону хеттов и сумели, по всей видимости, вернуть себе свои прежние позиции в Вилусе. Еще одно место из «Письма о Тавакалавасе» делает эту трактовку событий почти несомненной — здесь автор «Письма» вкладывает в уста своего адресата (царя Ахиявы) такое заявление: «Мы, царь страны Хатти и я, из-за этой страны Вилуса во вражде были мы… и он меня в отношении ее умиротворил и мы заключили договор». Иными словами, после кратковременной попытки Муватталиса повернуть Вилусу против Ахиявы и решительного военного ответа последней статус-кво был восстановлен и в отношениях, между хеттами и Ахиявой снова наступила идиллия. Но времена менялись. И в дипломатических текстах, относящихся к правлению следующего хеттского царя, воинственного Тудхиялиса Четвертого (1265–1235 гг. до н. э.), царь Ахиявы уже перестает быть «братом и другом». Причем перестает им быть весьма эффектно. В перечислении великих царей, содержащемся в одном из тогдашних документов, знак титулатуры «Его Величество», поставленный писцом перед словами «царь Ахиявы», стерт с таблички с таким усердием, словно была допущена грубая политическая ошибка. И в другом тексте, повествующем о победоносном походе хеттов на Аласию-Кипр, где в то время, — археологам это доподлинно известно — было много ахейских городов, никакого упоминания о «великой Ахияве» тоже нет, она в этом тексте не присутствует вообще. И то же самое — в третьем тексте, в «Письме в Милаванду», где этот давний и главный ахейский форпост в Малой Азии запросто, словно так и должно быть, словно так всегда и было, именуется хеттским владением — нет Ахиявы! Что, микенская держава распалась, исчезла под натиском каких-то врагов? Нет, она существует, это известно из других — греческих — источников, но хетты уже с ней не считаются, теперь она для них — побежденный и поверженный противник. Когда и как это произошло? Возможный ответ на это содержит документ, относящийся, по всей видимости, к началу царствования Тудхалияса Четвертого и представляющий собой очередное сообщение о военных столкновениях на западном побережье: «(Царь или народ) Страны реки Сеха снова дважды согрешил… вел войну. И царь страны Ахиявы отступил назад… отступил назад, а я, Великий Царь, пришел». Судя по этому тексту, сам царь Ахиявы вторгся в хеттские владения в районе реки Сеха, но потерпел сокрушительное поражение и был отброшен назад. Кажущееся незначительным и рядовым, событие это давно уже привлекло внимание хеттологов своим сходством с другим событием того же (если верить греческой традиции) времени, происходившем в том же (если верить традиции) месте. Речь идет об упоминаемом множеством древнегреческих авторов неудачном «первом» походе царя Микен Агамемнона и его спутников на Трою. У Гомера об этом событии глухо говорит Елена Прекрасная в своем плаче по Гектору, в самом конце «Илиады»: «Ныне двадцатый год круговратных времен протекает с оной поры, как пришла в Илион я, отечество бросив». Кажется странным, что Елена насчитывает уже 20 лет со времени своего побега с Парисом в Трою — ведь осада Трои, по Гомеру, продолжалась всего 10 лет! Но поэмы упоминавшегося нами в первых главах (и предшествовавшего Гомеру) «Эпического цикла», прежде всего — «Киприя», пересказ которой сохранился у автора V века до н. э. Прокла, рассказывают, что походов на Трою на самом деле было два, и во время первого ахейцы, «выйдя в море, причалили к Тевтрании и начали ее грабить, как будто Илион; Телеф же (местный царь) поспешил на помощь». Аналогично у другого автора V века — Аполлодора: «Не зная морского пути в Трою, пристали к Мисии (Тевтрании) и стали ее разорять, думая, что это Троя; Телеф же, царствовавший над мисийцами, погнал эллинов к кораблям и убил многих». После этого ахейцы целых 10 лет не могли оправиться от позорного поражения и лишь затем снова собрались с силами для второго похода, который и стал знаменитой Троянской войной; Елена, стало быть, была права, говоря о двадцати годах своего пребывания в Трое: десять лет перерыва между первым и вторым походами и десять — осады. Мисия, или Тевтрания, согласно греческой традиции, — это страна между реками Каик и Меандр, что к югу от Трои; об этом говорит историк II века Павсаний («У отправившихся в Трою с Агамемноном случилась ошибка во время плавания, результатом чего была битва в Мисии, и как напоминание об этом входящему в долину Каика служит камень в городе Элее…») — но у хеттов эти же места назывались Страной реки Сеха, и именно здесь, если верить документу тудхалиясовских времен, был с позором разгромлен «царь Ахиявы». И поскольку все прочие документы из анналов того же Тудхалияса Четвертого «великую Ахияву» больше не упоминают, надо полагать, что это незадачливое вторжение ахейцев произошло в самом начале правления Тудхалияса, т. е. близко к 1265 году до н. э. Если вся эта трактовка верна (а многие хеттологи на ней настаивают), то мы наконец-то можем с истинно гоголевским удовлетворением воскликнуть: «Отыскался след Троянского похода!» И ведь действительно вроде бы отыскался — пусть не второго, главного, а первого, неудачного, что из того? Куда важнее, что Гомер говорил правду: Троянская война — была! Гиндин и Цымбурский привлекают в этом месте внимание специалистов к еще одному замечательному документу, который представляет собой письмо царя хеттов к царю Ахиявы (именуемому без титула пренебрежительным «господин»). Пробиваясь сквозь путаницу фраз: «(ты)… написал… какие твои (страны) в запустении (были), их мне во владения отдал Бог Грозы. Царь страны Ассува… Акагамнус, дед отца, связал. А нынче Тудхалияс… его низвергнул», авторы делают смелое предположение, что речь идет о давней попытке прадеда нынешнего царя Ахиявы, некого «Акагамнуса», выступавшего под покровительством Бога Грозы, оттягать себе хеттские земли, пользуясь каким-то их «опустошением» — например, в результате землетрясения: известно ведь, что Троя-6 была разрушена мощным землетрясением примерно за 50 лет до того, как ее осадил и взял Агамемнон. Предположение смелое, потому что авторы, по сути, хотят одним махом решить загадку Троянской войны, объявив указанный документ ее «хеттским отголоском». В самом деле, если, вслед за авторами, видеть в «Акагамнусе» хеттское произношение имени «Агамемнон», в Боге Грозы — Громовержца Зевса, а в самом нашествии «ахиявцев» — взятие ахейцами Трои через 20 лет после их неудачной высадки на реке Каик, в начале царствования Тудхалияса Четвертого, то событие это следует отнести к середине или даже к концу этого царствования — скажем, к 1245–1240 годам до н. э., что, вообще говоря, совпадает с датой Троянской войны, предложенной К. Блегеном. Но эта гипотеза немедленно наталкивается на очевидные трудности. К каким временам относится рассматриваемое письмо, коль скоро его писал правнук «Акагамнуса»? Ведь даже приняв дистанцию между правнуком и прадедом всего в 60 лет, мы оказываемся в 1180 году до н. э., а в это время хеттская империя была уже сокрушена, и никаких царей, к которым могло быть. обращено такое послание, в Хаттусе уже не было, потому что и самой Хаттусы не было — сожжен он был и разрушен. И когда же, задумаемся, успел Тудхалияс Четвертый «низвергнуть» надменного этого «Акагамнуса»-Агамемнона после его победы над Троей, если всех лет царствования этому хеттскому царю осталось в лучшем случае четыре-пять? Нет, предположение Гиндина — Цымбурского загадку Троянской войны не решает, и потому нам придется сделать еще одно — впрочем, на сей раз действительно последнее, — усилие и попытаться найти в хеттских текстах иное, более убедительное свидетельство ее реальности. Или даже доказательство, если повезет. Повезет ли? >ГЛАВА 12 ИСТОРИЯ ТРЕХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ Подсчитаем наши бесспорные достижения. Мы убедились, что хеттские документы подтверждают реальное существование могучей микенской державы ахейцев, о которой говорит Гомер, — у хеттов это Ахиява. Мы увидели, что хеттские тексты засвидетельствовали реальное существование сильного и геополитически важного Троянского царства; у хеттов это царство Вилуса, расположенное на северо-западе малоазийского полуострова — именно там, где Шлиман нашел великую Трою. Мы обнаружили даже следы одного из царевичей Трои, названных велитсим Гомером, — усыновленного Париса-Александра, виновника Троянской войны; похоже, что у хеттов это Алаксандус, усыновленный царем Вилусы и поддержанный на троне властителем хеттской империи Муватталисом. Описанная в поэмах догомеровского «Эпического цикла» ошибочная высадка экспедиции Агамемнона у реки Каик и ее позорный разгром и бегство описаны также и хеттами — в виде незадачливого вторжения царя Ахиявы в Страну реки Сеха; даже географическое положение мест почти совпадает. Этих перекрестных совпадений так много, что постепенно они складываются в плотную сеть взаимосвязанных прочтений, каждое из которых подкрепляет предыдущее и подсказывает последующее, как во внезапно полностью раскрывающемся кроссворде. В целом можно сказать, что мы нашли еще одно подтверждение реальности микенской цивилизации — Шлимана — на сей раз в документах хеттов. Но наш поиск еще не закончен. Мы еще не нашли пока в этих документах никакого упоминания о том ахиявском триумфе в Вилусе, который греческая традиция описывает как осаду и взятие великой Трои ахейцами, как победное завершение Троянской войны. Чтобы приблизиться к этой цели, нам придется двинуться несколько обходным, на первый взгляд, путем — вернуться в Троаду-Вилусу и ее великую столицу. Великая Троя… Раскопки Шлимана лишь обнаружили ее истинное расположение; Дорпфельд углубился чуть дальше в ее прошлое, но только многолетние труды Карла Блегена позволили наконец выявить главные даты в биографии могучей крепости на равнине Скамандра и со всей несомненностью установить, что ее начало, первые следы поселения людей на Гиссарлыке, восходит к поистине баснословной древности — примерно 3600 лет до н. э.! До своего окончательного исчезновения, скажем, в XV веке нашей эры, Троя, следовательно, прожила свыше пяти тысячелетий, всего на пару тысяч лет меньше, чем Йерихо, этот древнейший город на Земле. В том культурном слое, который Шлиман, открыв его во время своего второго цикла раскопок, считал «древнейшим», поселение было заложено около 2500 года до н. э., то есть через целую тысячу лет после основания городища на холме. Знаменитая шлимаиовская Троя-2, которую он поначалу считал современницей Троянской войны — «Приамовой Троей», возникла в действительности за две тысячи лет до нашей эры, а это значит — как минимум за шесть столетий до предполагаемой даты этой войны. Судя по найденным там Шлиманом развалинам дворца и многочисленным золотым украшениям (пресловутая «диадема Елены»), Троя уже в то время была центром какого-то небольшого царства, властители которого, надо полагать, обогащались за счет выгодного стратегического положения своего города вблизи Дарданелл. Видимо, уже и тогда эти «таможенные поборы» троянцев вызывали чье-то сильное недовольство, ибо Троя-2 погибла в результате штурма: об этом свидетельствуют следы пожара и разрушений, а также тот факт, что «диадема Елены» вместе с прочим золотишком были брошены просто на землю, словно жителям, торопливо бежавшим из города, было уже и не до золота. Можно думать, однако, что это же «проклятие» Трои было одновременно и ее «благословением», ибо местоположение города у Дарданелл побуждало людей снова и снова возвращаться в эти края и основывать здесь поселение или даже крепость, — уже через сто лет после разрушения Трои-2 на ее развалинах (поверх них) возник очередной город — Троя-3, а еще через сто лет — на развалинах этого города — следующий, Троя-4. Проходит еще столетие, и его сменяет Троя-5 — по предположениям историков, именно тогда в здешние места пришли новые, индоевропейские племена, умевшие приручать и использовать лошадей (вспомним, что Гомер в «Илиаде» тоже говорит о «троянских конях», да и хетты тоже, как полагают, вывели свое название всего западного побережья Малой Азии, «Ассува», из слова, означавшего у них коня). Некоторые историки полагают, что племена, пришедшие тогда в Трою, составляли часть огромного воинства, основная масса которого осталась на противоположном берегу Дарданелл, на севере Балкан, и много позже стала называться фракийцами; они видят подтверждение этой гипотезы в совпадении множества названий околотроянских мест и народностей с фракийскими топонимами и этнонимами. Лишь позднее, говорят они, Троя обособилась, стала отдельным царством, и ее жители стали называть себя «троянцами» или «дарданцами». Что ж, возможно; возможно даже, что из тех же протофракийских племен, что троянцы, вышли (и двинулись на юг) и будущие греки; это могло бы объяснить их последующую, роковую, многовековую тягу к Троаде — неосознанное родство, почти по Фрейду. Впрочем, оставим. Несколько позже, на грани 1600–1500 годов до н. э., в культурных слоях Трои-5 обнаруживается микенская посуда, то есть следы прямых контактов между Троей и Микенами. Эти следы сохраняются до 1200 года до н. э., но за это время совершаются четыре важнейших события в истории Трои: возникает Троя-6 с ее крепостными стенами и бастионами, дворцом и аристократическими зданиями, напоминающими описания Гомера; происходит землетрясение, разрушающее этот город; окрестные жители возвращаются на развалины и строят там убогие, тесные и скученные лачуги — Трою-7а; и спустя 50 лет после своей предшественницы Троя-7а гибнет, как и та, только уже от рук людей — в огне и разрушениях, военного штурма. Последнее событие Блеген помещает между 1270–1250 годами до н. э. Снова проходит каких-нибудь полвека, и над развалинами Трои-7а возникает новый, тоже небольшой город — Троя-7б. Ее остатки тоже свидетельствуют о насильственном разрушении, но не таком полном, как раньше, — следы жизни переходят в следующий культурный слой непрерывно, как если бы часть жителей осталась на месте и продолжала поддерживать существование, города; более того, останки посуды свидетельствуют о смешении этих коренных троянцев с какими-то пришельцами из-за Дарданелл, возможно — опять из той же Фракии. Такая же посуда обнаруживается несколько выше по течению Скамандра, в Бурунбаши, — видимо, часть троянцев переселилась туда, так что недаром в новое время кое-кто считал, что Троя находилась именно в Бурунбаши, а не на Гиссарлыке. Однако примерно к 1000 году до н. э. последние следы жизни и там, и там исчезают древняя Троя окончательно уходит в прошлое. Но место «свято», и оно не опустевает: еще 200–300 лет спустя в Троаду (или, как она еще называлась, Илион, а у хеттов — Вилуса) приходят поселенцы с соседнего греческого острова Лесбос и основывают здесь «Эллинскую Трою» — «маленький торговый городок», как сообщают первые древнегреческие историки. Возможно, именно здесь побывал когда-то Гомер; возможно, в этих местах еще сохранялись тогда следы Древней Трои и, кто знает, даже легенды о героическом прошлом этого города. Как бы то ни было, с этого момента Троя вступает в период письменно зафиксированной истории: «Новый Илион» сменяется городом Александрова полководца Лизимаха, «Александрией Троянской», потом римской колонией Новый Илион, это уже Троя-9, по датировке Блегена; ее сменяет центр христианского епископата — «Византийская Троя», но к 1000 году нашей эры это поселение тоже угасает, и спустя еще 500 лет тут возникает последнее на Гиссарлыке поселение — деревня Гиплак, позднее покинутая жителями; останки ее поросли диким кустарником, не гнущимся даже под здешними ветрами. Очертим границы нашего поиска: весь наш предшествующий рассказ сосредоточен практически в пределах одного-полутора столетий — от гибели многовековой Трои-6 до гибели скоротечной Трои-7б. Как мы помним, поначалу Дорпфельд решил, что «Приамовой» («гомеровской») является именно могучая Троя-6. Но затем Блеген объявил, что этот богатый и укрепленный царский город был на самом деле разрушен мощным землетрясением, зато следы пожара, убийств и разрушений, которые могла причинить только война, присущи жалкой, «лачужной» Трое-7а, находившейся в полуразрушенных стенах предыдущей крепости. На первый взгляд, такая последовательность событий соответствует греческой мифо-эпической традиции. Эта традиция утверждает, что задолго до Агамемнона великий Геракл уже предпринял поход против троянского царя Лаомедонта, которому помогал бог моря Посейдон. Естественно Геракл победил: он захватил и разрушил Трою и посадил в ней нового царя — Приама, но предварительно ему пришлось схватиться врукопашную с неким «Посейдоновым чудищем», которое бог послал на защиту любимого города. Остается вспомнить, что греки считали Посейдона «сотрясателем земли», т. е. приписывали ему причину землетрясений, и тогда в эпизоде сражения Геракла с «Посейдоновым чудищем» легко усмотреть подернутое мифопоэтическим туманом воспоминание о реальном землетрясении, некогда разрушившем город Лаомедонта. Поскольку, по Блегену, землетрясение разрушило именно Трою-6, то именно ее он и объявил «Лаомедонтовой». По его расчетам, это «первое взятие Трои» (Гераклом) произошло примерно в 1300 году до н. э. (Заметим, что такая дата хорошо согласуется с описанной в «Письме о Тавакалавасе» распрей хеттов с Ахиявой за Вилусу, при царе Муватталисе.) Здесь уместно объяснить, на чем основывались эти расчеты. Подобно всем другим археологам до и после него, Блеген руководствовался в определении дат типом посуды, или, точнее, типом обработки керамической посуды, обнаруживаемой в том или ином культурном слое. В истории микенской керамики (которая сама датируется по египетским памятникам и, в свою очередь, позволяет датировать те раскопки, где она обнаруживается) существует очень важная и отчетливо прослеживаемая граница — примерно 1240–1190 годы до н. э., скорее, ближе к последней дате: до этого перелома керамика принадлежит к типу 3В (или еще более ранней 3А), после него — к типу 3С (более примитивному и грубому, который еще иногда называют «варварским»). Считается, что упрощение способов обработки керамики связано с общим падением ремесел в микенской Греции, а оно — с распадом и крахом микенской цивилизации в целом, павшей под натиском неведомых пришельцев с севера. Об этих загадочных пришельцах, разрушивших не только Микенский союз древнегреческих царств, но заодно и Хеттскую империю, и вообще радикально переменивших лицо древнего Средиземноморья, мы уже однажды упоминали, обещая поговорить о них в конце нашего рассказа; и нам действительно придется сейчас о них говорить. Но пока вернемся к Блегену и его расчетам. Раскапывая Трою-7а, Блеген не нашел в ее слоях признаков керамики типа ЗС и потому заключил, что этот город погиб раньше роковой даты варварского вторжения, т. е. раньше 1240 года до н. э.; поэтому он отнес дату взятия Трои-7а на 1270–1260 годы. Мы следовали этой схеме, когда в одной из предыдущих глав закончили рассказ о раскопках Трои выводом, что «Приамовой Троей» оказалась блегеновская Троя-7а. Теперь я вынужден с огорчением сказать, что нам придется изменить этот вывод. Дело в том что через несколько десятилетий после Блегена, в серии работ 1970–1980 годов самый авторитетный в мире специалист по микенской керамике Фурумарк сообщил, что повторное изучение некоторых керамических обломков, найденных Блегеном в Трое-7а, заставляет отнести их к типу 3С. Но керамика этого типа могла появиться в городе только после 1240–1230 годов до н. э. как минимум. Значит, Троя-7а существовала после этой переломной даты. Однако в ту пору Микенский «союз греческих героев» уже никак не мог осадить, захватить и разрушить Трою-7а, ибо сам был к тому времени подорван, а то и вовсе разрушен пришельцами с севера. Стало быть, блегеновская Троя-7а никак не могла быть той «Приамовой» Троей, которую осаждал и захватил Агамемнон. Прямым следствием этих сенсационных выводов Фурумарка было то, что археологи и историки. в подавляющем своем большинстве отвергли схему Блегена, и последние годы основная часть специалист тов снова вернулась к мнению Дорпфельда, признав «Приамовой» (гомеровской) могучую Трою-6. Английский историк Майкл Вуд сформулировал это новое представление следующим категорическим образом: «Если Троянская война была столь величественной, как описано у Гомера, она могла быть только войной против Трои-6». В поддержку этого утверждения сегодня приводится ряд новых фактов. Как показали археологические открытия последних лет, Трою-6 действительно постигло мощное землетрясение, и в этом Блеген был прав, но окончательное разрушение ее дворцов и аристократических зданий (на месте которых возникли позднее лачуги и времянки Трои-7а) было все же делом рук человеческих, а точнее — греческих, микенских: археологи нашли в слоях Трои-6 многочисленные останки микенского оружия, следы пожара, возникшего при захвате и разграблении города, и некоторые признаки нарочитого разрушения крепостных стен. Этот бесславный конец могучей Трои-6, просуществовавшей несколько столетий, сегодня датируется 1270–1260 годами до н. э. Новая датировка обоснована надежнее блегеновской, потому что базируется на более точном и детальном анализе типа керамики, но фактически она совпадает с датировкой Блегена. «А что же Троя-7а?» — немедленно спросите вы. Если поход Агамемнона («Троянская война») имел целью захват и разрушение Трои-6, то кто же и когда разрушил следующую по счету Трою, возникшую на развалинах предыдущей? И что означали найденные Блегеном в этом следующем городе признаки подготовки его жителей к осаде — скученность жилищ, врытые в землю кувшины с запасами продовольствия и т. п.? Упомянутое «большинство специалистов» располагает ответами и на эти-заковыристые вопросы. Они утверждают, что Троя-7а просуществовала вплоть до начала XII века до н. э., примерно до 1190–1180 годов. Но надо иметь в виду, что вся вторая половина XIII и начало XII веков до н. э. были эпохой нашествия северных варваров, которые накатывались на Средиземноморье несколькими последовательными волнами. То были времена всеобщего разрушения, хаоса и неустойчивости, и поэтому можно думать, что особенности жизни в Трое-7а попросту отражали общую неуверенность тогдашних людей в завтрашнем дне, их постоянную настороженность в предчувствии возможного набега бродивших повсюду варварских отрядов. «Не исключено, — говорит тот же М. Вуд, — что именно один из таких отрядов и разрушил Трою-7а, ведь она была слишком бедна и слаба, чтобы долго защищаться даже против небольшой группы захватчиков; не исключено также, что в числе этих захватчиков были и примкнувшие к варварам микенские ахейцы; но в любом случае то не были уже дружины Агамемнона и других греческих героев — времена героев давно прошли; скорее то была жалкая кучка искателей приключений и легкой наживы». Так выглядит новая схема «троянских событий», сложившаяся в самые последние десятилетия и принятая, как уже сказано, большинством современных исследователей. А как выглядит в свете этой схемы наш поиск отголосков Троянской войны в хеттских документах? Всмотримся снова в даты, и мы поймем, что искать в этих документах следы грабительского набега варваров на Трою-7а попросту безнадежно: в то время, к которому Вуд и другие относят это событие, в 1190–1180 годах до н. э., Хаттуса уже лежала в развалинах, ибо хеттская империя и сама уже рухнула под натиском тех же варваров. Но поход Агамемнона (если он вообще реален) происходил по этой схеме в 1270–1260 годах до н. э., а в это время хеттская империя еще существовала. По нашей «хронологии хеттских царей», это годы правления воинственного Тудхалияса Четвертого, того самого, при котором произошло вторжение «царя Ахиявы» в Страну реки Сеха (точности ради заметим, что сторонники новой схемы пользуются несколько иной хронологией и потому считают, что в это время в Хаттусе еще правил Хаттусилис Третий). Об этом вторжении упоминается в одном из хеттских документов, связанных с Ахиявой, — в письме правителя Страны реки Сеха к хеттскому царю. Так вот, говорят современные историки, это упоминание и есть искомый «хеттский отголосок» Троянского похода микенского царя Агамемнона, если угодно — прямое подтверждение реальности этого похода. Если принять это толкование, то наши поиски становятся излишними: мы, оказывается, давно нашли то, что искали; мы только не опознали найденное. Разумеется, такое разочаровывающе будничное завершение долгих поисков напоминает скорее сырое шипенье намокшего заряда, чем тот эффектный громовой взрыв, который от него ожидался, но что делать, если авторитетные специалисты думают именно так? Только развести руками. Хорошо еще, что мы выбрали в качестве представителя мнения большинства цитату из Майкла Вуда, который все-таки верит в реальность Троянской войны; много более авторитетный Шахермайр, к примеру, в это не верил и в свете новых данных считал, что Троянской войны не было вообще: «Илиада» — это переработка мифа о походе Геракла, а Троянский конь — это преобразованное воображением Гомера «Посейдоново чудище». Есть, однако, еще и мнение меньшинства, которое не согласно ни с Вудом, ни, тем более, с Шахермайром. Это меньшинство предлагает совершенно иное решение загадки Троянской войны, и этому меньшинству мы и предоставим сейчас, как давно обещали, последнее слово в нашем историческом расследовании. >ГЛАВА 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. НАРОДЫ МОРЯ Мы обещали в заключение предоставить слово тому меньшинству среди современных историков и лингвистов, занимающихся загадкой Троянской войны, которое энергично отстаивает свой особый взгляд на эту проблему. Судить об их правоте или неправоте мы, конечно, не сможем, но несомненную увлекательность возникающей из их рассуждений картины наверняка сумеем оценить. Начать хотя бы с того, что первые, кто во весь рост появляется на этой картине, — это те самые загадочные «северные варвары», о которых мы уже несколько раз говорили. Теперь мы, наконец, узнаем, кто они такие. Это — «народы моря», разгадке происхождения которых посвящены сотни исследований и десятки толстых научных книг. Их название восходит к двум египетским документам времен фараонов Мернепты и Рамзеса Третьего, один из которых правил в, 30-е годы XIII века до н. э., а второй — лет на сорок позже. Как сообщает рассказ Мернепты (точнее, его писца), на 5-й год правления этого фараона «пришли с моря народы» — лувийцы, шардана, ахейцы, турша, сикелы и многие другие — и пытались ворваться в Египет. Мернепта дал им бой и разгромил. На поле битвы осталось около двух с половиной тысяч пришельцев. Египтяне разделили убитых на два класса: обрезанных, как и они, — у этих они для счета отрубали одну руку, и необрезанных, у которых для счета отрубался пенис. Все эти руки и половые члены были свалены в кучу у ног фараона-победителя, как немецкие флаги некогда на Красной площади, и отсюда мы знаем, что необрезанных лувийцев и прочих было тысячи полторы, а все остальные были ахейцы (которые в ту пору, представьте, практиковали обряд обрезания). Благодаря историкам мы знаем также, что означают некоторые из упомянутых выше этнонимов: «шардана» — это балканский народ, который впоследствии заселил остров Сардиния, «турша» — это тирсены, поначалу северо-балканское племя, позднее переселившееся на юг Троады (о нем упоминает Гомер), после распада первой коалиции «народов моря» они мигрировали в Италию, где, по-видимому, дали начало этрускам; «сикелы» — будущие сицилийцы; ахейцы же нам знакомы — это микенские греки. Вся эта огромная масса племен, по мнению историков, двигалась с севера, из нынешней Фракии, сметая на своем пути прежние государства, в том числе Микены и Хатти, вынуждая к бегству одни народы (в это время началось великое переселение греков на периферию своего мира), обращая в рабство другие и увлекая за собой третьи. В документах из древнего ближневосточного города-государства Угарит сохранились письма от царя хеттов, который панически просит прислать ему на помощь угаритский флот, чтобы отбить нашествие варваров; известно (из египетских источников), что Мернепта послал царю Хатти пшеницу, чтобы прокормить население, оставшееся среди растоптанных полей; дипломатическая, переписка великих держав того времени запечатлела ощущение страха и судорожные попытки организовать совместный, отпор чудовищному потоку диких воинов на конях, повозках и идущих пешком. Попытки эти не увенчались успехом. Новое вторжение удалось лишь оттянуть — лет на тридцать, — но не предотвратить. На 5-й год правления Рамзеса Третьего, сообщает его стела, «народы моря» пришли вновь. На сей раз они окончательно сокрушили Хатти (впрочем, считается, что этому немало помогли внутренние распри), Арцаву, Аласию (Кипр), Угарит, полностью разорили микенскую Грецию и Крит, угрожали самому существованию Египта. Свою победу над ними Рамзес Третий считал главным достижением своей жизни. Он утверждал, что их вторжение было опасней гиксосского. В этот раз основу пришельцев составляли тевкры (из протофракийских племен, родственных троянцам) и пелашти; отброшенные Рамзесом от границ Египта, эти пелашти осели на восточном берегу Средиземного моря, дав название своей стране — Палестина, а сами стали теми «филистимлянами», что так хорошо известны Библии (там они называются «плиштим»); их культура (керамика, захоронения, обычаи) была во многом микенской, заимствованной по дороге; их предыстория связывает наш рассказ с предысторией евреев в Земле обетованной, но мы не будем сейчас отвлекаться в эту интереснейшую сторону (желающие могут обратиться, например, к книге копавших древнюю Филистию израильских археологов Моше Дотана и его жены Труды «Народы моря в поисках филистимлян», Нью-Йорк, 1993). Сейчас нам важнее узнать, что, оказывается, греческая традиция хранит некие смутные воспоминания о том, что когда-то в незапамятные времена ахейцы действительно вторгались в Египет и что это вторжение напрямую связано с Троянской войной! В поэмах догомеровского «Эпического цикла» рассказывается, что греки, взяв Трою, рассорились: Менелай обиделся на Агамемнона, отделился от главного отряда, вернувшегося на родину, и двинулся со своей дружиной в Египет, где был, однако, разбит. Гомер в «Одиссее» (песни 3 и 4), переиначивая тот же мотив, говорит, что на обратном пути из Трои буря занесла корабли Менелая в Египет, где он скитался целых 10 лет. В той же поэме, в песнях 13 и.14, Одиссей (уже на Итаке) рассказывает, будто во время своих скитаний пытался вторгнуться со своей дружиной в Египет, но был отогнан. И много позже Геродот собирает, повторяет и дополняет своими вымыслами все эти истории. По расчетам археологов, вторжение «северных варваров» в Грецию произошло примерно в 1240–1230 годах до н. э. — именно к этому времени относится появление керамики «варварского» стиля. Согласно египетской хронологии (она допускает несколько толкований, но здесь берется самая ранняя дата), первое вторжение «народов моря» произошло примерно в 1230 году. Главной ударной силой этого вторжения были ахейцы, видимо, примкнувшие к северным варварам, и жители южной Троады — турша, или тирсены. Что свело их вместе? Не могло ли быть так, осторожно спрашивают Гиндин и Цымбурский («Гомер и история восточного Средиземноморья»), что они объединились в Троаде, куда ахейцы вместе с другими северными варварами пришли для захвата Трои? Именно там, взяв город, разграбив и разрушив его, обретя дополнительных сильных союзников и гонимые мечтой о новых грабежах и новой добыче, ахейцы могли повернуть дальше на юг и, пройдя страну Хатти, ворваться в Египет фараона Мернепты. Если дело действительно обстояло так, то нельзя ли предположить, продолжают наши авторы, что это и был тот поход ахейцев, который много позже разросся в воображении потомков до размеров Троянской войны и последующей вооруженной высадки Менелая и Одиссея на египетских берегах? В таком случае придется признать, что Троянская война происходила не на взлете Микенского царства, а на его излете, когда оно уже рушилось под натиском северных варваров. Не случайно царствовавший именно в те времена Тудхалияс Четвертый велел вычеркнуть Ахияву из списка великих держав. И не случайно и Гомер, и народная традиция греков утверждают, что конец Троянского похода совпал с гибелью его царственных героев, распадом их царств и концом «героического века». Суммируя эти факты и предположения, сторонники новой гипотезы рисуют следующую, уже третью по счету, возможную картину событий (она третья, если первой считать блегеновскую трактовку Троянской войны как «похода на Трою-7а», а второй — новейшую трактовку этой же войны как «похода на Трою-6а»). В этой третьей трактовке никакой «великой» Троянской войны не было; а было вот что — где-то около 1240 года до н. э. Греция пережила первое нашествие северных варваров, резко ослабивших ее царства, но после их возвращения на Балканы предприняла попытку восстановить свои прежние позиции. Именно тогда царь Микен (Ахиявы) послал хеттскому царю Тудхалиясу Четвертому письмо с напоминанием договора о Вилусе; царь Хатти, однако, игнорировал это напоминание, и микенцы решили силой отвоевать Вилусу-Трою, но, увы, по ошибке высадились в Стране реки Сеха (Каик) и потерпели поражение. С этого момента начинаются их беспрестанные попытки расквитаться за позор, поэтому неудачную высадку у Сехи можно считать началом Троянской войны. В таких мелких попытках проходит почти 20 лет, но потом ахейцы все же добиваются своего благодаря помощи вновь пришедших в Грецию северных варваров, «народов моря». Объединившись с ними, они наконец захватывают Трою (по датам это Троя-7а, так как дело происходит примерно в 1230–1220 годах до н. э.), после чего движутся на Египет, где терпят поражение, откатываются и рассеиваются по берегам Средиземного моря. Этот уход из Греции множества ее самых отчаянных, предприимчивых молодых воинов (не забудем — только в бою с Мернептой их погибло свыше тысячи двухсот — огромное по тем временам число) окончательно ослабляет страну, и в образовавшийся вакуум вскоре вторгается новое северное племя, на сей раз родственное грекам, — дорийцы. Наступают «темные века» греческой истории. В отличие от двух первых гипотез, базирующихся в основном на археологических фактах, эта третья опирается преимущественно на факты лингвистические. Но нельзя не видеть, что и в этой схеме есть множество хронологических и прочих натяжек. В целом выводы из всего сказанного представляются, скорее, неутешительными. То, что во времена Шлимана казалось таким ясным и определенным, сегодня снова подернулось туманом зыбкой неопределенности. Хотя новейшая «археологическая гипотеза» объявляет «Троянской войной» поход ахейцев против Трои-6, она не исключает возможность их второго, крайне незначительного, похода против Трои-7а совместно с варварми. Со своей стороны, новейшая «лингвистическая гипотеза» считает подлинной «Троянской войной» именно этот поход (с ее точки зрения, единственный). А в схеме стоящего особняком Шахермайра никакого Троянского похода, как мы видели, не было вообще. Так что нам, скорее всего, так и не удастся до конца решить загадку этой воспетой Гомером войны — была она в действительности или нет? И если была, то когда? Пройдя по текстам Гомера, через данные археологических раскопок, тексты линейного письма Б хеттские клинописные документы, мы нигде не отыскали совершенно однозначных свидетельств «за» или «против» ее реальности. Каков же итог? Скорее всего, правы Гиндин и Цымбурский, когда заключают: «Видимо, слияние некого многовекового лейтмотива (прежних походов — Геракла или хеттской «Ахиявы» — на Трою. — Р.Н.) с порывом «бегства за моря», охватившим массы ахейцев после первого нашествия северных варваров и придавшим новому походу на Илион общеахейский размах, и породило тот грандиозный облик, какой обрела в памяти греков Троянская война». Та «Троянская война», что была, добавим, последней. Больше уже, если верить названию пьесы Жана Жироду, «Троянской войны не будет»… >Комментарии id="c_1">1 Самыми последними из этих книг по времени уже в наши дни стали многочисленные произведения, посвященные т. н. «теории разумного дизайна» («Intelligent Design», или ID). Этими словами ее создатели сокращенно называют утверждение, будто сложность живых существ и обнаруженное астрономией точное соответствие космических параметров всем требованиям возникновения разумной жизни якобы свидетельствуют о том, что космос был «сконструирован» (причем именно для появления жизни и человека) неким высшим Разумом, или Разумным Конструктором. С благословения сочувствующих этому тезису американских политиков-республиканцев, в том числе и самого президента Буша, эта теория, по сути возрождающая креационизм в новом обличье, сейчас внедряется в американские школы в качестве «научной» альтернативы теории эволюции. id="c_2">2 В еврейской системе летосчисления, изложенной в летописи «Седер Олам Рабба» и ведущей счет годам от Сотворения Мира, «баhарад» — сокращенное название для новолуния первого месяца от начала мироздания; это первое новолуние называется также «новолунием хаоса» (молад ТОРУ). id="c_3">3 Цепочка рава Элиягу Залмана замечательна и другими своими особенностями. Например, между «мэм» в слове «мишнэ» и «тав» в слове «тора» пропущено ровно 613 букв, что равно числу мицвот (заповедей) в Торе; первые буквы последних четырех слов стиха 11:9 — это «рэйш», «мэм», «бет» и «мэм», что складывается в «Рамбам»; один из стихов той же главы содержит дату «четырнадцатое нисана», что является днем рождения Рамбама; и, наконец, 49 — это священное для евреев число — количество дней Омер между праздниками Песах и Шавуот. Между прочим, рав Вейсмандель тоже обратил внимание на тот факт, что его буквенные цепочки «т-о-р-а» имеют пропуск в 49 букв. Правда, в последней цепочке пропуск на одну букву меньше, но рав Вейсмандель объяснил это тем, что последняя книга, «Дварим», рассказывает о смерти Моисея, а Моисей однажды согрешил перед Всевышним самовольным чудотворством, и за это перед ним была закрыта одна из дверей мудрости Торы. id="c_4">4 Первая (еврейская) буква этого слова — «хэй», что может означать «ha» — это определенный артикль. Вообще-то слово «ханука» (название еврейского религиозного праздника) пишется без такого артикля, но мы пока отложим разговор о том, почему оно в данном случае написано именно так. id="c_5">5 «Хашмонай» — представитель знаменитого в еврейской истории рода Хасмонеев, которые во II в. до н. э. возглавляли борьбу евреев за религиозную независимость; праздник Ханука был учрежден как раз в честь победы в этой войне. Отметим важный факт — то, что буквы второго слова («Хашмонай») не образовали вертикальный столбик, а идут по диагонали, связано с тем, что пропуск между ними другой: им нужна чуть более длинная окружность оборота нити, чтобы улечься друг под другом. Но если бы мы выбрали цилиндр с чуть большей окружностью, то не легли бы друг под другом буквы слова «hа-ханука». Два слова стали бы столбиками только при одной и той же длине оборота, т. е. если бы интервалы между буквами обоих слов были одинаковыми. id="c_6">6 Под наименованиями понимаются сокращенные прозвища, аббревиатуры или акронимы, с которыми те или иные еврейские мудрецы вошли в историю, — например, Рамбам или Маймонид (рав Моше бен Маймон), «Бейт-Исраэль» или просто «Бейт-Йуд» (так назвали рава Йосефа Каро по заглавию его важнейшей книги) и т. п. У некоторых мудрецов есть по 3–4 таких наименования. id="c_7">7 Например, одна и та же дата может быть словами записана как «шени бэ нисан», «бэ шени бэ нисан» и т. п. id="c_8">8 Сухие определения — такой-то век до н. э. — вряд ли способны создать правильное ощущение времени. Та «классическая эпоха» греческой истории, которую мы знаем из школьных учебников истории, — война греков с персами, Афины, Перикл, Парфенон, война Афин со Спартой — очень близка к нам, это V век до н. э. Гомер жил за 300–400 лет до возвышения Афин, а описанная им «героическая эпоха» имела место в совсем уж глубоком прошлом — за 800 лет до Перикла! Это лет на сто раньше еврейского Исхода из Египта и на 2000 лет раньше Киевской Руси. id="c_9">9 Сокровищам, которые Шлиман нашел в Микенах, повезло больше: они сохранились полностью, и сегодня каждый желающий может увидеть поразительной, красоты золотую маску Агамемнона в афинском музее. Стоит, однако, предупредить, что маска эта по мнению современных ученых, на несколько столетий старше гомеровского Агамемнона, даже если последний действительно существовал. Современный американский специалист проф. Калдер примерно 30 лет назад поставил вопрос, не является ли и эта находка Шлимана его фальсификацией: это вызвало продолжающуюся по сей день оживленную дискуссию; отчет о которой можно найти в журнале Archeology (т. 52. 4, 1999). id="c_10">10 Впоследствии ему и это лыко поставили в строку; в мае 1995-го тот же журнал «Археология» сообщил, что потомки Кальверта решили потребовать возвращения принадлежащих им по праву наследования двух золотых мечей, найденных Шлиманом на восточной оконечности холма Гиссарлык, принадлежавшей Франку Кальверту (он купил ее у оттоманских властей). В момент публикации сообщения мечи эти находились в Пушкинском музее. Чем кончилось дело, мне неизвестно. id="c_11">11 Много позже, в ходе раскопок 1930 года, золотые предметы были найдены и во многих других местах второго слоя, словно жители того давнего города бежали из него в панике, теряя на бегу драгоценности и пожитки: это, кстати, доказывает, что Шлимана, видимо, зря обвиняли в фальсификации сокровищ. id="c_12">12 Самое интересное во всей этой истории то, что спустя семьдесят с лишним лет греческие археологи обнаружили второй такой же круг гробниц, но уже вне стен крепости, снаружи от Львиных ворот — там, где некогда простирался древний город (внутри крепостных стен находились в древности лишь дворцовые постройки). Скорее всего, именно этот круг и был тем, который когда-то видел Павсаний. Так что в итоге оказалось, что Шлиман неправильно понял Павсания, но как раз эта ошибка и принесла ему сказочную удачу. id="c_13">13 Принятая сегодня хронология различает три главные эпохи греческой предыстории: ранний бронзовый век, 2800–1900 гг. до н. э.; средний бронзовый век, 1900–1600 гг. до н. э.; и поздний бронзовый век, 1600–1100 гг. до н. э.; далее начинается век железный. Эти абсолютные даты базируются на синхронности определенных критских и греческих находок с аналогичными находками в Древнем Египте и наоборот; египетская же хронология благодаря сохранившимся надписям известна с достаточной точностью. id="c_14">14 Уже в наши дни некоторые ученые выдвинули предположение, что причиной этой катастрофы могло быть знаменитое извержение вулкана на близлежащем острове Санторин, он же Тера (эта же катастрофа, по их мнению, положила начало мифу об утонувшей Атлантиде). Имеются, однако, убедительные основания считать, что это извержение произошло почти на столетие раньше. id="c_15">15 Любопытно, что следов микенской посуды почему-то почти нет на северо-западе, если не считать раскопанной Трои: здесь, видимо, не было других крупных городов, или же местные жители, будучи более воинственны, успешно отражали попытки ахейского проникновения. id="c_16">16 Некоторые хеттологи видят в «Аттариссии» прародителя микенских царей Дтрея, но, как указывают другие, такое отождествление противоречит законам хеттской и греческой фонетики. Л. Гиндин и В. Цымбурский отмечают, однако, что эти противоречия можно обойти, если принять, вслед за О. Семереньи, что хеттское «Аттарисий» не столько тождественно греческому «Атреус» по фонетическому звучанию, сколько передает тот же смысл («бесстрашный»), только на хеттский лад, поскольку восходит к анатолийскому корню «a-trs-io», имеющему значение «не знающий страха». Часть 3 НЕРАЗГАДАННЫЕ ЗАГАДКИ БИБЛИИ >ГЛАВА 1 ЗАГАДКИ КУМРАНА Недавно на экранах телевидения промелькнуло интервью с Изхаром Хйрщфельдом, профессором Еврейского университета в Иерусалиме. Оно было приурочено к выходу новой книги Хиршфельда, посвященной раскопкам в Кумране и т. н. свиткам Мертвого моря. Книга вышла пока только на иврите, по-английски она еще лишь рекламируется, но объявление о ее предстоящем выходе в свет уже сопровождается в каталоге издательства жирной красной звездочкой и большим восклицательным знаком — единственными на весь длинный перечень других книг по соответствующей теме. «Книга профессора И. Хиршфельда», — говорится в коротенькой аннотации, — «переворачивает все прежние представления историков о Кумране». Пытаться пересказать, не будучи специалистом, «все прежние представления историков о Кумране» было бы, по меньшей мере, самонадеянно. К счастью, это и не требуется. Чтобы понять смысл «переворота в представлениях», о котором возвещает аннотация, достаточно припомнить лишь самые основные факты. Речь идет о том самом Кумране — древнем еврейском поселении вблизи Мертвого моря на полпути между Йерихо и Эйн-Геди, — в пещерах вокруг которого в середине прошлого века были найдены знаменитые рукописи и фрагменты, написанные (частично на иврите, частично на арамейском) в период от II века до н. э. и до I века н. э. и содержащие поистине бесценный материал для понимания иудаизма того времени и зарождавшегося тогда христианства. Они-то и называются «Свитками Мертвого моря», или иногда еще — «Кумранскими рукописями». Понятно, что находка таких материалов не могла не всколыхнуть научный мир, и она его действительно всколыхнула, да так, что волны этого толчка не утихают вплоть до нынешнего дня. Книга профессора Хиршфельда — еще одно тому подтверждение. Другим подтверждением этого могут служить споры, вспыхнувшие вокруг публикации статей израильских археологов Ицхака Магена и Юваля Πелега, в которых они недавно подвели итоги своим 10-летним раскопкам в том же Кумране. Широкому читателю эти «кумранские сенсации» вряд ли известны, и поэтому представляется интересным о них рассказать. История обнаружения, собирания, публикации и анализа свитков Мертвого моря изобилует не только поразительными научными открытиями, но и живописными деталями поистине приключенческого толка. Достаточно было бы припомнить, как впервые и совершенно случайно обнаружил эти свитки арабский пастух, как бедуины продавали их историкам «по сантиметрам», как израильские специалисты через цепочку подставных лиц добывали эти библейские документы на иорданских базарах, как тайком вывозились эти драгоценные документы из Палестины, как распознавались и склеивались уцелевшие кусочки в сплошные тексты… но все это многократно описано в популярных книгах, количество которых тянет уже на приличную библиотеку. Мы же здесь хотим поговорить о другой стороне этой истории: о стороне не столько. научной и даже не столько приключенческой, сколько — скандальной. Даже дважды скандальной. Ибо мало того, что значительная часть собранных с таким трудом и важных для всего тйучного мира свитков и их разрозненных фрагментов долгие десятилетия укрывалась от глаз специалистов-историков, так еще и собранный в Кумране археологический материал до сих пор им во многом недоступен. Как это может быть? — наверняка спросите вы. Попробую объяснить. Первые свитки и фрагменты были собраны в пещерах Мертвого моря в период с 1947 по 1956 годы. Их значение было осознано сразу же после открытия, и еще в 1953 году был создан международный комитет по их изданию. Лет 10 спустя многое было издано в виде семитомной оксфордской серии «Открытия в Иудейской пустыне», но в частных руках оставалось еще несколько тысяч фрагментов, представлявших собой обрывки примерно 100 рукописей, и вот их-то публикация была вдруг по непонятным причинам приостановлена, и доступ к ним был ограничен узким кругом примерно 20 человек. Эти люди долгие годы публиковали отдельные фрагменты, зачастую даже без серьезного анализа. Все призывы прекратить эту недостойную практику и опубликовать весь материал оставались втуне, и непристойная свара ученых вокруг свитков Мертвого моря продолжалась до самого начала 1990-х годов. Затем сторонники общедоступной публикации пошли на решительный, хотя и беспрецедентный шаг. Гершель Шанкс, издатель важнейшего библеистического журнала «Biblical Archeology Review» (BAR), каким-то образом раздобыл фотографии неопубликованных фрагментов и с помощью калифорнийских профессоров Р. Айзенмана и Д. Робинсона самовольно издал их в виде двухтомника «Факсимильное издание свитков Мертвого моря». Тем самым все они стали, наконец, доступными для широкого научного изучения. Дело, однако, этим не закончилось. В свое издание Шанкс включил также некий фрагмент свитков под каталоговым номером 4QMMT, который в свое время был реконструирован профессором Еврейского университета в Иерусалиме Элищей Кимроном. Однако Кимрон не только реконструировал этот текст, но также заполнил, опираясь на свои познания, многочисленные пропуски в нем, проанализировал его и показал, что он проливает новый свет на важнейший вопрос об авторах свитков Мертвого моря и их отношении к священнослужителям тогдашнего (Второго) Иерусалимского храма. Результаты своей работы он изложил в частной, не для публикации, статье, и, когда Шанкс включил ее в свое факсимильное издание, Кимрон обратился в суд, обвинив Шанкса в незаконном использовании результатов его труда. Дело дошло до израильского Верховного суда, и в августе 2000 года этот суд признал права профессора Кимрона на реконструированный документ как на личную интеллектуальную собственность. Тем самым была поставлена последняя точка в затянувшейся научной войне. Как пишет американский ученый Поль Флешер, «война в целом была выиграна правой стороной, а последнее ее сражение было выиграно другой, но тоже правой стороной». И, тем не менее, добавим, она покрыла бесславием все воевавшие стороны. С археологическими находками дело обстояло примерно так же. В 1951 году французский Библеистический институт направил известного в ту пору ученого, доминиканского священника-археолога Ролана де Во, на раскопки в Кумран, но большинство предметов, найденных им на этих раскопках, до сих пор остаются недоступными для свободного научного анализа, их описания не опубликованы, и специалистам приходится полагаться на безапелляционные суждения самого де Во. В результате, важнейший вопрос: что представлял собой древний Кумран? — все еще не имеет однозначного решения. А между тем этот вопрос, как это сразу же стало ясным, тесно связан с вопросом о том, кто был автором Кумранских рукописей (т. е. свитков Мертвого моря), а это, в свою очередь, — с вопросом, каково место этих материалов в истории иудаизма и христианства. Такая вот получается запутанная сама на себя история. Давайте попробуем ее распутать. Начнем с конца: со значения Кумранских рукописей. Уже первые свитки, найденные в пещерах вокруг Кумрана в конце 1940 — начале 1950 годов, удивили историков своим содержанием. Кроме двух копий книги пророка Исайи и некоторых ранее неизвестных версий книги Бытия и книги Псалмов, здесь были также документы ритуального характера, впервые прочитанные группой Барроуза и позднее получившие у специалистов название «Устава Общины». Они, действительно, описывали правила поведения членов некой религиозной общины, причем во многом и принципиально отличавшейся от тогдашней еврейской общины, зато в чем-то предвосхищавшей общину и принципы раннего христианства, как они изложены в т. н. Новом Завете. Известный израильский историк профессор Сукеник первым, еще в 1953 году, высказал предположение, что кумранскую общину составляли ессеи — небольшая секта в тогдашнем иудаизме, известная по описаниям Филона Александрийского и Иосифа Флавия, а также греческого историка Плиния Старшего. Если верить Флавию, община насчитывала не более 4 тысяч человек во всем тогдашнем Израиле, была рассеяна по всей стране и отличалась резко критическим отношением к тогдашним руководителям Храма, подчеркнутым стремлением к почти монашескому аскетизму и чистоте и углубленным интересом к «тайнам Торы». Плиний, в отличие от Флавия, сообщал, что ессеи живут, в основном, на западном берегу Мертвого моря, неподалеку от Эйн-Геди. Кумран находится именно там, где указал Плиний, а рукописи, найденные вокруг него, давали основание думать, что они написаны ессеями. Именно так, опираясь на сведения Флавия и Филона, рассудил проф. Сукеник. Поэтому, двигаясь в рассуждениях еще далее вспять, разумно было предположить, что сам Кумран был тем ессейским духовным и физическим центром, о котором писал Плиний. Неудивительно, что Ролан де Во прибыл на расколки Кумрана с твердым убеждением, что призван раскопать что-то вроде монастыря ессеев. Поэтому он и свои археологические находки, сделанные там, истолковал в том же духе, выпятив те, которые соответствовали этому убеждению, и оставив в тени или вообще сочтя несущественным все остальное. Так, с легкой руки Сукеника, де Во, Игаля Ядина и других авторитетных исследователей утвердилось мнение, что Кумран — это центральное ессейское поселение в древней Палестине, и, соответственно, все Кумранские рукописи — часть библиотеки этого поселения, а так как некоторые кумранские тексты, как уже сказано, содержали подобие раннехристианских идей, то вскоре ессеи были объявлены прямыми предшественниками первых христиан. Эту мысль — в виде гипотезы — впервые высказал уже в 1955 году американский литературовед Эдмунд Вильсон в книге «Свитки Мертвого моря»; позднее она стала почти канонической, и сегодня в Британской энциклопедии можно прочесть, что ««Свитки Мертвого моря» являются частью библиотеки, принадлежавшей еврейской религиозной секте (ессеи), которая существовала в Кумране с середины II века до н. э. и вплоть до 68 г. н. э.» (т. е. до взятия Иерусалима римлянами и разрушения Второго храма). Аналогично, в каталоге выставки «Сокровища Святой земли» в американском Метрополитен-музее было сказано, что Кумран был «центром еврейской секты, где составлялись и использовались эти тексты». И если вы отправитесь сегодня в. Кумран (полчаса езды от Иерусалима), то первое, что вас встретит перед экскурсией по развалинам, — это, короткий вступительный фильм, в ходе которого артисты, наряженные древними евреями (какими их, наверно, представляет себе Голливуд), расскажут, как они пришли в Кумран «в поисках чистой и безгрешной жизни», как создали здесь секту «Яхад», как размышляли здесь «о тайнах Торы», как собственноручно писали свитки, в которых предсказывали последнюю, апокалиптическую «схватку сынов Света с сынами Тьмы», и как один из них, некий Иоанн, пошедший с ессейской проповедью к людям, был казнен царем Иродом (уж не намек ли на Иоанна Крестителя?!). А потом вас проведут по раскопкам. Вокруг низкой квадратной каменной башни (обвалилась, наверно, за века) протянутся перед вами развалины былых помещений и построек: вот акведук, приводивший воду из близлежащего вади, где по весне скатывалась в Мертвое море дождевая вода, вот широкие и глубокие цистерны для ее хранения; вот ступени, ведущие к бассейнам для ритуального очищения, вот крохотные (подсобные?) комнатки, вот огромный Обеденный зал, а вот длинное прямоугольное помещение, возле которого в землю воткнута табличка с надписью «Комната автора» — знаменитая «Комната писцов», или Скрпиториум, как назвал ее де Во, нашедший здесь обломки столов и несколько бронзовых чернильниц, окончательно убедивших его в том, что это и было место сочинения и написания «Кумранских рукописей». Посмотрев фильм и внимательно изучив все надписи на табличках, вы покинете Кумран с тем же твердым убеждением, что и де Во. И всю дорогу назад — всю пустынную, безлюдную дорогу назад — будете, наверно, — увлеченно представлять себе, как в те давние древние времена в этой далекой затерянной глуши — жила группа аскетов и подвижников, посвятивших жизнь созданию новой религии. И вам будет совершенно невдомек, что все услышанное и увиденное вами в Кумране — всего лишь ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ, одно из многочисленных толкований загадок Кумрана — то, которое принято учеными из Музея Израиля и многими другими, но отнюдь не единственное. Это будет вам невдомек по той простой причине, что в фильме и на развалинах от вас заботливо скрыли многочисленные натяжки и прямые противоречия, которыми изобилует это «каноническое» толкование и вокруг которых в кумрановедении еще и сегодня идут ожесточенные споры. Давайте же поговорим об этих спорах и о других толкованиях кумранских находок. * * *В 1997 году Эшель и Кросс нашли за стенами Кумрана остракон (глиняный черепок) с древней надписью. В этой надписи они обнаружили слово «Яхад» — то самое, которое упоминается в некоторых Кумранских рукописях как самоназвание ессейской секты. Эта находка была объявлена (сначала в статье Эшеля и Кросса, а затем в каталоге Музея Израиля в Иерусалиме) «первым доказательством прямой связи между местом и (найденными в нем) рукописями», иначе говоря — подтверждением того, что «данное место (Кумран) действительно служило общинным центром ессейской секты». Находку широко рекламировали газеты Израиля (например, «Гаарец» 18 июля и 15 августа того же года) и западных стран. Черепок, вкупе с другими экспонатами Кумрана, торжественно объехал весь мир и триумфально прибыл на Кумранскую выставку 2001 года в Чикаго. Здесь, однако, его ожидал конфуз, ибо уже за 4 года до того профессор Норман Голб, возглавлявший кафедру еврейской истории и цивилизации имени Давида Розенбергера как раз при Чикагском университете, посвятил знаменитому черепку статью, в которой убедительно показывал, что прочтение надписи на нем, предложенное доктором Эшелем и принятое Музеем Израиля, было совершенно безосновательным. Те из вас, кто знает ивритские буквы, могут сами рассмотреть указанное место в надписи (на рисунке 1 оно отмечено стрелками: справа — на черепке, слева — в транскрипции Эшеля) и убедиться, что четыре последние буквы нижней строки лишь с огромной натяжкой могут быть прочитаны как слово «Яхад». Мы совершенно случайно начали разговор о натяжках и противоречиях в «каноническом» толковании Кумрана с рассказа об остраконе Эшеля Кросса. С таким же успехом его можно было начать, скажем, с рассказа о том, что при раскопках в Кумране было найдено кладбище, на котором были захоронены более тысячи человек, — несколько многовато, не правда ли, для уединенной «монастырской» общины? Еще более странно, что добрая половина этих захоронений принадлежала женщинам, что совсем уж не вписывается в наши представления об аскетической секте, — члены которой, как утверждал Плиний, давали обет безбрачия. Зачем понадобилось целомудренным ессеям такое количество женщин? Или вот, к примеру, другая история — с тридцатью филактериями, или «тфилин», остатки которых были обнаружены (вперемешку с рукописями) в пещерах, окружающих Кумран. В этих двух кожаных коробочках, которые повязывает себе на лоб и левую руку молящийся еврей, находятся написанные на пергаменте молитвы. Любопытно, однако, что в кумранские тфилин были вложены, как оказалось, самые разные молитвы, что опять-таки странно для секты, которая свое единомыслие подчеркивает даже в самоназвании — «Яхад» (что значит «вместе», «заедино»). А чем объяснить наличие в развалинах Кумрана тысяч однотипных глиняных тарелок и кувшинов, как будто изготовленных на продажу или для использования в каком-то большом хозяйстве? Или большую, явно крепостного вида башню? Или отсутствие жилых помещений при наличии гончарных мастерских, печей для литья железа, стойл для животных и т. п.? 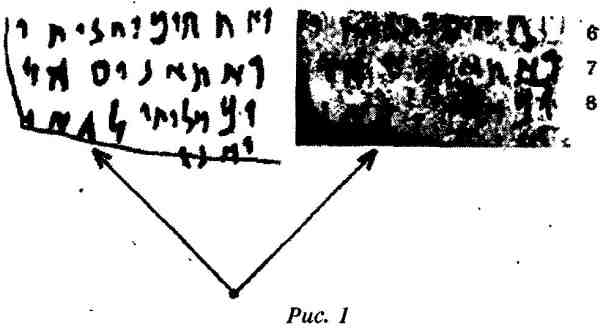
Таких примеров можно привести еще много, и для каждого из них «каноническая» версия вынуждена искать отдельное — зачастую весьма натянутое — объяснение. Женщины? Наверно, рядом с «безбрачными ессеями» в Кумране жили и «ессеи семейные». Много трупов? Возможно, сюда приходили ессеи со всех концов Палестины. Отсутствие жилых помещений? Значит, все насельники Кумрана жили в пещерах вокруг центрального помещения. А рукописи, найденные там? Вероятно, именно там они и изучали Тору. Но почему в пещерах нет никаких останков, никаких следов пребывания людей? Ну, может быть, они жили не в самих пещерах — там они только хранили рукописи и изучали Тору, — а жили, скажем, в шалашах и палатках рядом с Кумраном. А почему в тфилин вложены разные молитвы? Видимо, руководители секты разрешали всем членам общины молиться как кто привык. А зачем столько глиняной посуды? Они из нее ели. И так далее, и тому подобное. Это как раз тот метод объяснения, который по-латински называется «ад хок» (буквально: «к этому»), то есть применительно к данной конкретной потребности, каждая отдельная гипотеза — для объяснения каждой отдельной загадки, вне зависимости от целого. «Целым», которое призваны сохранить все эти частные гипотезы, является лишь один, главный принцип: Кумран — это место пребывания ессейской (протохристианской) общины, которая создала Кумранские рукописи. Этот принцип намертво связывает проблему Кумрана с проблемой свитков Мертвого моря. Между тем, свитки, подобные кумранским, а также отличные от них, но тоже содержащие древние тексты, а также просто документы той давней эпохи (письма, записки, долговые обязательства и т. п.), которых нет в Кумране, были найдены и во многих других местах вокруг Мертвого моря. Это громадное на сегодняшний день палеографическое наследие отражает духовную и бытовую действительность Иудеи на переломе тысячелетий, и представляется, что свитки Мертвого моря следует изучать именно на этом фоне, а не в шорах «протохристианского» подхода. Освобожденная при этом от проблемы свитков проблема Кумрана предстает в совершенно ином свете. Об этом первым заговорил — еще в 1984 году — упомянутый выше профессор Голб. По его меткому наблюдению, тот случайный порядок, в котором одна за другой обнаруживались Кумранские рукописи, сильно повлиял на толкование всей Кумранской проблемы, потому что в числе первых были найдены некоторые свитки «протохристианского» или, во всяком случае, ессейского содержания, и это сразу же склонило исследователей сосредоточиться на ессеях как «главных подозреваемых» в авторстве всех Кумранских рукописей вообще. Однако, по мнению Голба, знаменитые свитки Кумрана имеют не ессейское, а совсем иное происхождение, а сам Кумран никогда не был «монастырем ессеев». Статья Голба положила начало целому ряду новых гипотез, выдвинутых другими учеными для решения загадок Кумрана, и можно, не очень преувеличивая, сказать, что неканонические толкования этих загадок сегодня конкурируют с каноническими практически на равных. Займемся самим Кумраном, отдельно от пресловутых «свитков». По другому меткому замечанию, которое принадлежит археологу Дэйвиду Стаей, на взгляды многих археологов — в особенности, тех, кто. первыми начали раскопки в Кумране, — тоже повлияло некое случайное обстоятельство, а именно то, что во времена этих первых раскопок (как, впрочем, и сейчас) Кумран выглядел глухим, заброшенным уголком пустыни, далеким от всякого жилья и от всех центров цивилизации и потому мог показаться идельным местом для группы людей, которые хотели «уйти от мира» в аскезу, отшельничество и изучение Торы. Однако более поздние археологические исследования в этих местах показали, что в последние века до н. э. — те самые, которыми датируются Кумранские рукописи, — Кумран выглядел совершенно иначе. Результаты этих исследований, подытоженные в книгах Нетцера «Хасмонейские и иродианские дворцы в Йерихо», т. 1 (2001) и Бар-Натана «Хасмонейские и иродианские дворцы в Йерихо», т. 3 (2002), а также в труде Амита, Патрича и Хиршфельда «Акведуки Израиля», рисуют такую картину. Во II в. до н. э. Кумран находился на скрещении торговых и военных путей, всего в 12 километрах (3 часа неспешной ходьбы) от огромного Хасмонейского поместья в Йерихо (Иерихоне), в центре которого возвышался пышный царский дворец. Хасмонеев привели в эти места два дерева, которые приносили царской казне большую прибыль: финиковая пальма и бальзамное дерево. Они широко упоминаются в трудах многих античных авторов. Плоды первого и сок второго пользовались в те времена огромным спросом. Учитывая это, первые хасмонейские цари Шимон (143–134 гг. до н. э.) и Иоханан Гиркан (134–104 гг. до н. э.) начали прокладывать акведуки из устья вади Кельт в район Йерихо, и постепенно огромный участок ранее бесплодной земли к западу от города был превращен в сельскохозяйственные угодья. Одновременно был построен большой жилой комплекс для управляющих поместьем, а также для отдыха царской семьи. Там же были построены гончарные мастерские, о чем свидетельствуют найденные археологами остатки двух обжигательных печей. Однако в районе Йерихо не было достаточного количества дерева, да к тому, же дым печей, надо полагать, был неприятен царским ноздрям, поэтому со временем производство посуды для поместья, а также на продажу (цари, видимо, не брезговали и приторговывать) было перенесено в близлежащий Кумран — там, на побережье Мертвого моря, было много горючего битума. Правда, битум при горении образует клубы едкого дыма, но царского дворца он, конечно, не достигал. Зато здесь, вдобавок к битуму, были большие залежи отличной глины — трехтонные запасы ее археологи недавно вскрыли прямо под главной кумранской цистерной. Можно думать, что именно тогда в Кумран был проведен отдельный акведук. О том, что вода, поступавшая по нему в Кумран, предназначалась не для питья или ритуального омовения, свидетельствуют специальные стоки для грязи и прочих осадков, сделанные в устье акведука, перед самом входом в цистерну. О ремесленном назначении тогдашнего Кумрана говорят и запасы сохранившейся тем посуды — грубо сделанная и плохо обожженная, она зато была идеально приспособлена для упаковки и перевозки, а это составляет два главных требования к массовому производству. Кумран стал, по существу, составной частью йерихонского поместья Хасмонеев, и можно думать, что главную часть его населения составляли тогда рабы и наемные рабочие, ремесленники и земледельцы. Одни жили и работали здесь, другие обслуживали поместье и возвращались в Кумран только на ночлег, в шалаши и землянки. Кумран приглянулся Хасмонеям не случайно. Еще в древности, судя по всему — в VII веке до н. э., здесь высилась небольшая крепостца, защищавшая дороги, шедшие из Иерусалима на Эйн-Геди, к восточным границам Иудейского царства. Царь Иоханан Гиркан построил здесь, над Кумраном, крепость Гирканию. При его сыне, Александре Яннае (103–76 гг. до н. э.) Иудея вела непрерывные войны (большая часть которых была спровоцирована самим царем, стремившимся, в духе отца и деда, к расширению своих владений). Когда царь попытался завоевать Заиорданье, он столкнулся с сопротивлением набатейских царей Ободаса, а затем Аретаса, которые дважды нанесли ему поражения и даже вторглись в Иудею. Это вынудило царя укрепить крепости вдоль Мертвого моря, в том числе и Кумран. Позже положение стало таким критическим, что по приказу Александра Янная царский дворец в Йерихо был засыпан землей, вынутой при рытье оборонительного рва семиметровой глубины, а на вершине образовавшегося в результате искусственного холма был возведен куда более скромный «Укрепленный дворец», на самом деле, — небольшое здание для самого царя и его военоначальников. Любопытно, что по многим признакам — включая угловую квадратную башню — «похороненный» под насыпью прежний дворец Хасмонеев в Йерихо весьма напоминал тот жилой комплекс, что был раскопан в Кумране. Правда, землетрясение, случившееся в этих местах в 31 г. до н. э., сильно повредило кумранский комплекс, а так как впоследствии (уже во времена Ирода и римской оккупации Иудеи, скорее всего, — около IV в. до н. э.) он был отчасти восстановлен, археологи так до сих пор и не знают, куда отнести многие из найденных обломков. Но если основная их часть принадлежала комплексу и до землетрясения, то можно с уверенностью сказать, что он был куда ближе к богатым дворцовым постройкам, нежели к монастырю, да и само сооружение комплекса такого типа едва ли было под силу небольшой группе ессеев, к тому же принципиально отвергавшей роскошь. Видимо, надобность в Кумранской крепости отпала уже под конец правления Александра Янная, потому что уже при нем оборонительный ров в Йерихо был частично засыпан, а после его смерти на холме был построен новый т. н. «Двойной дворец». Надо думать, что угроза с юга вдоль берегов Мертвого моря уменьшилась, стратегическое значение Кумрана тоже сошло на нет и гарнизон оттуда был выведен. В крепости появились новые обитатели, которые принесли с собой новые обычаи захоронения, но характер деятельности этих людей остался прежний: сохранились большие запасы глиняной посуды тех времен, рядом с которыми были обнаружены свертки с тщательно упакованными костями животных, употреблявшихся в пищу. Можно думать, что часть этих людей обслуживала восстановленное йерихонское поместье с его новым, построенным уже при Ироде Великом роскошным дворцом, тогда как другие опять занялись гончарным ремеслом. Судя по количеству костей, постоянное население Кумрана было незначительным: Маген и Пелег считают, что их было не более 25, Хиршфельд оценивает их число в несколько десятков. Что же до назначения странных свертков с костями, то некоторые ученые объясняют его чисто местными особенностями. Люди Кумрана, — говорят они, — не могли жить в пещерах, потому что в те времена жить в пещерах около Мертвого моря было небезопасно — тут бродили гиены и леопарды. Поэтому обитатели Кумрана жили либо в самом, частично восстановленном, комплексе, либо рядом, в шалашах и хижинах; а кости съеденных животных они не выбрасывали, а паковали и уносили куда-то в другое место именно потому, что боялись привлечь этими костями опасных хишников к своим жилищам. Невольно возникает вопрос: если люди не жили в пещерах (и уж подавно не изучали там Тору), то как попали туда пресловутые «свитки»? Некоторые сторонники канонической теории высказывают предположение, что пещеры служили своего рода «книгохранилищами библиотеки кумранских ессеев», но, не говоря уже о странности и крайнем неудобстве такого способа хранения свитков, которые нужны для изучения чуть ли не каждый день, позволительно задать более общий вопрос: а могла ли вообще существовать община «удалившихся от мира» ессеев в таком шумном, грязном, задымленном ремесленном ночлежном поселке, как тогдашний Кумран? Разумеется, не исключено, что какую-то часть обитателей Кумрана составляли отдельные ессеи, но если общее число тамошних жителей никогда не превышало нескольких десятков и большая часть из них была занята гончарным ремеслом, и трудом в йерихонском поместье, то могли ли оставшиеся создать такую огромную библиотеку? А. если нет, то как все-таки эти свитки могли попасть в кумранские пещеры и каково их происхождение? Прежде, чем отвечать на этот «главный» вопрос, закончим разговор о Кумране. Он был снова разрушен в ходе «Первого восстания», т. е. знаменитой Иудейской войны, когда римляне захватили Иерусалим и разрушили Второй Храм. Многие жители бежали тогда из столицы Иудеи, и кое-кто из них пытался найти убежище в Кумране. Преследовавшие их римляне захватили и разрушили поселок. Еще позже, во время т. н. «Второго восстания» (или «восстания Бар-Кохбы»), Кумран нанадолго был превращен повстанцами в укрепленный пункт — и опять разрушен римлянами. После этого он окончательно пришел в запустение — вместе со всей остальной Иудеей. За время своего многовекового существования он пережил ряд трансформаций был крепостью, потом был заброшен, потом снова превратился в крепость, потом стал ремесленным поселком, снова укрепленным пунктом и, наконец, окончательно опустел. Чем же все-таки он был в хасмонейские и иродианские времена, к которым относятся найденные в пещерах вокруг него свитки? Мы уже знаем канонический ответ: ессейским монастырем или, по меньшей мере, центром крупной ессейской общины. Мы уже знаем также, с какими противоречиями сталкивается этот ответ. А что говорят археологи-«еретики»? «Зачинатель ереси», упомянутый выше Норман Голб, с самого начала утверждал, что люди, населявшие Кумран, никогда не принадлежали к секте ессеев или какой-либо другой радикальной еврейской секте (надо заметить, что представление, будто в те времена в иудаизме существовали только три течения: саддукеи, фарисеи и ессеи, — весьма поверхностно; были еще зелоты, терапевты, банаи и некоторые другие). Сам Голб считал, что Кумран всегда был чисто военной крепостью, но, как мы видели, это предположение не согласуется со всей совокупностью новейших археологических данных. Эти данные заставляют, скорее, видеть в Кумране второго-первого веков до н. э. скромное поселение ремесленников и сезонных сельскохозяйственных рабочих. Но с этим не согласуется близкая к дворцовой изощренная сложность кумранского жилого комплекса. В самое последнее время эту путаницу еще более усложнили сенсационные данные раскопок Ицхака Магена и Юваля Пелега, которые в течение 10 лет вели исследования в Кумране. Эти археологи обнаружили в развалинах Кумрана такие дорогие предметы, как драгоценные украшения, остатки явно импортных — дорогих по тем временам — стеклянных сосудов, каменные флаконы для изысканной косметики, пышно украшенные гребни, иными словами — предметы, которым явно не место ни в ессейском монастыре, ни в поселке ремесленников и сезонных рабочих. На этом основании Изхар Хиршфельд выдвинул гипотезу о том, что Кумран был имением богатого еврейского землевладельца, возможно — какого-нибудь вельможи при дворе Хасмонеев. (Эта гипотеза перекликается с давним предположением Донкильса, который считал Кумран загородной виллой иерусалимского богача.) Понятно, что все эти гипотезы исключают ессейскую природу Кумрана, и неудивительно, что сторонники канонической версии встретили их в штыки. Так, американский пастор Рэндалл Прайс из университета в штате Нью-Мексико немедленно предпринял поездку в Кумран, провел там молниеносные, продолжавшиеся всего пять недель раскопки и объявил, что нашел очередное «несомненное доказательство» ессейского характера поселения — кости животных, уложенные таким специальным манером, который может объясняться только правилами какого-то особого религиозного ритуала. Судя по этой поистине отчаянной попытке спасти прежние представления, новые археологические данные уже всерьез угрожают самим основам канонической «кумрано-ессейской» теории. И действительно, недавняя международная конференция археологов, прошедшая в 2002 году в Броуновском университете (США), констатировала, что новые гипотезы практически вытесняют — если еще не вытеснили совсем — прежние представления науки о Кумране. Но если Кумран не был поселением или монастырем ессеев, это возвращает нас к поставленному ранее вопросу: каково же происхождение Кумранских свитков? Какие предположения на сей счет выдвигают противники «кумрано-ессейской» теории? Попробуем рассказать и об этом. * * *Из семи свитков Мертвого моря, первыми попавших в руки исследователей, три представляли собой варианты библейских книг (Исайи и Бытия), а четыре резко выделялись на их фоне своим особым характером. Один из них, «Устав общины» («Серех а-Яхад»), резко противопоставлял членов некой религиозной общины всему остальному человечеству: по изначальному установлению божьему люди делятся на «сынов света» и «сынов тьмы», и в конце времен Господь дарует первым полную победу Над вторыми; пока же члены общины «сынов света» должны подчиняться строгим правилам общежития и следовать возвышенным этическим нормам (которые перечислялись в заключительной части свитка). «Свиток гимнов», содержавший около 35 псалмов, пронизывала мысль об изначальной греховности человека и предопределенности не только его судьбы, но даже его мыслей. Лишь ибранники (слова «Израиль» в тексте нет) удостоены постижения этой великой мудрости Господнего замысла, и лишь у них есть надежда на спасение; собственно, вступление в общину и есть первый шаг к такому спасению и посмертному воскресению. Свиток с текстом, посвященным «Войне сынов света с сынами тьмы», подробно описывал грядущую в конце времен «последнюю» войну, в ходе которой будут уничтожены все враги сынов света — сначала потомки Сима, потом Хама и наконец Яфета. А в свитке, содержавшем комментарий на библейскую книгу пророка Авваккука, провозглашалось, что Господь дал откровение некому «Учителю праведности», и откровение это состоит в том, что конец времен приближается. Имя «Учителя праведности» снова появлялось в другом, приобретенном позднее свитке — т. н. «Дамасском документе», где более подробно излагалась история секты. Согласно документу, она возникла в Иерусалиме через 390 лет после разрушения Первого храма (т. е. в начале II в. до н. э.), незадолго до появления Учителя праведности, он же «единственный учитель» или «учитель единого», или, в некоторых прочтениях, просто «учитель общины», который объединил всех своих последователей в т. н. «Новый Завет». Ему противостоял некий «Проповедник лжи», под влиянием которого Израиль отступил от «Нового Завета» и власть в Храме (уже Втором) узурпировали «неправедные». (Этот эпизод отражает определенную реальность: именно во II в. до н. э. Ионатан Хасмоней, брат Иуды Маккавея, стал первосвященником, узурпировав эту власть у потомков Цадока — первосвященника времен Давида и Соломона; эту власть Хасмонеи удерживали потом около 150 лет подряд.) Поэтому члены секты под руководством «законодателя, излагающего Тору», бежали в «Дамаск» (одни исследователи считают это названием реального Дамаска, куда могли бежать противники Александра Янная, когда он захватил престол Иудеи; другие видят в этом названии метафору пустыни). Там они будут находиться до второго появления Учителя праведности, которое произойдет «в конце дней». Легко понять возбуждение ученых, которым попали в руки эти свитки. Хотя налицо было определенное сходство изложенных в них религиозных идей с идеями гностиков и зороастрийцев (последователей иранского пророка VI в. до н. э. Заратустры), еще большим было их совпадение с этическими и мистическими элементами новозаветного раннего христианства, вплоть до фигуры «Учителя праведности», его вторичного появления в конце времен и спасения тех, кто следует его учению. Вскоре существование неизвестной секты, создавшей эти свитки, было объявлено доказательством исторической реальности Христа и его первых последователей, а когда профессор Элиезер Сукеник выдвинул предположение, что эти свитки созданы ессеями, и де Во, на основании своих раскопок, назвал Кумран местом их создания и центром ессейской общины, представление о том, что ессеи были прямыми предшественниками ранних христиан, а Кумран — важнейшим очагом этого протохристианства, утвердилось окончательно. «Кумрано-ессейская теория» безраздельно господствовала в науке в течение почти 30 лет. Но тем временем обнаруживались и изучались все новые и новые свитки и их фрагменты, и постепенно стало ясно, что материалы «ессейского» происхождения составляют лишь небольшую их часть. Значительная доля собранного исследователями «кумранского архива» представляла собой не столько произведения ессейского характера, сколько документы библейского толка — копии библейских книг (несколько отличные от канонических) или их переводы на арамейский и даже греческий языки, а такжечапокрифы (т. е. книги, не вошедшие в библейский канон) и псевдоэпиграфы (книги, авторство которых приписывается тем или иным упоминаемым в Библии лицам — например, «Завещание Нафтали» или «Речения Моисея» и т. п.). Общая картина стала исподволь меняться — совокупность кумранских рукописей все больше выглядела как «библейская библиотека» самого широкого профиля с изрядным вкраплением «ессейских» материалов, но никак не как чисто «ессейские» творения. В целом, эта библиотека проливала новый свет на историю иудаизма — стало очевидно, какое большое, пестрое и противоречивое множество библейских прочтений, трактовок и версий существовало в тогдашней еврейской среде, какие разноречивые идеи, концепции, мысли сталкивались в еврейском коллективном уме, какие основные течения «вываривались» в этом бурлящем духовном котле. Первым, кто высказал сомнения в чисто ессейском характере Кумранских рукописей, был уже неоднократно упоминавшийся Норман Голб. Исходя из определенных палеоэпиграфических соображений, он заявил, что в написании свитков, найденных в пещерах вокруг Кумрана, участвовало не менее 150-ти писцов — число, намного превышающее все, что могло существовать в рамках кумранской общины. Надо сказать, что вопрос о «писцах Кумрана» тоже оказался довольно запутанным и противоречивым. Представление о том, что найденные в пещерах свитки писались в Кумране, возникло после того, как де Во и сопровождавший его Хардинг нашли в одном из раскопанных ими помещений Кумрана вделанный в пол глиняный кувшин, похожий на те, в котором в пещерах хранились рукописи, а в другом помещении — обломки деревянных столов и целых пять чернильниц. Все это и было объявлено ими доказательством того, что свитки Мертвого моря писались в этом втором помещении (которое с легкой руки первоисследователей получило название «комнаты писцов» или «скрипториума»), а затем помещались в глиняные кувшины и относились в пещеры для хранения. Поскольку пол в помещении с кувшином датировался первым веком нашей эры, т. е. временем, близким к временам т. е. Иудейской войны, или «Первого Восстания», то и рукописи были первоначально датированы, первым веком н. э. Дополнительным подтверждением этой датировки были найденные де Во и Хардингом в том же помещении старинные монеты. Однако последующие раскопки — как в самом Кумране, так и в соседних местах, в частности — в Йерихо, поставили под сомнение все эти выводы де Во. Пресловутый пол в первом помещении оказался настланным на более древний, засыпанный в конце I в. до н. э. и затем расчищенный. Найденный там кувшин оказался относящимся к этим более древним временам, поскольку совершенно аналогичный кувшин, твердо датируемый концом I в. до н. э., был найден Рахелью Бар-Натан в развалинах Йерихо. Другие кувшины, найденные де Во, хотя и относятся к I в. н. э., но, по признанию самого де Во, не предназначались специально для хранения свитков и потому не могут свидетельствовать, что свитки писались именно в I в. н. э., а не раньше. Из пресловутых пяти чернильниц (именно это необычное количество чернильниц в одном месте когда-то и заставило де Во заговорить о специальной «комнате писцов» в Кумране), три. оказались, как выявил более поздний анализ, принадлежащими к III в. н. э., то есть ко временам, когда никакая кумранская община, даже если она когда-то была, теперь наверняка уже не существовала. И, наоборот, монеты, найденные де Во и Хардингом, оказались более древними, относящимися не к I в. н. э., а к I в. до н. э. На то же более раннее время указывают данные палеографического анализа кумранских рукописей (например, Ада Вардени доказала, что в кумранских текстах нет того способа написания букв — специфического полукурсива, — который был характерен для I в. н. э.), а также радиоуглеродного метода их датировки. Любопытно, что хотя все эти факты стали со временем известны де Во, он ни разу не упомянул их в своих выступлениях и статьях последующих лет. Данные его собственных раскопок, как мы уже говорили, до сих пор не опубликованы до конца, и трудно понять, почему он так упорно датировал все свои находки именно I в. до н. э., несмотря на все противоречия этой датировки с новейшими данными. Возможно, то была ошибка, возможно, какую-то роль сыграл тот факт, что I в. н. э. очень хорошо знаком историкам — это век, подробно описанный Исофом Флавием и другими тогдашними авторами, тогда как I–II в. до н. э. — это «темные века» иудейской истории. Но не исключено также, что датировка Кумранских рукописей I в. н. э. была продиктована подсознательным стремлением доказать историчность Иисуса Христа: уж очень хорошо ложился «Учитель праведности» на его образ. Как бы то ни было, Грег Дудна, который суммировал все эти споры в своей обзорной статье «Передатировка кумранских свитков» (2004), в конце статьи заключает, что все имеющиеся сегодня данные приводят к решительному выводу: кумранские свитки были написаны не позднее конца I в. н. э., т. е. почти за столетие до Иудейской войны. Несколько более точную дату предлагает Майкл Вайз, проделавший специальный анализ скрытых намеков в тексте этих свитков. В результате своего анализа Вайз обнаружил, что 6 таких намеков относятся к людям и событиям, существовавшим или имевшим место во II в. до н. э., 26 — к людям и событиям I в. до н. э., и нет ни одного, который относился бы ко времени позднее 37 года до н. э. На этом основании Вайз заключает, что «почти 90 % всех «ессейских» рукописей Кумрана были написаны (или переписаны) в I в. до н. э., причем 52 % из них — в десятилетие между 45-м и 35-м годами до н. э». Потом это занятие буквально обрывается. Несомненно, тут таится какая-то загадка, требующая разрешения. Одно из возможных решений этой загадки предложил Стивен Пфанн, один из главных дешифровщиков кумранских свитков. Он выдвинул предположение, что ессеи жили в Кумране (и, по его мнению, писали там свои рукописи) лишь до землетрясения и пожара 31 года до н. э. Потом они перешли в Иерусалим по приглашению царя Ирода и, возможно, снова вернулись в Курман с началом Иудейской войны. В промежутке же, соглашается Пфанн, там могли временно жить ремесленники и сезонные рабочие, а, может, даже и вельможи. Этим, по Пфанну, объясняется противоречивость кумранских археологических данных. Пфанн, как видно из его гипотезы, упорно хочет сохранить авторство кумранских рукописей за ессеями. Но Дудна в своем обзоре приходит к несколько иным выводам. «Не вступая в противоречие со всеми имеющимися сегодня данными, — пишет он, — можно думать, что главная или, во всяком случае, значительная часть этих текстов была импортирована в Кумран, то есть доставлена извне, тогда как некоторые, действительно, могли быть составлены на месте… Что касается их обнаружения в пещерах, то тут могут быть три объяснения. То могло быть постоянное хранилище, вроде т. н. «генизы», откуда свитки и не планировалось изымать, — они просто складывались там, потому что это были священные тексты, которые у евреев, даже устарев или придя в негодность, не уничтожаются, а хранятся в особом помещении. Либо же это было своего рода действующее книгохранилище, которым пользовались до тех пор, пока война или другое бедствие не нарушили прежний порядок жизни и заставили его забросить. Либо же, наконец, свитки могли спрятать там во время той же войны, а спрятавшие их люди уже не смогли за ними вернуться, потому что были убиты или депортированы. А, возможно, что каждое из этих объяснений приложимо к различным пещерам». И далее Дудна, подобно Вайзу, указывает на еще одну загадку Кумрана: «Любопытная деталь, — говорит он, — состоит-в том, что в одних пещерах, более далеких от самого Кумрана, свитки были найдены в кувшинах, а в других, более близких — разбросанными как бы наспех. Но при этом во всех пещерах были свитки самого разного рода и разных дат. Как это истолковать? Не знаю и не думаю, что кто-либо из кумрановедов может предложить ответ». Мысль о том, что большинство свитков было доставлено в Кумран извне, для сохранения во время опасности, приобретает в последние годы все больше сторонников. А поскольку в этом случае авторами свитков не обязательно должны были быть ессеи Кумрана, то такое авторство приписывается самым разных группам, существовавшим в тогдашней Иудее, — ведь принести свитки в Кумран могли откуда угодно. Так, Баумгартен и Шиффман предложили гипотезу, согласно которой основная часть т. н. кумранских свитков была, в действительности, написана не ессеями, а саддукеями (влиятельной при Хасмонеях религиозной группой, тесно связанной со жречеством Иерусалимского храма и крупными землевладельцами) или группой «радикальных цадокитов», идейно родственной этому течению тогдашнего иудаизма. В пользу этой гипотезы говорит, во-первых, само название «саддукеи» (современная наука возводит его к первосвященнику Цадоку, к которому возводит себя и секта из «Дамасского документа»), а, во-вторых, содержащееся в свитках (и характерное как раз для саддукеев) ригористическое требование исполнения всех мельчайших предписаний религиозного закона. Однако социальное положение саддукеев во времена Второго. Храма, отрицание ими воскресения из мертвых и ряд других важных деталей саддукейской доктрины явно не совпадают с перечисленными выше религиозными идеями собственно ессейских документов Кумрана, и потому гипотеза Баумгартена-Шиффмана представляется кумрановедам не очень убедительной. Самое радикальное объяснение загадки кумранских свитков предложил все тот же Норман Голб. Это объяснение постепенно приобретает все больше сторонников. Сегодня в его пользу высказываются многие авторитетные археологи и историки, занимающиеся Кумраном, в том числе упоминавшиеся нами Изхар Хиршфельд и Ицхак Маген. По Голбу, свитки Мертвого моря вообще не имеют отношения к Кумрану, независимо от того, существовала там какая-то сектантская (ессейская?) община или нет. Широкий спектр этих документов, отражающих самые разные течения и подходы в тогдашнем иудаизме, может быть объяснен, — утверждает Голб, — только предположением, что все они первоначально принадлежали либо Храмовой библиотеке, либо, еще скорее, самым разным группам и отдельным людям. В таком случае, они могли оказаться в пещерах по самой простой причине: владельцы спрятали их там, когда бежали из Иерусалима от римлян, в конце «Первого восстания». Эту же мысль повторяет Ицхак Маген: «Они (свитки) могли быть принесены сюда кем угодно, включая беженцев, спасавшихся от римлян. Некоторые из них уносили с собой драгоценные свитки, но позже, перейдя Иудейские холмы и оказавшись перед необходимостью пробираться по берегу моря, не захотели нести их с собой и решили спрятать. Таким образом, это не сектантские писания, ессейские, саддукейские или храмовые, это — литература иудаизма в целом, литература иудаизма времен Второго Храма. Она принадлежит всему еврейскому народу». Развивая эту «гипотезу бегства», Норман Голб недавно опубликовал статью «Маленькие тексты, большие вопросы» (2002), в которой предложил детальную возможную картину такого бегства, довольно убедительно обосновывающую его рассуждения о происхождении кумранских свитков. В книге Иосифа Флавия, — напоминает Голб в своей статье, — говорится, что евреи, бежавшие из захваченного римлянами в 70-м году н. э. Иерусалима, направлялись по двум основным путям — на юг и на восток. Голб считает, что целью первого потока, который шел через Бейтлехем (Вифлеем), Иродион и вади Эйн-Геди, была Масада, тогда как второй поток беженцев, шедший на восток, двигался в сторону другой горной крепости — Макерус, на восточном берегу Мертвого моря, в Транс-Иордании, построенной во времена наибольшего распространения Хасмонейского царства. Этот поток мог разветвиться — одни люди обогнули Мертвое море по суще, с севера, тогда как другие перешли его вброд или вплавь в ближайшем удобном месте. На карте, которую Голб прилагает к своей статье, этим «ближайшим удобным местом» (после Йерихо) оказывается именно Кумран. И потому именно здесь, готовясь продолжить путь по воде, беглецы расставались с драгоценной ношей, захваченной из Иерусалима, — каждый со своими свитками, которые он не хотел оставить на осквернение римлянам. Отсюда и такое необычное скопление этих свитков в Кумранских пещерах. Некоторая часть беглецов продолжила свой путь к Макерусу, другие остались в Кумране. Эти последние вскоре погибли от рук римлян, пришедших по их следам и разрушивших кумранскую крепость. В свое время погибли и те, кто надеялся укрыться в Макерусе, как впоследствии погибли и защитники Масады. А свитки — что ж, свитки остались. Вот они, вы можете увидеть их в Храме Книги при иерусалимском Музее Израиля. Будете смотреть — вспомните тех, кто шел в толпе людей по темным гористым тропам, пробираясь к Мертвому морю, то и дело оглядываясь на пылающий Иерусалим и сжимая под рубахой спасенные от огня и позора будущие кумранские свитки. Впрочем, если предпочитаете — представьте себе склонившихся над рукописями неведомых писцов-ессеев. Ученые ведь все еще спорят. >ГЛАВА 2 БИБЛЕЙСКИЕ КОДЫ >1. ЗАГАДКА В последнее время возникло и распространилось массовое, почти повальное увлечение так называемыми «библейскими кодами» или «кодами Торы» (Торой в еврейской традиции называют первые пять книг Библии, и именно в этих пяти книгах обычно находят упомянутые «коды»). Строго говоря, это не совсем уж новое увлечение — отдельные энтузиасты давно занимались поиском таких кодов, но широкая публика заинтересовалась ими сравнительно недавно, когда стали распространяться слухи о работах двух израильских ученых, Рипса и Вицтума, будто бы математически доказавших, что, в тексте Торы скрыт некий второй, зашифрованный специальным кодом текст, относящийся к событиям и людям более позднего времени. Несколько позже, в 1997 году, появилась книга американского журналиста Майкла Дроснина «Коды Торы», которая еще больше разожгла этот интерес сенсационным сообщением о том, что автор еще в 1995 году обнаружил зашифрованное в Торе предсказание об убийстве израильского премьера Рабина (которое безуспешно пытался предотвратить), а также многие другие предсказания и пророчества, касающиеся нашего недавнего прошлого и недалекого будущего. Книга Дроснина и другие, ей подобные, последовавшие за ней, породили многочисленные слухи и толки о «загадочных библейских кодах», но во всех этих разговорах по-прежнему остается, к сожалению, куда больше приблизительности и сенсационности, нежели точного знания, и поэтому стоит рассказать об этих пресловутых кодах точней и подробней. Прежде всего, о чем вообще речь, что это такое — библейский код или код Торы? Начнем с простого примера. Откроем Тору на самой первой странице (это книга «Берешит», по-русски «Бытие») и отыщем первую в тексте букву «тав» (здесь и дальше нам придется говорить о еврейских буквах, которыми написана Тора, и, соответственно, о еврейских словах, составляющих содержащиеся в ней «коды»). Отсчитаем от нее еще 49 букв, и 50-й окажется «вав». Повторим это действие еще два раза: следующая 50-я буква (после 49 пропусков) будет «рэйш», а последняя 50-я (опять после 49 пропусков) — «хэй». Результатом такого «чтения с равными пропусками» будет цепочка букв: «тав-вав-рэйш-хэй» (см. рис. 1). В еврейском прочтении она складывается в слово «т-о-р-а». Это выглядит поразительным: ведь в тексте самой Торы слова «тора» нет, а в результате «чтения с пропусками» оно появилось — в виде такой вот цепочки равноотстоящих букв. 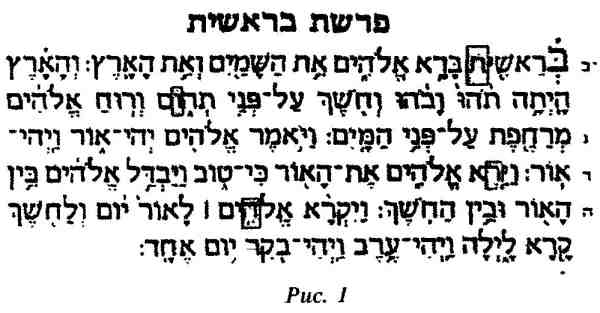
С помощью чтения с равными пропусками (той или иной величины) можно найти в тексте Торы превеликое множество других таких же «скрытых», как бы зашифрованных в ней буквенных цепочек, которые складываются в осмысленные слова. Не будем пока задаваться вопросом, кто мог их туда встроить, кто этот искусный шифровальщик, который спрятал внутри видимого текста второй, невидимый. Для начала продолжим наше знакомство с этим удивительным новым миром слов, открывающихся в Торе при чтении с равными пропусками. Это и есть мир «библейских кодов», ибо словом «код» в данном случае как раз и называется каждая такая цепочка-слово, обнаруженная в тексте Торы при чтении с равными буквенными пропусками. Мир кодов Торы поистине неисчерпаем в своем разнообразии. Вот еще один пример. Если открыть вторую книгу Торы «Шмот», или «Исход», найти первую в ее тексте букву «тав» и снова повторить процесс чтения с пропуском 49 букв три раза, мы опять получим буквенную цепочку «т-о-р-а». В третьей книге Торы это слово таким способом найти не удастся, зато в четвертой оно обнаружится снова — но при условии, что мы начнем с последней в тексте буквы «тав» и будем собирать буквенную цепочку с помощью пропуска 49 букв, идя в обратном порядке. (Такое чтение в обратном порядке называют чтением с отрицательным интервалом.) Но это не все. В последней книге Торы «Дварим» («Второзаконие») такая же цепочка «т-о-р-а» (с отрицательным интервалом) может быть обнаружена тоже, но при чтении с интервалом уже не (-49), а (-48). Какая-то загадочная и почти идеальная симметрия. Остановимся на минуту. Если вдуматься, все это не очень понятно. Каким образом слово «тора», которого нет в Торе, вдруг оказалось написанным прямо в ее тексте, буква под буквой? Казалось бы, если оно зашифровано в Торе в виде цепочки букв с равными пропусками между ними, то и должно выглядеть как цепочка с пропусками, не так ли? Это, несомненно, так, но при составлении данного рисунка был использован особый прием, которым очень часто пользуются и при изображении других подобных цепочек. Прием этот следующий. Вообразим себе, что весь текст Торы записан в виде единой гигантской строки — этакой «буквенной нити» длиной в 304 805 букв (это как раз число букв во всей Торе). Будем теперь мысленно наматывать эту буквенную нить на некий воображаемый цилиндр, как в действительности наматывают на барабан свиток самой Торы. При этом цилиндр возьмем такой, чтобы один оборот нити составлял ровно 50 букв. Если мы закрепим начало нити в первой букве «тав», то после первого оборота точно под ней окажется 50-я от нее буква, а это, как мы уже знаем, будет буква «вав». После второго оборота под ними окажется «рэйш» (ведь он является 50-м после «вава»), а после третьего — «хэй» (50-я после «рэйш»). Таким образом, цепочка «тав-вав-рэйш-хэй» («т-о-р-а»), в которой собраны те буквы нити, что разделены пропуском 49, превратится в буквенный столбик. Понятно, что обратная цепочка превратится при таком наматывании в столбик, идущий не сверху вниз, а, наоборот, снизу вверх. Эти удивительные цепочки бусинок-букв, нанизанных с равными интервалами друг от друга и образующих слово «т-о-р-а», впервые обнаружил чешский раввин XX века Михаэль Вейсмандель (умер в 1949-м). Но и он не был первооткрывателем библейских кодов. Из старых книг известно, что уже рабейну Бехайе, еврейский мудрец, живший в XIII веке, долго искал в Торе — и нашел! — цепочку букв «бейт-хэй-рэйш-далет», образующих важнейшее в еврейском летосчислении слово (аббревиатуру) «бахарад»{2} (с 42-буквенным пропуском между буквами). Интересовался буквенными цепочками в Торе и другой знаменитый еврейский мудрец — Виленский Гаон рав Элиягу Залман (1720–1797). Он нашел цепочку не менее замечательную, чем та, что открылась раву Вейманделю: Если открыть книгу «Шмот» (где речь идет главным образом о нашем великом учителе Моше, или Моисее), найти там главу 11-ю, стих 9-й, отыскать первую букву «мэм» и начать собирать цепочку, пропуская все те же 49 букв, то последней (через четыре таких пропуска) окажется буква «хэй» в главе 12-й стих 13-й, а пять найденных таким образом букв сложатся в цепочку «м-и-ш-н-э». Вернувшись немного назад, к главе 12-й, стиху 11-му, найдя там второй «тав» и три раза повторив процесс чтения с пропуском 49, мы получим четыре другие буквы, складывающиеся в цепочку «т-о-р-а», а, взяв оба слова вместе, увидим цепочку «м-и-ш-н-э т-о-р-а», а это есть ни что иное, как название главного труда другого знаменитого Моше — рава Моше бен Маймона, или Рамбама (о нем говорили, что «от первого Моше до второго Моше не было мудреца, равного Моше»){3}. В наше время у этих первых исследователей библейских кодов появились продолжатели, в основном из числа верующих ученых. Следуя традиции, они тоже ищут в тексте Торы зашифрованные с помощью равных пропусков цепочки букв, складывающиеся в какие-то важные для еврейской веры или истории слова. Вот два примера таких цепочек, найденных энтузиастами поиска библейских кодов, израильскими математиками, профессорами Майкельсоном и Рипсом. (Они найдены с помощью компьютера, поэтому воспроизвести здесь процесс этого поиска нам не удастся.) Первая из этих цепочек: «алеф-хэй-рэйш-нун» («A-h<a>-p-<o>-н») обнаружена в тексте книги «Ваикра» («Левит»), где речь идет в основном о правилах богослужения и много раз упоминается имя первосвященника Аарона, брата Моше. То была даже не одна, а целых 25 одинаковых по буквам цепочек, хотя и с разными интервалами каждая. Иначе говоря, в тексте, посвященном Аарону, было обнаружено 25 «скрытых» имен того же Аарона, зашифрованных в виде цепочек «алеф-хэй-рэйш-нуи» с равным (но каждый раз иным) пропуском между всеми четырьмя буквами. Другие 25 цепочек Рипс и Майкельсон нашли в тексте книги «Берешит», в главах 2-й и 3-й, посвященных, в частности, описанию Райского сада. В этом описании сказано: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Но названы в тексте, однако, лишь два — дерево жизни и дерево познания добра и зла; все остальные почему-то остались безымянными. Рипс и Майкельсон предположили, что названия остальных деревьев «скрыты» в том же участке текста в зашифрованном виде, т. е. в виде цепочек равноотстоящих букв. Выписав 25 названий (трех- и четырехбуквенных) из книги «Фауна и флора Торы», вышедшей из-под пера крупнейшего израильского специалиста по растительности библейской Палестины, профессора Йегуды Феликса, оба математика с помощью компьютера произвели в упомянутом участке текста поиск буквенных цепочек, складывающихся в эти названия, и нашли все 25. Два последних примера позволяют заметить одну любопытную особенность: буквенные цепочки, образующие слова, связанные общим смыслом или общим содержанием, обнаруживаются поблизости друг от друга. Все скрытые имена Аарона были найдены в тексте, относящемся к Аарону, и названия 25 деревьев из книги о флоре Торы были найдены в том небольшом участке Торы, где речь идет о деревьях райского сада. (Кстати, оба слова — «мишнэ» и «тора», — образующие название книги Рамбама, тоже были найдены рядом друг с другом и с акронимом «Рамбам».) Такая близость связанных слов свойственна, вообще говоря, только осмысленному тексту. Например, в каком-нибудь рассказе о катастрофе мы могли бы ожидать близости таких слов, как «нацисты», «евреи», «уничтожение» и т. п. Возникает мысль: может быть, и зашифрованные в Торе (в виде буквенных цепочек) слова, связанные общим смыслом, потому обнаруживаются по соседству, что тоже принадлежат какому-то осмысленному тексту — только тексту скрытому, зашифрованному с помощью библейского кода? Сначала эта догадка была подтверждена чисто качественно. Одно такое подтверждение показано на рис. 2. Здесь изображен буквенный столбик, образующий слово «а-ха-нука»{4}. Этот столбик образовался из линейной цепочки букв «h <а>-.х-<а>-н-у-к-h<а>» («хэй-хет-нун-вав-каф-хэй»), разделенных неким интервалом из «икс» пропущенных букв, после ее «намотки» на воображаемый цилиндр, длина окружности которого равна «икс», — потому-то эти буквы и оказались точно друг под другом. Неподалеку от нее мы видим другую цепочку букв, образующую слово «х-а-ш-м-о-н-а-й», явно связанное по смыслу с «ханукой»{5}. 
Иными словами, и здесь связанные по смыслу слова оказались по соседству. Другой пример того же рода нашел израильский физик Вицтум. Он отыскал в тексте книги «Берешит» цепочку букв, разделенных равными пропусками и образующих слово «бэАушвиц» («в Освенциме»). Поскольку таких цепочек (с разными интервалами в каждой) в тексте оказалось много, была выбрана та, в которой интервал (т. е. число пропускаемых при чтении букв) было минимальным. Затем в компьютер была введена программа поиска цепочек равноотстоящих букв (уже не обязательно с минимальными пропусками), образующих названия тех небольших нацистских лагерей-сателлитов, которые находились поблизости от Освенцима и административно подчинялись ему (список этих названий был взят из статьи специалиста по данному вопросу, д-ра Краковского из Мемориального института «Яд ва-Шем»). Оказалось, что все указанные цепочки действительно существуют, причем находятся (если произвести «намотку текста на барабан») на том же небольшом участке текста, где находится и столбик «бэАушвиц». Однако самое впечатляющее доказательство существования в Торе скрытых кодов и близости друг к другу тех из них, которые близки также и по смыслу, нашли Рипс и Вицтум в своей совместной работе, которая была опубликована в 1994 году в журнале «Статистические науки». В самых общих чертах эта работа выглядела следующим образом. Авторы выбрали из «Энциклопедии великих людей Израиля» достаточно короткие (5–8 букв) имена или наименования (т. е. сокращенные прозвища, вроде Рамбам, Нахманид, Радак и т. п.) нескольких десятков раввинов IX–XVIII веков, а также даты их рождения или смерти. Последние были превращены в слова (с помощью приемов т. н. гематрии, которая обозначает каждое число определенным сочетанием ивритских букв (таких слов получалось по несколько, поскольку любую дату можно записать в нескольких формах, вроде «шени бэ-нисан», «шени шель нисан» и т. д.), а затем из этих имен и дат были составлены словесные пары типа: «имя раввина А — дата раввина А», «имя раввина В — дата раввина В» — и так далее. Поскольку имен и дат (в словесном написании) у каждого раввина имелось несколько, брались все их возможные сочетания, и в результате число пар получилось намного больше, чем число самих раввинов, — порядка нескольких сот. После этого компьютеру было задано найти в тексте книги «Берешит» цепочки букв с равными (и минимальными!) пропусками, образующие слова каждой пары, и — по особой формуле, разработанной Рипсом, — определить «расстояние» между ними. Результат оказался поистине впечатляющим: мало того, что были обнаружены цепочки почти для половины заданных слов, но во многих парах расстояния между составляющими их словами (т. е. именами и датами для одного и того же раввина) оказались весьма близкими. Но этот результат был еще чисто качественным. Чтобы получить математически строгое доказательство своей исходной гипотезы (о существовании в тексте Торы второго, скрытого, но тоже осмысленного текста), авторы усложнили эксперимент. В дополнение к набору «правильных» словесных пар («А — А», «В — В» и т. п.) они создали путем перемешивания всех дат и имен еще 999 999 наборов «неправильных» пар (типа «А — В», «В — С» и т. п.) и подсчитали среднее расстояние между словами пар в каждом из миллиона наборов. Результат оказался совершенно поразительным: среднее расстояние для единственно, «правильного» набора (где пары состояли из имен и дат одного и того же раввина) оказалось четвертым по малости из миллиона! Два года спустя Рипс и Вицтум представили Израильской Академии наук свою новую работу того же рода — и с аналогичным результатом. На сей раз в качестве объектов исследования вместо имен раввинов были взяты названия 70 народов, перечисленные в рассказе о праотце Ноахе («Берешит, гл. 10) — Хуш, Мицраим, Кнаан, Магог, Ассури т. д. Каждому имени был поставлен в соответствие какой-то «атрибут», вроде словосочетания «народ Куша», «язык Магога», «страна Ассур» и т. п., и тем самым был создан единственно «правильный» набор многочисленных — «правильных» словесных пар, а затем путем перемешивания имен и атрибутов еще 9 999 999 наборов «неправильных» пар. После измерения среднего расстояния между словами в каждом наборе оказалось, что «правильный» набор и в этом случае занял четвертое по малости место — уже из десяти миллионов! Найденные Рипсом и Вицтумом математические доказательства реальности кодов и осмысленной близости их «правильных» сочетаний возбудили и вдохновили многих других «кодоискателей», в том числе американского журналиста Майкла Дроснина. Подробно расспросив Рипса о его работах, Дроснин решил самостоятельно заняться поиском библейских кодов, но не столько религиозных, сколько жгуче современных, и стал гонять компьютер в поисках буквенных цепочек, образующих имена знаменитых людей современности — Кеннеди, Клинтона, Садата, Рабина и так далее. Обнаружив в Торе все нужные ему цепочки, он сделал смелый новый шаг, до которого не додумался никто из его предшественников, включая Вицтума и Рипса. Он сообразил, что при переходе от буквенной цепочки к «столбику», т. е. при «наматывании» длинной нити текста Торы на воображаемый барабан, слова этого текста, расположенные вдоль нити, не теряют связности друг с другом: они ложатся на барабан в той же последовательности, в какой находятся в тексте. Оказавшиеся друг под другом буквы цепочки, образующие — по вертикали — какое-то слово (например, «и-ц-х-а-к-р-а-б-и-н»), одновременно являются буквами каких-то слов Торы, расположенных по горизонтали. Вместо того чтобы искать с помощью компьютера какие-то другие буквенные цепочки, образующие слова, связанные со словом «Ицхак Рабин» (имя и фамилия израильского премьера, убитого фанатичным противником мирных соглашений Израиля с палестинцами), Дроснин решил просто воспользоваться готовыми словами Торы, пересекающими столбик «Р-а-б-и-н» или проходящими по соседству с ним. В конкретном случае цепочки-столбика — «и-ц-х-а-к-р-а-б-и-н» — он обнаружил очень многозначительные слова в строчке, проходящей через букву «ц» («цадик»); на иврите это были слова: «роцеах ашерирцах», или «убийца, который убьет» (см. рис. 3). Вместе со словами «Ицхак Рабин» они давали предсказание: «Убийца, (который) убьет Ицхака Рабина». Израильские власти, к которым Дроснин обратился со своим «предостережением», не обратили на него особого внимания (тем более что и без того знали, что Рабин является весьма вероятной мишенью экстремистов). Но когда Рабин был действительно убит, сенсация Дроснина стала от этого только драматичней. Впервые в истории было обнаружено зашифрованное в глубочайшем прошлом предсказание об убийстве видного современного политика, притом предсказание, зашифрованное не в каком-нибудь туманном стихотворении Нострадамуса, а в самой Торе, да к тому же еще обнаруженное средствами самой современной науки, и это предсказание сбылось! Но мало того — пользуясь тем же методом, Дроснину удалось обнаружить в тексте Торы также предсказания предстоящей атомной бомбардировки Израиля, взрыва автобуса в Иерусалиме, мощного землетрясения в Лос-Анджелесе и других апокалиптических событий. В предисловии к своей книге «Коды Торы», рассказывая об этих предсказаниях и подтверждая их достоверность ссылками на работы Рипса и Вицтума, Дроснин писал: «Эта книга представляет собой первый полный отчет о научном открытии двух израильских математиков, которое может изменить мир… В течение трех тысяч лет библейские коды оставались скрытыми от людей. Теперь они вскрыты компьютером — и могут открыть наше будущее. Библейский код может предостеречь мир о беспрецедентной опасности, возможно — подлинном Апокалипсисе, ядерной мировой войне. В любом случае он заставляет нас признать… что мы не одни. И ставит перед всеми нами вопрос — описывает этот код неизбежное будущее или лишь веер возможных будущих, выбор из которых — в наших руках?» 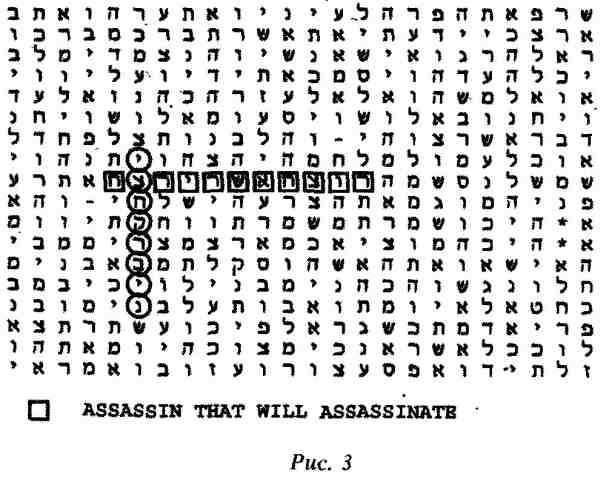
Книга Дроснина была переведена на десятки языков и породила десятки подражаний (Дж. Сцтиновер — «Взламывая библейский код», X. Линдсей — «Код Апокалипсиса», К. Суарес — «Шифр Творения, или код Кабалы», Д. Вошбэрн — «Наука и математика обнаруживают отпечатки Господних пальцев» и т. п.). Именно эти книги, вкупе с тотчас выброшенными на рынок общедоступными компьютерными программами для самостоятельного поиска «библейских пророчеств», и вызвали к жизни то повальное увлечение этими поисками, о котором мы упоминали вначале. В результате древняя, высокая и мудрая игра утонченных еврейских комментаторов со священным текстом Книги внезапно превратилась в массовое развлечение, т. е. в самый пошлый вид профанации (чего стоит, например, реклама типа: «Библейские коды помогают правильно вкладывать капитал!» — или карикатура, на которой муж, заглядывая в Тору, говорит жене: «Знаешь, кто к нам сегодня-придет к обеду?»). Это заставило многих верующих людей в ужасе содрогнуться. И даже такие энтузиасты «кодов» как Рипс, Майкельсон и Вицтум решительно отмежевались от подобного рода гаданий, превращающих священную Книгу в подобие сонника или китайской «Книги перемен». С другой стороны, это же побудило многих других ученых, специалистов по статистике, комбинаторике, а также библеистике, внимательней присмотреться ко всем этим исканиям кодов в тексте Торы, чтобы попытаться отделить в них, как говорится, зерна от плевел. Последуем за ними в этих попытках и начнем с самого простого — с простейших буквенных цепочек, найденных рабейну Бехайе и другими первооткрывателями. Итак, что в действительности обнаружил рабейну Бехайе? Ответ математики (комбинаторики и теории вероятностей) гласит: чисто случайное событие. В любом достаточно длинном тексте (а текст Торы, как я уже говорил, содержит 304 805 букв) вероятность найти четырех-, пяти- или даже восьмибуквенное сочетание, когда буквы разделены равными интервалами, а само оно образует некое осмысленное слово, непредставимо велика. И, действительно, специальная компьютерная проверка показала, что в Торе существует более 234 000 (двухсот тридцати четырех тысяч!) цепочек «бейт-хэй-рэиш-да-лет», так интересовавших рабейну Бехайе (разумеется, все они имеют разные интервалы между буквами, в том числе и отрицательные). То же самое, понятно, относится ко всем цепочкам «т-о-р-а», найденным равом Вейсманделем, равно как и к цепочке «м-и-ш-н-э-т-о-р-а», найденной. Виленским Гаоном. Таким образом, законы случайных событий позволяют найти в любом достаточно длинном тексте практически любое желаемое слово или группу желаемых слов, и порой даже в большом числе, если только не ограничиваться каким-либо одним заданным интервалом между буквами в их цепочках, т. е. при достаточной свободе поиска. Поэтому неудивительно, что «кодоискатели» так часто находят слова «ханука», «менора», «хашмонай» и т. п., равно как и 25 «райских деревьев» или 25 «скрытых имен Аарона». В этом смысле названия нацистских лагерей вблизи Освенцима ничем не отличаются от названий деревьев или людей. Но было бы неправильно думать, будто все дело в том, что буквенные цепочки для тех, других и третьих обнаруживаются в Торе потому, что имеют касательство к евреям: с тем же успехом там можно обнаружить имена знаменитых футболистов Бразилии или названия витаминов и имена их первооткрывателей. (Некоторые буквенные цепочки не обнаруживаются даже среди трехсот с лишним тысяч букв Торы, но и это тоже дело случая.) Гораздо интереснее разобраться в том, почему связанные близким смыслом буквенные цепочки («ханука — хашмонай») оказываются и «топографически» ближе друг к другу. Это обычно поражает воображение еще больше, чем само обнаружение той или иной буквенной цепочки. Но в действительности и это оказывается всего лишь следствием достаточной свободы выбора — либо интервала между буквами цепочки, либо тех или иных исходных данных, либо еще каких-то параметров эксперимента. В каждом конкретном «удивительном» случае в конце концов обнаруживается та или иная свобода манипулирования условиями эксперимента, в каждом случае — своя. При разборе каждого отдельного «чуда» Библии, библейских кодов приходится всякий раз искать, какая именно свобода выбора данных помогла экспериментатору в этом конкретном случае. Вернемся, например, к рис. 2. Мы отметили там странное написание слова «ханука» — с определенным артиклем. Оказывается, в данном случае весь секрет скрыт именно в этой крохотной частичке «хэй». Авторы, нашедшие пару цепочек «ханука-хашмонай» (каждая с минимальным интервалом), хотели показать их близость друг к другу. Но при «намотке» нити букв Торы на цилиндр с длиной окружности, равной минимальному интервалу для цепочки «ханука», цепочка «хашмонай» оказывалась очень далеко. Тогда они поставили компьютеру другую задачу: найти любую минимальную цепочку, образующую слово, близкое по смыслу к слову «ханука» и топографически соседнее с цепочкой «хашмонай». Компьютер нашел одну-единственную такую цепочку: «а-ханука». Обычно зрители, пораженные близостью кодов, даже не замечают эту маленькую странность, в которой специалист сразу же распознает примету того, что результат был насильственно подогнан под желаемый. Чудеса группировки кодов для райских деревьев или лагерей-спутников Освенцима имеют несколько другое, но столь же простое объяснение — предварительное варьирование исходных слов и отбор наиболее эффектных вариантов. Профессор Феликс, автор «Фауны и флоры Торы», проанализировав названия, взятые из его книги Майкельсоном и Рипсом, отметил девять изменений в написании названий деревьев сравнительно со своим научным текстом, а математики, изучавшие статистическую сторону эксперимента, показали, что, варьируя таким способом те или иные названия, можно найти нужные цепочки как раз в нужном месте и, наоборот, — строго следуя списку проф. Феликса, нельзя обнаружить в нужном месте многие из цепочек. Точно так же, варьируя названия нацистских лагерей-сателлитов Освенцима (т. е. беря одни лагеря, а не другие), выбирая из разных книг разное их написание и т. п., можно искусственно «загнать» цепочки для тех или иных названий в один и тот же участок текста, как это получилось у Вицтума. Свобода такого варьирования обеспечивается тем, что книг и статей об этих лагерях-спутниках Освенцима имеется довольно много, списки лагерей в них различны, написания тоже, так что можно перепробовать множество различных комбинаций, пока не отыщется такая, в которой побольше нужных буквенных цепочек окажутся близко друг к другу. В данном случае главную трудность составлял тот факт, что самая многочисленная и тесная группа цепочек-названий лагерей никак не ложилась на нужный участок текста, где располагалась минимальная цепочка для слов «шель Аушвиц» («при Освенциме»), «им Аушвиц» («вместе с Освенцимом») и даже просто «Аушвиц», и автору пришлось примириться с единственным найденным: «бэ Аушвиц», что означает совершенно несуразное в данном контексте «в Аушвице». Однако потрясенные читатели и здесь не замечают этой небольшой несуразности. Но самая простая и веселая наука — это объяснять, как получаются «библейские предсказания» Дроснина. Такого рода предсказаний в его книге превеликое множество — как относящихся к уже произошедшим событиям (убийство братьев Кеннеди, Садата и т. п.), так и к предстоящим — например, пророчества о возможном землетрясении в Лос-Анджелесе или о взрыве автобуса в Иерусалиме. Как же они конструируются? Вернемся к рис. 3. Отметим в нем две (намеренно пропущенные ранее) любопытные детали. Во-первых, на иврите фраза «убийца, который убьет Ицхака Рабина» звучит как «роцеах ашер ирцах эт Ицхак Рабин», тогда как «найденное» Дросниным сочетание: «ицхакрабин — роцеах ашер ирцах» означает скорее: «Ицхак Рабин — убийца, который убьет». Во-вторых, если всмотреться в рисунок, можно увидеть, что фраза Торы вовсе не кончается на «ирцах», а имеет еще три слова — «бэ ло дэа», что означает «без знания» («без намерения»), иными словами — нечаянно: убийца, который убьет нечаянно, непреднамеренно. Дроснин просто оборвал фразу на нужном ему месте и показал миллионам читателей, не знающим иврита, оборванный английский перевод: «Assassin that will assassinate» («Убийца, который убьет»). Многочисленность «найденных» Дросниным «пророчеств» объясняется попросту тем, что текст Торы изобилует словами «огонь», «эпидемия», «наказание», «катастрофа», «разрушение» и т. п., которые очень легко сопрячь с буквенными цепочками, образующими подходящие слова или имена, создав устрашающее пророчество. Там же, где это не удается, Дроснин, не задумываясь, прибегает к такому же препарировавнию текста Торы, как в случае с Рабином. Так, желая «предсказать» будущий взрыв автобуса в Иерусалиме, он использовал кусок фразы из текста Торы, обнаруженный рядом с цепочкой «о-т-о-б-у-с» и звучавший как «ашер им-шхем» («что около Шхема»); на иврите это записано буквами «алеф-шин-рэйш айн-мэм-шин-куф-мэм», что позволило Дроснину разделить эти буквы на совершенно иные слова: «алеф-шин», которое он истолковал как «эш» («огонь»), и «рэйш-айн-мэм», истолкованное им как °раам» («гром, большой шум»). Остальное было отброшено за ненадобностью, как в «предсказании о Рабине», после чего было уже нетрудно объяснить читателям, что «огонь» и «большой шум» — это и есть «террористический взрыв». В тех же случаях, когда и такое «предсказание» не сбывалось, Дроснина спасали предусмотрительно вставленные в предисловие к книге слова о «веере возможных будущих»: так, провалившись с предсказанием атомной бомбардировки Израиля в 1996 году, он тут же перенес его на 2004 год… Таким образом, все описанные (и сотни не описанных) выше качественных экспериментов по отысканию библейских «кодов» и «предсказаний» в действительности не имеют никакого отношения ни к кодам, ни к предсказаниям, ибо цепочки равноотстоящих слов, рассеянные во всех местах достаточно длинного текста и в самых изумительных сочетаниях, — это не чья-то шифровка, а такая же игра случайных (т. е. природных) закономерностей, как образование изумительных ледяных узоров на зимнем окне. А свобода выбора условий поиска помогает проявить эти узоры в любом желаемом месте и увидеть их в любом, самом неожиданном ракурсе. Но в «кодах Торы» есть еще более важная особенность — они не имеют никакого отношения и к самой Торе. Доказательством этого могут служить две грозди буквенных цепочек, найденных исследователями, которые проверяли результаты Рипса-Вицтума и Дроснина: одна гроздь состоит из огромного множества чрезвычайно близко расположенных буквенных цепочек, целиком относящихся к празднику Ханука; а вторая — из столь же большого числа цепочек, «предсказывающих» гибель принцессы Дианы. Обе эти эффектные грозди «библейских кодов» (сознательно подогнанные авторами-математиками по описанным выше общим правилам подгонки «кодов») более всего интересны тем, что обнаружены не в тексте Библии: первая из них найдена в отрывке ивритского перевода «Войны и мира» (той же длины, что книга «Берешит»), вторая — в такой же длины отрывке из английского текста «Моби Дика»! Тут, однако, возникает самый тяжелый вопрос: если все эти «коды Торы» — и не коды, и не Торы, то что же в таком случае означают описанные выше — уже не качественные, а строго количественные — результаты математических экспериментов Вицтума — Рипса? Если они верны, то должны быть, как представляется, верны и результаты всех других «кодоискателей»? А если нет, то в чем их ошибка? >2. РАЗГАДКА Напомню подробности работы Вицтума и Рипса. В 1994 году они опубликовали в солидном научном журнале «Статистические науки» статью о результатах проведенного ими математического исследования, подтвердившего гипотезу о наличии в тексте Торы второго, «скрытого», текста, зашифрованного там методом равных буквенных пропусков, а два года спустя доложили Израильской Академии наук результаты второго, аналогичного эксперимента, давшего те же результаты. Первый эксперимент Вицтума — Рипса получил название «эксперимента с раввинами», потому что объектом исследования были цепочки равноотстоящих букв (т. е. те самые «библейские коды», о которых говорилось выше), образующие имена известных еврейских раввинов IX–XVIII веков; второй эксперимент (точнее — самый интересный из экспериментов второй серии) был назван «экспериментом с народами», потому что в нем объектом исследования были названия «народов» из книги «Берешит» («Бытие»). В предыдущей главе я бегло описал оба этих эксперимента. В самом общем виде эксперимент с раввинами состоял в следующем. Рипс и Вицтум выбрали из «Энциклопедии великих людей Израиля» достаточно короткие (5–8 букв) имена или наименования{6} нескольких десятков раввинов IX–XVIII веков, а также даты их рождения и смерти. Последние были превращены в слова (с помощью приемов т. н. гематрии, которая обозначает каждое число определенным сочетанием ивритских букв, а затем из этих имен и дат были составлены словесные пары типа «имя А — дата А», «имя В — дата В» и так далее. Поскольку имен и дат (в словесном написании) у каждого раввина, как уже сказано, могло быть несколько, а брались все возможные сочетания, то и пар получилось намного больше, чем самих раввинов, — порядка нескольких сотен. После этого компьютеру было задано найти в тексте книги «Берешит» цепочки букв с равными (и минимальными!) пропусками, образующие слова каждой пары, и определить «расстояние» между ними (по разработанной Рипсом формуле). Результат оказался поистине впечатляющим: мало того, что были обнаружены цепочки почти для половины заданных слов, но во многих парах расстояния между составляющими их словами оказались весьма близкими. Но этот результат был еще чисто качественным. Чтобы получить математически строгое доказательство своей исходной гипотезы, авторы (по настоянию референта, профессора П. Диакониса) усложнили эксперимент: в дополнение к набору «правильных» словесных пар («А — А», «В — В» и т. п.) они создали путем перемешивания всех дат и имен еще 999 999 наборов «неправильных» пар (типа «А — В», «А — Г», «В — С» и т. п.) и подсчитали среднее расстояние между словами пар в каждом из миллиона наборов. Результат оказался совершенно поразительным: среднее расстояние для единственного «правильного» набора оказалось четвертым по малости из миллиона! Иными словами, буквенные цепочки для имен раввинов оказались почему-то ближе к цепочкам букв, образующих их собственные даты жизни, чем к тем цепочкам букв, которые образуют даты, не связанные с ними по смыслу. Это означало, что эти буквенные цепочки (коды) образуются и распределяются в Библии не случайно, а в соответствии со смыслом образуемых ими слов, словно кто-то сознательно расположил все буквы Торы в определенном порядке. Это было первое научное свидетельство в пользу неслучайности и осмысленности библейских кодов. Как уже сказано, два года спустя Рипс и Вицтум представили Израильской Академии наук свою новую работу, в которой в качестве объектов исследования вместо имен раввинов были взяты названия 70 народов, перечисленные в рассказе о праотце Ноахе (кн. «Берешит», гл. 10) — Хуш, Мицраим, Кнаан, Магог, Ассур и т. д. Каждому имени был поставлен в соответствие какой-то «атрибут», вроде словосочетания «народ Куша», «язык Магога», «страна Ассура» и т. п., и тем самым был создан единственно «правильный» набор многочисленных, «правильных» словесных пар, а затем путем перемешивания их составляющих — еще 9 999 999 наборов «неправильных» пар. После измерения среднего расстояния между словами в каждом наборе оказалось, что «правильный» набор и в этом случае занял четвертое по малости место — уже из десяти миллионов! Эти результаты произвели такое сильное впечатление, что долгое время никто не решался ни оспаривать, ни проверять их повторно. Однако появление и бешеная популярность рассмотренной выше книги Дроснина «Коды Торы», в которой автор, широко ссылался именно на авторитет профессора И. Рипса и полученные им «математические доказательства существования библейских кодов», побудили, наконец, многих математиков заняться детальным анализом и т. н. библейских кодов вообще, и результатов Вицтума — Рипса в частности. Как уже говорилось ранее, анализ качественных экспериментов с библейскими кодами (типа поиска названий «райских деревьев», «лагерей-сателлитов Освенцима» или «предсказания об убийстве Рабина») привел ученых к выводу, что во всех этих случаях имела место значительная свобода выбора исходных данных для поиска и манипулирования этими данными. Эта свобода выбора — при условии наличия в тексте большого множества совершенно случайных буквенных цепочек, образующих осмысленные слова, — создавала возможность предварительного подбора именно таких исходных данных, которые позволяли получить желаемый результат в наиболее эффектном и убедительном виде (например, найти все 25 названий «райских деревьев» в участке текста, посвященном описанию Рая, или все названия лагерей-сателлитов Освенцима вблизи буквенной цепочки, образующей название этого главного лагеря смерти). Отличие одного такого эксперимента от другого состояло лишь в том, в чем конкретно заключалась упомянутая свобода выбора в том или ином случае, как она была использована при поиске и каким именно образом повлияла на конечный результат. Уловив эту кардинальную особенность всех экспериментов, в которых обнаруживаются «впечатляющие» библейские коды и их группы, критики-специалисты по-новому сформулировали тот вопрос, который был задан выше по поводу экспериментов Вицтума — Рипса. Они сформулировали его следующим образом: можно ли сказать, что методика экспериментов Вицтума — Рипса полностью исключает ту возможность произвольного (пусть и незлонамеренного) манипулирования исходными данными, которая отягощает все другие эксперименты с библейскими «кодами»? Детальная проверка «чистоты» указанных экспериментов, была произведена в 1997–1998 годах многими учеными в разных странах, в том числе авторитетнейшим специалистом с мировым именем, профессором математики и теоретической физики Калифорнийского технологического института Барри Саймоном (кстати, ортодоксальным верующим евреем), профессором статистики университета штата Новый Южный Уэльс (Австралия) Майклом Асофером, профессором физических наук Корнельского университета в США Перси Диаконисом, профессором математики Лондонского университета Е. Б. Дэвисом и другими. Особенно много сделала в этой области международная группа математиков под руководством члена Австралийской Академии наук, специалиста по комбинаторике. и компьютерным наукам, профессора Брендана Мак-Кэя (кроме него в группу входили также Дрор Бен-Натан, Алекс Гиндис и Арье Левитин). Чтобы понять содержание и результаты этой проверки, необходимо вслед за специалистами разобраться в том, как шла подготовка исходных данных в работе Вицтума и Рипса. Для того, чтобы эта работа удовлетворяла требованиям статистической науки, авторы должны были заранее, до начала эксперимента, сформулировать исходную гипотезу, а также заранее условиться обо всех деталях и процедуре проведения эксперимента, в частности — о том, как будут выбираться исходные данные. Это требование, основное в каждом статистическом эксперименте, называется требованием априорности. Его необходимость очевидна: если не оговорить заранее все эти условия, то всегда останется возможность в любой момент изменить исходные данные любым желаемым образом. Выяснилось, однако, что выбор исходных данных (имен и дат жизни раввинов) в эксперименте Вицтума — Рипса оставлял большую свободу варьирования. Дело в том, что, как мы уже говорили, традиция (как письменная, так и устная) сохранила для каждого знаменитого раввина не одно, а целый ряд наименований и аббревиатур, в некоторых случаях 5–6 для одного человека, и экспериментаторы могут, вообще говоря, выбрать те из них, которые обеспечат наилучший результат. Но, помимо этой сложности, есть и другие, аналогичные. Нет, например, однозначных критериев, каких раввинов считать более знаменитыми, а каких — менее. Не существует однозначности и в вопросе написания различных имен и наименований. Справочники и энциклопедии сохранили не все даты рождения и смерти: иногда есть либо одна, либо другая дата, а порой нет и обеих. Перевод дат в словесное написание тоже представляет собой неоднозначную задачу, ибо принятых способов написания дат тоже существует несколько, иногда до 8–9 вариантов{7}. Давая пояснения по методике своей работы, Вицтум и Рипс утверждали, что выполнили требование априорности, поскольку скрупулезно следовали указаниям специалиста, руководителя отделения библиографии и библиотековедения университета Бар-Илан профессора Хавлина, который, по их словам, заранее проделал для них однозначный и научно обоснованный отбор самых употребительных вариантов имен, наименований и дат, а также их написания (правда, датами занимался другой специалист, ныне покойный профессор Урбах). Однако пристальный анализ процесса этого отбора показал, что критерии проф. Хавлина были далеки как от научных, так и от однозначных и оставляли авторам большие возможности предварительного подбора наилучших исходных данных для эксперимента. Имена и даты почему-то выбирались из «Энциклопедии знаменитых людей Израиля» под редакцией Маргалиота, хотя существует множество других аналогичных энциклопедий и справочников. Критерием «знаменитости» было почему-то выбрано определенное количество колонок энциклопедического текста, посвященного данному раввину: те, у кого было меньше трех таких колонок, считались недостаточно знаменитыми. Проверка показала, что если бы авторы последовали совету другого специалиста и воспользовались другими энциклопедиями или другими критериями «знаменитости», результаты эксперимента оказались бы отнюдь не такими впечатляющими. Но самой большой удачей эксперимента оказался специфический выбор конкретных наименований и дат из множества предоставлявшихся возможностей. У раввинских наименований есть своя долгая и запутанная история. Одни родились и укоренились в разговорном языке, другие возникли и употреблялись только на письме; они рождались в разное время и в разных странах, поэтому имели разное произношение и написание и так далее; единственное, что их объединяет, — это заведомое отсутствие какого бы то ни было общепринятого, научно обоснованного и однозначного критерия для предпочтения одних наименований другим. В отсутствие такого критерия профессор Хавлин предложил свой собственный, состоявший из множества произвольно постулированных правил отбора. Однако уже несколько лет спустя, поясняя свои критерии коллегам-специалистам, Хавлин и сам не мог припомнить некоторые из этих правил и потому не мог объяснить, почему он отбросил одни наименования в пользу других. Он говорил, что руководствовался тем, какие наименования употреблялись в т. н. «Респонсах» (ответах, посылавшихся раввинами в различные еврейские общины), но оказалось, к примеру, что написание «Оппенхейм», выбранное им для одного из раввинов, содержится в «Респонсах» лишь дважды, тогда как написание «Оппенхейем» содержится в тех же «Респонсах» более 30 раз, включая несколько «Респонсов», где оно появляется как личная подпись рава Оппенхейема. Почему же для эксперимента было принято именно «Оппенхейм»? А ведь даже изменение одной буквы, как показала проверка, резко влияет на результат эксперимента. Выбери авторы случайно не «Оппенхейм», а «Оппенхейем», и результат оказался бы иным. И таких примеров можно привести много. Так, общепринятое наименование рава Йосефа Каро: «Бейт-Йуд» — было отброшено как «непроизносимое» (поскольку одно из «правил Хавлина» предписывало руководствоваться в отборе наименований только устной традицией, что, впрочем, не мешало в некоторых случаях почему-то отдавать предпочтение письменной). Между тем именно «Бейт-Йуд» является самым употребительным наименованием рава Каро — по заглавию его главного труда «Бейт-Йосеф», как уже говорилось. В добавление ко всему, даже эти двусмысленные критерии соблюдались авторами вслед за Хавлиным далеко не жестко: то и дело вводились новые правила для тех или иных конкретных случаев; выбор одного наименования обосновывался тем, что оно «более благозвучно», другого — тем, что оно «более удобопроизносимо», а третьего — тем, что «таков более правильный перевод с немецкого». Неслучайно полностью выведенный из себя этим произволом один из критиков, профессор кафедры ТАНАХа университета Бар-Илан Менахем Коэн вынужден был в конце концов крайне резко заявить: «Все эти критерии представляются лишенными всякой научной основы, поскольку, во-первых, являются абсолютно произвольными и в каждом пункте могут быть заменены совершенно другими, не менее, а возможно, и более удачными, а во-вторых, не выдержаны последовательно даже самим автором…» А уже упоминавшийся выше профессор Барри Саймон язвительно заметил, что составленный Хавлином и принятый на вооружение Вицтумом и Рипсом исходный список «настолько произволен, что его не может воспроизвести не только какой-либо другой исследователь, но даже сам составитель». Как оказалось, то же самое можно сказать и о списке дат. Все это означает, что набор исходных данных не был априорным: повсюду оставалось множество возможностей различного выбора, и в каждом случае авторы выбирали одну из них, руководствуясь весьма сомнительными, с научной точки зрения, критериями, — но в конечном итоге совокупность всех этих удачных выборов привела, как ни странно, к наилучшему результату. Как уже было сказано выше, соблюдение априорности означает, что исходные условия выбраны еще до эксперимента и заданы так однозначно, что это полностью исключает возможность менять их в ходе расчетов, чтобы улучшить результат. Отсутствие априорности, естественно, означает обратное. Разумеется, если результат не очень зависит от исходных данных, отсутствие априорности не так существенно. Но, к сожалению, в случае эксперимента Вицтума — Рипса дело обстоит прямо противоположным образом. Как показала группа Б. Мак-Кэя, особенности методики в эксперименте Вицтума — Рипса таковы, что общий результат крайне чувствителен даже к изменению одного-единственного имени или одной какой-то даты. Действительно, как обнаружилось при воспроизведении эксперимента Вицтума — Рипса с другими исходными данными, приводимые авторами средние цифры скрывают за собой крайне пестрый разброс индивидуальных данных. Так, в «правильном» наборе имен и дат фигурируют 4 пары вида «Рамбам — дата Рамбама». Таких пар четыре, потому что имеются два возможных написания даты рождения и два возможных написания даты смерти Рамбама. Если последовательно заменить в этих парах правильные «рамбамовские», даты на даты других раввинов, беря эти «неправильные» даты во всех их возможных написаниях, получится еще 926 пар. Так вот, расстояние между именем Рамбама и датой его рождения (в одном написании) оказывается всего лишь 332-м по малости среди всех 930 пар; расстояние между именем Рамбама и датой его рождения во втором написании — 696-м, расстояние между именем Рамбама и датой его смерти в первом написании — 686-м, а расстояние между именем Рамбама и датой его смерти во втором написании — 890-м, т. е. является чуть ли не самым большим из всех расстояний. Такие же большие расстояния характерны и для многих других «правильных» пар. Каким же образом среднее расстояние для всего набора «правильных» пар в целом оказалось четвертым по малости? Анализ группы Мак-Кэя показал, что положение спасает небольшое число специфических «имен» и «дат»: будучи выбранными в определенном написании (а критерии отбора, принятые в эксперименте, как мы уже видели, вполне позволяют такую свободу выбора), они оказываются расположенными необычайно близко, и это делает среднее «расстояние» достаточно малым. Это и означает, что метод чувствителен к выбору исходных данных: стоит слегка изменить выбранное написание, как среднее расстояние между именами и датами для «правильного» набора, рассчитанное по методу Вицтума — Рипса, сразу откатывается далеко в середину миллиона других расстояний, характеризующих наборы совершенно бессмысленных и случайных сочетаний имен и дат. Группа Мак-Кэя произвела своеобразный «проверочный эксперимент». Исследователям было известно, что после того, как Рипс и Вицтум нашли свой нетривиальный результат в тексте книги «Верещит», они решили проверить, каким будет среднее расстояние для «правильного» набора имен и дат знаменитых раввинов в переводе на иврит романа «Война и мир», и нашли, что там оно очень велико. Поэтому Мак-Кэй предложил взять другой список раввинов, составленный по методике Вицтума — Рипса (т. е. с той же свободой выбора исходных данных), но с небольшими изменениями (научную обоснованность которых подтвердили специалисты по иудаике), и посмотреть, какие результаты он даст в тексте тех же двух книг — книги «Берешит» и «Войны и мира». Эти результаты оказались прямо противоположны результатам Вицтума — Рипса: список группы Мак-Кэя занял одно из почетных первых мест среди 10 миллионов всевозможных списков имен и дат в ивритском тексте «Войны и мира»., но откатился на весьма далекое место, т. е. выглядел как вполне случайный в тексте книги «Берешит». Разумеется, это не означает, будто «Война и мир» провидит истину относительно правильных имен и дат будущих раввинов лучше, чем Тора. Вопрос — кто лучше провидит истину, тем более будущую? — вообще не относится к ведомству науки, это вопрос, веры. С научной точки зрения, результат эксперимента Мак-Кэя означает только, что в условиях подобной свободы выбора исходных данных оба эксперимента не дают — и в принципе не могут дать — однозначных результатов. Достаточно еще раз изменить данные (в пределах той свободы, которую оставили себе Вицтум и Рипс), и «правильный» список окажется правильным даже в тексте «Моби Дика» (напомню, что Мак-Кэй и Саймон уже показали, что, располагая достаточной свободой манипулирования, можно найти в «Моби Дике» даже «предсказание» гибели принцессы Дианы). Эта оценка эксперимента Вицтума — Рипса нисколько не меняется и от того, что они провели второй «проверочный» эксперимент с дополнительным списком 32 раввинов, критерии для составления которого были определены заранее, т. е. как будто бы были вполне априорными. Дело в том, что в качестве этих критериев были выбраны все те же «правила Хавлина», оставлявшие экспериментаторам ту же свободу выбора одних имен, дат и их написаний и произвольного отбрасывания других имен, дат и их написаний, что и в основном эксперименте. Иначе говоря, второй список был просто продолжением первого. А это значит, что и его априорность была иллюзорной. Как уже говорилось, через два года после экспериментов, описанных в статье в «Статистических науках», Вицтум доложил в Израильской Академии наук свою с Рипсом новую работу, содержавшую, среди прочих, т. н. эксперимент с народами. Методика этого эксперимента в целом повторяла методику предыдущей работы. Из текста Торы (книга «Берешит», глава 10, рассказ о праотце Ноахе) были взяты 70 названий различных народов (вроде Хуш, Мицраим, Кнаан, Магог, Ассур и так далее), и каждое йз них было спаровано с его «атрибутом» — фразой типа «народ Мицраима» или «язык Хуша», или «страна Ассура», или «люди Кнаана» и т. п., причем в обоснование того или иного выбора конкретного «атрибута» при том или ином названии народа приводилась ссылка на комментарии Виленского Гаона. Снова были составлены один «правильный» и множество «неправильных» наборов таких пар («правильная пара» — это «Хуш — народ Хуша»; «неправильная»: «Хуш — народ Мицраима»), причем «неправильных» на этот раз был миллиард без одного, снова были найдены буквенные цепочки для всех них (на этот раз все с интервалом плюс или минус 1), снова (по формуле Рипса) были измерены расстояния и найдены средние. Как уже говорилось, среднее расстояние в «правильных» («А — атрибут А») оказалось четвертым по малости и в этом невероятном по массовости забеге. Группа Мак-Кэя произвела анализ и этого эксперимента. Оказалось, что и в нем степень свободы выбора данных была оставлена очень высокой — за счет небольшого изменения указаний Виленского Гаона. Так, комментарий Гаона вообще не содержит фраз типа «народ Куша» и пользуется только сочетанием «имя Куша», тогда как Рипс и Вицтум использовали именно первое сочетание. Между тем, если проделать тот же эксперимент с парами строго «гаоновского» типа: «Куш — имя Куша», то средняя близость в парах «правильного» списка окажется ничуть не лучше, чем близость в парах всех прочих, «бессмысленных» наборов; зато, поменяв слово «имя» на слово «народ», можно тотчас добиться огромного улучшения результата. Точно так же слегка изменен по сравнению с комментарием Гаона атрибут «язык Куша» — Гаон пользуется несколько иным словом. Когда исследователи провели расчет того, какие результаты дают все возможные атрибуты (как выбранные Вицтумом и Рипсом, так и другие, типа «характер Куша», «вождь Мицраима», «армия Магога», поддержанные комментариями Рамбана-Нахманида), то оказалось; что в сводной таблице результаты для всех прочих атрибутов распределены в целом случайным образом, но три из четырех атрибутов, использованных Вицтумом и Рипсом, занимают в ней первые места. Иными словами, если они выбраны случайно, то выбор случайно оказался невероятно удачным. Эта странная «систематическая случайность», естественно, породила у проверявших эти эксперименты математиков подозрение, не подбирали ли авторы предварительно именно те варианты написания имени или атрибута, которые давали наилучший результат, а уже затем демонстрировали этот результат. Намеки такого рода особенно резко высказываются членами группы Мак-Кэя. Мне лично представляется, однако, что все эти намеки критиков на возможность «подгонки результата» не вполне корректны. Дело в том, что даже если такой предварительный перебор вариантов и осуществлялся, он является «подгонкой» только с точки зрения статистической науки, т. е. не позволяет считать полученный результат научным доказательством; но этот перебор не является подгонкой с точки зрения верующих людей, каковыми являются Вицтум и Рипс. Верующий человек всегда может сказать, что, перебирая, он искал тот единственный вариант написания имени раввина или атрибута народа, который был использован Автором Книги, чтобы «закодированно» записать в ней будущее. А почему Автор захотел для этого закодировать имя рава Оппенхейема в виде цепочки «О-п-п-е-н-х-е-й-м», а не «О-п-п-е-н-х-е-й-е-м», не нам судить: пути Всевышнего неисповедимы. По этому поводу еще один критик гипотезы Вицтума — Рипса, уже упоминавшийся профессор Асофер, пишет: «Можно, разумеется, сказать, что Всевышний написал Тору и закодировал в ней информацию о будущем таким способом, каким Ему заблагорассудилось, но такой подход тотчас лишает нас возможности подсчитывать вероятности по законам статистики, ибо мы не знаем — и не можем узнать, — соблюдал ли и Всевышний те же законы». Мне кажется, что дело обстоит даже хуже: введя в науку гипотезу о всемогущем и всеведущем Авторе, мы вообще теряем возможность задавать вопросы. Например, на вопрос, почему «правильный» набор имен или атрибутов занял только четвертое, а не первое место, которое, казалось бы, должен был занять единственно «правильный» набор, или почему для подсчета расстояний принята громоздкая формула Рипса, которая требует нескольких миллионов (!) операций для вычисления расстояния между каждыми двумя буквенными цепочками (но зато, как показал детальный и независимый анализ Асофера и Саймона, в сотни раз улучшает результат эксперимента с раввинами), а не более простая формула, предложенная Диаконисом (расстояние между двумя буквенными цепочками равно числу пропущенных букв между центральными буквами этих цепочек), — всегда можно дать ответ: потому, что это Всевышний, по Своему неисповедимому желанию, предопределил этому набору именно четвертое, а не какое-либо иное место, причем именно при подсчете по формуле Рипса, а не по более простой. Не будем поэтому препираться: наука не может и не должна решать вопрос о существовании или не существовании Автора. Но она может решить вопрос о научной доказательности результатов Вицтума — Рипса, и самыми трудными для опровержения мне лично представляются как раз не доказательства Саймона, Асофера или Мак-Кэя, а соображения текстологов-библеистов — например, уже упоминавшегося профессора Менахема Коэна из университета Бар-Илан или профессора Джеффри Тигэя из Пенсильванского университета (США). Если формулировать предельно кратко, то их соображения таковы. Суть всех проверок группы Мак-Кэя и других специалистов, говорят Коэн и Тигэй, сводится к выводу, что результаты Вицтума — Рипса весьма чувствительны к малейшим изменениям в написании тех или иных буквенных цепочек для имен и дат жизни раввинов или атрибутов народов: эти результаты сразу изменяются от замечательных (свидетельствующих о наличии Автора) к совершенно рядовым (свидетельствующим об их чисто случайном характере). Но поскольку такие же изменения в цепочках могут быть произведены не только с помощью специального подбора исходных данных, но и просто путем случайной перестановки каких-нибудь нескольких букв текста Торы, то, стало быть, результаты Вицтума — Рипса зависят также от точности этого текста. Понятно, что содержать истинное знание о будущем может только истинный, ни на йоту не искаженный текст Торы. А это значит, что и результаты Вицтума — Рипса должны быть замечательны не вообще в книге «Берешит», а только в истинном, ни на йоту не измененном тексте этой книги. Между тем Вицтум и Рипс получили свои замечательные результаты именно на искаженном тексте, и потому утверждения о какой-то особой «значимости» этих результатов (как якобы освященных особым Авторитетом источника) абсолютно несостоятельны. Дело в том, разъясняют специалисты-библиеведы, что никакого истинного текста Торы попросту не существует. Напротив, есть множество доказательств, что текст, которым пользовались Вицтум и Рипс, равно как и все остальные существующие ныне тексты Торы, во многом отличается от того, которым пользовались во времена Второго Храма, не говоря уже о более ранних временах. Некоторые места в существующих текстах отличаются и от соответствующих цитат из Торы, приводимых составителями Талмуда (а точность таких талмудических цитат в сравнении с дошедшими до нас текстами Торы гарантируется тем, что на этих цитатах основаны некоторые галахические постановления), и от соответствующих мест в отрывках Торы, найденных в кумранских свитках. Эти разночтения затрагивают также книгу «Берешит», с которой работают Вицтум и Рипс. А поскольку буквенные цепочки, образующие имена и даты жизни раввинов или названия и атрибуты народов, разбросаны буквально по всей книге, они не могут не испытать влияния этих разночтений. Поэтому результат, полученный Вицтумом и Рипсом, даже если бы он был научно достоверен, был бы весьма странен с точки зрения верующего человека: он означал бы, что только в измененном, по сравнению с древним, тексте Торы содержится правильное предсказание имен и дат жизни будущих раввинов. За неимением места я не могу достаточно подробно изложить интереснейшие аргументы Коэна и Тигэя. Но если у Вицтума и Рипса нет сегодня убедительного ответа на эти сокрушительные соображения, то им остается либо найти такой ответ, либо признать свои результаты не относящимися к вопросу об Авторстве. Я не одинок в этом заключении; примерно то же написали недавно в своем коллективном письме 50 видных математиков мира. Высказав, резко отрицательное мнение о научной достоверности экспериментов Вицтума — Рипса («Мы… изучили представленные доказательства существования «кодов» в Торе и нашли их совершенно неубедительными»), они далее пишут: «Некоторые из подписавшихся под этим письмом верят в Божественное происхождение Торы. Мы не видим никакого противоречия между этой верой и высказанным выше мнением». Иными словами, результаты Вицтума — Рипса не имеют никакого отношения к вопросу о существовании или не существовании Всевышнего. По утверждению Барри Саймона, профессоры Каждан и Ауман, некогда рекомендовавшие статью Вицтума — Рипса к публикации в «Статистических науках», тоже выразили готовность присоединиться к этому коллективному письму. >ГЛАВА 3 КТО НАПИСАЛ ТОРУ Еврейская традиция утверждает, что все пять книг Торы были получены Моисеем на горе Синай от Господа Бога. Однако эти книги (а также весь библейский текст в целом) содержат столь большое число противоречий, разночтений и несогласований, что становится попросту невозможным приписать их авторство одному автору, даже божественному. Кто же тогда создал Библию? Попробуем рассказать, последовательно и связно, как отвечает на этот вопрос современная наука. Оговоримся, однако, сразу: речь пойдет не о привычной в христианском мире Библии, состоящей из двух частей — Ветхого и Нового Заветов, но о той только великой книге, которую христиане называют «Ветхим (т. е. Старым) Заветом», а евреи называют ТАНАХом (Тора, или «Закон», Невиим, или «Пророки» и Ктувим, или «Писания»). «Библией» (или «Книгами») ее впервые назвали эллинизированные евреи диаспоры в начале новой эры (прямо переводя на греческий раннееврейское название «а-сфарим», предшествовавшее слову «ТАНАХ»). Под этим названием она и вошла в европейскую культуру. Роль Библии в этой культуре огромна. По существу, она заложила ее нравственные и социальные основы. Неслучайно европейскую цивилизацию называют иудеохристианской. А поскольку европейская цивилизация оказала столь же огромное влияние на историю мира, то Библия стала книгой поистине мирового значения. Из нее выросло христианство. Из нее вырос ислам. Библия до сих пор остается самой читаемой книгой в мире и неизменно занимает первое место в списках бестселлеров. Но отношение к ней различных людей далеко не одинаково. Одни понимают ее буквально, другие аллегорически, третьи историко-культурно или нравственно. Одни считают ее Боговдохновленной, другие видят в ней человеческое творение. Одни живут по ее законам, другие изучают ее методами науки. Впрочем, последнее противопоставление не означает противоречия. Научное изучение Библии не направлено на подрыв веры. Оно не имеет целью доказательство существования или не существования Бога. Оно не нацелено на разжигание конфликта между религией и наукой или между верующими и неверующими людьми. Разумеется, как среди верующих, так и среди неверующих есть зашоренные люди, готовые крикливо навязывать другим свои крайние религиозные или атеистические взгляды. Спорить с такими людьми бесполезно. Они сами своими неумными нападками провоцируют и разжигают тот конфликт, против которого на словах выступают. У всякого серьезного верующего или атеиста знакомство с историей научного изучения Библии и достигнутыми на этом пути результатами вызывает лишь еще большее уважение к этой великой Книге. Оно углубляет понимание ее исторических и нравственных уроков. Оно является источником житейской мудрости и жизненной стойкости. Неслучайно у истоков научного изучения Библии стояли верующие люди, в том числе и евреи; да и сегодня многие, едва ли не большинство исследователей Библии являются представителями религиозных кругов. Эти занятия столь же мало подрывают их веру, сколь увлеченные и эффективные занятия наукой вообще — веру тех тысяч и тысяч современных ученых, которые остаются глубоко религиозными людьми. Со своей стороны, ни один серьезный ученый-атеист никогда не опускался до вульгарного «ниспровержения» великих религиозных идей, пронизывавших и определявших всю человеческую историю. Скорее наоборот: все они несли в душе и вдохновлялись своим, экзистенциальным эквивалентом таких идей. Будем надеяться, что все сказанное выше сразу же очертит наш подход к намеченной теме, и приступим к ней без дальнейших отлагательств. Научное изучение Библии (или, как его еще условно называют, «библейская критика») представляет собой, по существу, попытку ответить на один-единственный вопрос: кто написал Библию? В этом плане перед нами не что иное, как научный детектив, столь часто встречающийся в любых рассказах о науке. Как и всякий детектив, он начинается с загадок. Люди, внимательно читавшие Библию, не могли не заметить, что в ней встречаются многочисленные противоречия. Так, в рассказе о Сотворении Мира один раз (Бытие 1:20–27; здесь и в дальнейшем мы будем цитировать русский перевод, сверяя его с ивритским текстом; читатель, при желании, может произвести эту сверку и сам) говорится, что Бог сначала создал всех пресмыкающихся, животных и птиц, а затем человека — мужчину и женщину; а несколько ниже (Бытие 2:7; 2:18–22) утверждается, что Он сначала создал мужчину, затем всех животных и птиц и лишь после этого женщину. В рассказе о Потопе сначала говорится (Бытие 6:19), что Господь повелел Ною ввести в ковчег по паре из всех животных, а потом (Бытие 7:2–3) сообщается, что «чистых» (то есть пригодных для жертвы) животных и птиц велено взять по семи. И даже о самом Себе Господь (если считать Его первовдохновителем библейского текста) говорит на удивление противоречиво: в книге «Берешит» (Бытие 4:26) Он сообщает, что Его имя начали призывать (то есть произносить) уже в древнейшие времена, после рождения Адамова внука; а в книге «Шмот» (Исход 6:3) рассказывает Моисею, что это же Свое имя Он не открыл даже Аврааму, Ицхаку и Яакову. Таких примеров можно привести множества Верующие люди, читавшие эту книгу на протяжении столетий, не могли не задумываться над ними. Традиция учила их, что первые пять книг ТАНАХа, или Тора, были написаны Моисеем. Но читавшие не могли не видеть противоречий между этим утверждением и самим текстом. В тексте упоминаются многие события, о которых Моисей знать не мог. Рассказывается, например, о смерти Моисея. Говорится, что Моисей был самым скромным человеком на Земле. Трудно думать, что самый скромный человек на Земле станет говорить о себе, что он самый скромный человек на Земле. И так далее. Все это порождало законные недоумения. Мы знаем, что такие недоумения высказывались очень часто, — хотя бы потому, что уже в III в. н. э. христианский богослов Ориген написал специальный трактат, направленный против тех, кто сомневался в моисеевом авторстве. Он предложил разъяснения некоторых противоречий. Аналогичные разъяснения предлагали раввины. Они утверждали, что противоречия являются мнимыми и могут быть сняты с помощью дополнительных комментариев и интерпретаций. В частности, упоминание событий, о которых Моисей якобы не мог знать, объясняется тем, что Моисей был пророк, а текст Торы вдохновлен Богом. В подобных интерпретациях особенно были искусны великие еврейские комментаторы Раши и Нахманид. (Много позже Бабель с любовной иронией спародировал этот метод интерпретации в одном из своих «Одесских рассказов»: «Ночью… — читал Арье-Лейб. — Что говорит нам Раши? Раши говорит нам: ночью — это ночью и днем».) Были, однако, люди, которых не удовлетворяли такие способы решения загадок библейского текста. Принимая в целом авторство Моисея, они высказывали предположения, что в отдельных местах моисеев текст мог быть дополнен теми или иными фразами, вставленными более поздними переписчиками. Первым из известных нам людей такого рода был еврейский врач Ицхак Ибн Яхуш, живший в XI веке при дворе одного из мусульманских правителей Испании. Он обратил внимание на то, что в книге Бытия (36:31–39) перечисляются цари Эдома, жившие намного позже смерти Моисея. Неизвестно, почему его смутило именно это противоречие, но он высказал мысль, что данный перечень является более поздней вставкой. За это он был назван «Ицхаком-путаником». Назвал его так Авраам Ибн Эзра, испанский раввин XII века. Он даже добавил, что книга Ибн Яхуша «заслуживает сожжения». Но тот же Ибн Эзра в своих собственных сочинениях намекнул, что в ТАНАХе имеются фразы, которые никак не могли принадлежать Моисею: упоминания о Моисее в третьем лице; описание мест, где он никогда не бывал, и событий, которые случились после его смерти, и так далее. Ибн Эзра, однако, был осторожнее Ибн Яхуша. Он просто написал: «Тот, кто понимает, будет хранить молчание». В XIV веке ученый из Дамаска Бонфилс впервые высказал вслух дерзкое предположение, призванное разъяснить все упомянутые загадки: «Они являются свидетельством того, что эти фразы вписаны в Тору позже и не Моисеем; скорее их вписал какой-то более поздний пророк». В XV веке епископ Тостатус, развивая эту мысль, предположил, что этим более поздним автором был Йегошуа Бин-Нун, преемник Моисея и первый еврейский завоеватель Ханаана. Но столетием позже немецкий ученый Карлштадт обратил внимание на то, что описание моисеевой смерти излагается точно в том же стиле и тем же языком, что и весь остальной текст. А это делало затруднительным приписать «добавки» кому-либо другому. Его современник, фламандский католик Андреас ван Маес, и два иезуита, Перейра и Бонфрер, попытались преодолеть эту трудность, выдвинув гипотезу, что Моисею принадлежал только исходный текст Торы, но до нас дошел текст, слегка измененный какими-то более поздними «редакторами», которые своими вставками и. исправлениями пытались сделать его более понятным читателям. Книги этих авторов были немедленно запрещены католической цензурой. На третьем этапе этой истории — в XVII веке — английский философ Томас Гоббс выдвинул еще более радикальное предположение: основная часть текста Торы вообще не принадлежит Моисею. Гоббс собрал множество аргументов в пользу этого своего тезиса и изложил их в специальной книге, которая получила широкую известность среди читателей. Одновременно аналогичный тезис выдвинул и французский протестант Перьер. Ему повезло меньше, чем Гоббсу, — его книга была конфискована и сожжена, а сам он был арестован и купил свободу только ценой отречения от своих слов и перехода в католицизм. Но вскоре к мнению Гоббса и Перьера присоединился также Спиноза, Мало того, что он систематизировал все противоречия, найденные в библейском тексте его предшественниками, — он добавил к ним новые наблюдения. Он, например, обратил внимание на фразу (Второзаконие 34:10): «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей», — которая явно была написана кем-то, жившим через много лет или даже столетий после Моисея. Как известно, Спиноза был отлучен от иудаизма, а его книги были осуждены не только еврейскими раввинами, но также католиками и протестантами. Однако все эти преследования не могли, конечно, остановить пытливую мысль, и уже вскоре после осуждения трудов Спинозы французский католический священник Ришар Симон выступил со своей версией происхождения Торы — самой радикальной из всех, предлагавшихся до тех пор. Спиноза был первым, кто показал, что логические и композиционные несообразности в Торе представляют собой не изолированные, худо-бедно объяснимые противоречия, а систематическую особенность всего текста. На этом основании он предположил, что текст этот принадлежит не Моисею, а более поздним авторам, которые имели в своем распоряжении несколько старинных источников. Эта идея получила дальнейшее развитие у трех авторов следующего века — немецкого священника Виттера, французского врача Астрюка и немецкого историка Эйхгорна. Их книги сосредотачивались главным образом на анализе так называемых библейских дублетов. Под таким названием среди специалистов известны те места Торы, которые рассказываются в ней дважды. Таких эпизодов особенно много в ее первых книгах. Процесс Сотворения мира, история Потопа, заключение Богом завета с Авраамом, объяснение имени Ицхака, объявление Авраамом своей жены Сары сестрой, путешествие Яакова в Месопотамию, откровение Яакову. возле Бейт-Эля и изменение его имени На Исраэль, эпизод высекания Моисеем воды из скалы — все это и многое другое излагается в Торе в двух версиях, детали которых зачастую противоречат друг другу. Богословы — раввины и священники — не могли пройти мимо этих противоречий. Поэтому они объявили их мнимыми. Две версии дублета, разъясняли они, не противоречат, а дополняют друг друга. Тем самым они преподносят верующему более глубокий урок. Исследователи Библии не были удовлетворены этими разъяснениями. Они обратили внимание на странную закономерность. В большинстве дублетов различия между составляющими их версиями весьма устойчивы. Говоря о Боге, одна версия всегда использует слово «Элогим», другая всегда пользуется обозначением «Ягве». Вспомним, например, рассказ о Потопе. В шестой главе книги Бытия (Берешит) пятый стих открывается словами: «И увидел Ягве…», шестой: «И раскаялся Ягве…», седьмой: «И сказал Ягве…», восьмой заканчивается словами: «Перед очами Ягве». Но в стихе девятом уже говорится, что «…Ной ходил перед Элогим». Этот стих открывает длинный ряд других, до самого конца главы, в которых Бог именуется исключительно словом «Элогим». В них подробно излагается, какой ковчег «Элогим» повелел Ною построить и каких тварей в него взять: «…от всякой плоти по паре». После чего «сделал Ной все, как повелел ему Элогим». Однако следующая глава немедленно открывается повторением: «И сказал Ягве (!) Ною… всякого скота чистого (т. е. пригодного для жертвы. — Р.Н.) возьми по семи (!) пар…» Этот повтор продолжается вплоть до пятого стиха, где снова говорится, что «…сделал Ной все, что Ягве повелел ему», — после чего начинается отрывок, в котором Бог опять начинает именоваться словом «Элогим». Такие отрывки, повторяющие друг друга в разных выражениях и с разным наименованием Бога, чередуются вплоть до конца рассказа. Примем как гипотезу, что история Потопа — это искусная комбинация двух различных рассказов. Продолжается ли каждый из них также и в последующем тексте? Оказывается, да. Если продолжить сопоставление дублетов, то нетрудно заметить, что почти все они содержат те же две версии, четко различающиеся наименованиями Бога. И вот что интересно: если собрать по порядку все те куски текста, в которых Бог именуется «Ягве», то образуется вполне связный рассказ, повествующий о событиях от Сотворения мира до Исхода из Египта. А если собрать все куски, в которых Бог именуется «Элогим», получится другой связный рассказ, повествующий о тех же (!) событиях — от Сотворения мира до Исхода из Египта, — но уже по-своему, со своей стилистикой и своими особыми приметами. Эти различия не сводятся только к разным наименованиям Бога. Оба рассказа отличаются и другими устойчивыми разночтениями. В одном коренные жители Ханаана всегда называются аморитами, в другом — хананеянами. Один всегда именует пустыню, в которой евреи скитались после исхода из Египта, Хоревской, другой — Синайской. В одном имя моисеева тестя — Итро, в другом — Ховав. И так далее. Заслуга Виттера, Астрюка и Эйхгорна состояла в том, что они первыми заметили этот удивительный факт. Независимо друг от друга они выдвинули гипотезу, что по крайней мере первые две книги Пятикнижия являются контаминацией двух разных древних источников. В соответствии с разным наименованием Бога в этих источниках первый из них получил название «Ягвист», а второй — «Элогист». Для краткости их часто обозначают первыми буквами соответствующих слов — J и E. Их различие состоит не только в разных наименованиях Бога и других деталях. Как уже сказано, они отличаются и чисто литературно. «Ягвист» намного более талантливый писатель, чем «Элогист». Вот как характеризует его современный историк Драйвер: «Ягвист рассказывает свою историю, удивительно точно взвешивая необходимое количество деталей; его рассказ никогда не бывает затянут и всегда держит читателя в напряжении до самого конца. Он пишет легко, без усилий, избегая вычурных красот. Элогист, рассказывающий, по существу, те же истории, обнаруживает куда меньшую литературную искушенность». Вы можете сами оценить справедливость этой характеристики, перечитав, например, рассказ «Ягвиста» о сотворении мира и человека. Он начинается со второй половины четвертого стиха 5-й главы книги Бытия («В то время, когда Ягве создал небо и землю…») и кончается 25-м стихом той же главы («И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились»). Совершенно иначе, суше и пространней, повествует о том же вся 1-я глава той же книги и три первых стиха главы 2-й. Забавно, что на переходе между этими двумя рассказами обнаруживается своеобразная «связка», призванная как-то замаскировать повтор (начало четвертого стиха: «Вот происхождения неба и земли, при сотворении их»). Она явно принадлежит тому человеку, который «сшивал» оба повествования воедино. Современные специалисты условно называют его. «редактором» (хотя в этой роли могли, конечно, выступать несколько людей). «Редактор» был, несомненно, выдающимся специалистом своего дела — его сшивки и вставки с первого взгляда почти незаметны, их обнаружение требует кропотливой работы. Занимаясь ею, исследователи библейского текста вскоре обнаружили еще одну странную особенность. Выделив рассказ E, они обнаружили, что внутри него имеются свои дублеты! Текст «Элогиста» оказался, в свою очередь, распадающимся на два различных текста! «Редактор» (или редакторы) явно дополнили рассказ E вставками из какого-то третьего источника. Этот неизвестный источник был выявлен, прежде всего, по его особому содержанию. Хотя автор этого источника тоже именует Бога неизменным словом «Элогим», но его текст отличается от текста «Элогиста» резко повышенным интересом к наставлениям, заповедям, религиозным предписаниям и деталям священнической службы. Эти вопросы он излагает с большой подробностью и какой-то поистине «канцелярской» сухостью. Создается впечатление, что этот автор был священником-левитом. Исследователи, обнаружившие этот третий источник, назвали его поэтому «Жреческим», сокращенно P — от английского слова Priest. Последующий анализ показал, что «Жрецу» принадлежит весьма значительная часть, что раньше считалось принадлежащим «Элогисту», а в сумме, по всем четырем первым книгам Торы, — самый большой объем их текста, превосходящий источники J и собственно E, вместе взятые. Особенно велика доля P в третьей и четвертой книгах — «Ваикра» (в славянском переводе Библии — Левит) и Бэмидбар (Числа). Но источник P обширно представлен также и в первых двух книгах — Бытие и Исход. Здесь ему принадлежат прежде всего генеалогии Адама, Ноя, Авраама и так далее. Эти генеалогии «Жрец» неизменно начинает излюбленным оборотом: «Эле толдот…» («Вот родословие…»). У него есть и другие излюбленные словосочетания и целые фразы. Он, например, предпочитает пользоваться словом «ани» («я») вместо «анохи», которым пользуется источник E. Если «Элогист» называет Месопотамию Арам-Нагараим, то Жрец именует ее Паддан-Арам. Ему же принадлежит знаменитое «пру урву» («плодитесь и размножайтесь»). Тот рассказ о сотворении мира и человека, который занимает всю первую и три начальных стиха второй главы книги Бытия, тоже взят из источника P (а не E, как думали раньше). Это довольно суховатый рассказ, в котором Бог сначала создает животных, а потом людей — мужчину и женщину одновременно. У «Ягвиста» это излагается куда ярче и увлекательней: сначала Бог создает Адама, потом решает, что «нехорошо человеку быть одному», и пытается дать ему «помощника, соответственного ему», создает для этого животных, видит, что «для человека не нашлось помощника, подобного ему», и только тогда решает создать Еву из адамова ребра. «Редактор» почему-то предпочел в данном случае просто изложить оба рассказа по отдельности, соединив их лишь упомянутой выше короткой связкой. В других случаях он обычно «прослаивает» один рассказ кусками второго или третьего. Замечательный пример этого редакторского искусства дает история Потопа. Эта история изложена в книге Бытия, от пятого стиха 6-й главы до двадцать второго стиха 8-й. Она скомбинирована из двух источников. Мы приведем ее здесь частично. Текст одного источника будет приведен без всяких помет, текст другого будет дан в отдельных абзацах и отмечен скобками. Итак: «И увидел Ягве, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Ягве, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем. И сказал Ягве: истреблю с лица Земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Ягве. (Вот родословие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем: Ной ходил перед Элогим. Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Йафета. Но земля растлилась перед лицем Элогим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Элогим на землю… и сказал Элогим Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег… и введи также в ковчег из всякого скота… по паре… И сделал Ной все; как повелел ему Элогим, так он и сделал.) И сказал Ягве Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя Я увидел праведным предо Мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи пар… а из скота нечистого по две… Ной сделал все, что Ягве повелел ему. (Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю.) И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов их в ковчег от вод потопа. (И из птиц чистых и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся на земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Элогим повелел Ною.) Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. (В шестисотый год жизни ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день, разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей). (В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Йафет, сыновья Ноевы, и жена ноева, и три жены сынов его с ними… и все звери земли по роду их… И затворил Элогим за ним ковчег.) И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей… (…Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней.)» Думается, что и приведенного отрывка достаточно, чтобы сложить из двух его версий два отчетливо разных рассказа, каждый со своими подробностями, своими стилевыми особенностями и даже своей хронологией Потопа. Как читатель уже, наверное, догадался, первый рассказ принадлежит «Ягвисту», второй — «Жрецу». Эти два источника чередуются в книге Бытия и дальше. Собственно «Элогист» впервые появляется в ней только начиная с 20-й главы. Но сложности библейского текста не исчерпываются одним лишь наличием и взаимным проникновением этих трех источников. В середине XIX века немецкий ученый де Ветте опубликовал работу, в которой излагалась еще более революционная гипотеза. Детально изучив текстовые и лингвистические особенности пятой книги Торы, «Дварим» (в славянской Библии — Второзаконие), он пришел к выводу, что она резко отличается от первых четырех. В ней почти нет следов трех древнейших источников — J, E и Р, если не считать нескольких фраз в последних главах. Она написана совершенно иным языком. Ее лексика специфична. Ее автор пользуется иными излюбленными оборотами и повторяющимися фразами. Он заново рассказывает многие эпизоды, уже рассказанные в первых четырех книгах. С другой стороны, он во многом противоречит этим книгам. Даже некоторые формулировки Десяти Заповедей у него иные. Де Ветте выдвинул гипотезу, что Второзаконие представляет собой совершенно отдельный — четвертый — источник Торы. Он обозначил его буквой D (от Deuteronomion — названия книги в греческой Библии, что и означает «Второзаконие»). Итак, у Торы оказался не один автор, а целых четыре! Ее первые четыре книги представляют собой переплетение рассказов трех авторов — «Ягвиста» (J), «Элогиста» (Е) и «Жреца» (Р). Ее последняя книга — Дварим, или Второзаконие — написана четвертым автором (который условно обозначается буквой D). Все эти источники были объединены и связаны друг с другом неким «редактором» или несколькими редакторами, жившими намного позднее. Это утверждение, конечно, не является абсолютной истиной. Это всего лишь научная гипотеза. Но она основывается на множестве конкретных фактов и объясняет многие особенности текста ТАНАХа. Для того, чтобы её опровергнуть, нужно предложить другую гипотезу, которая согласовывалась бы с теми же фактами, но давала им другое объяснение. Пока что такую альтернативу не предложил никто. Исследователи, выступающие против «гипотезы четырех источников» (например, Кассуто или Кауфман), оспаривают ее отдельные положения, но не сам факт наличия в Торе нескольких различных рассказов. Однако гипотеза четырех источников далеко не исчерпывает всех проблем происхождения Торы. Она не отвечает на важнейший вопрос: кто был автором каждого из этих источников и когда они были написаны. Подчеркнем это слово — «написаны». Многие величайшие произведения древности имеют устную предысторию. Древнегреческие мифы столетиями передавались из уст в уста, прежде чем были записаны Гесиодом и Овидием. Та же судьба была и у поэмы о Гильгамеше. Можно думать, что рассказы «Ягвиста», «Элогиста» и «Жреца», составившие первые четыре книги Торы, тоже восходили к более древней устной традиции. Сказания о Сотворении мира, первых людях, Потопе, деяниях Праотцев и Исходе из Египта могли передаваться из одного поколения в другое, пока наконец «Ягвист», «Элогист» и «Жрец» не сложили из них связные рассказы — каждый по-своему, но все — об одном и том же. Попытки обнаружить эти древнейшие слои составляют важнейшую часть поисков современных исследователей. На этом пути достигнуты интересные результаты. Многие исследователи, например, склоняются сегодня к мысли, что некоторые элементы этой древней устной традиции могли действительно восходить к Моисею. Одним из таких элементов был, по всей видимости, перечень Десяти Заповедей. Мы поговорим об этих новейших изысканиях позднее. Сейчас нас интересует авторство и время создания Пятикнижия в том виде, в котором оно до нас дошло. Первыми к этому вопросу подступились немецкие исследователи XIX века Граф и Ватке. Граф пытался ответить на него, исходя из логических и хронологических особенностей библейского текста. Если какой-то из источников рассказывает о более поздних событиях, то он, очевидно, создан позже. Ему удалось найти ряд таких «ориентиров». Это позволило ему предложить возможную датировку всех четырех источников. По Графу, самыми древними были E и J; несколько более молодым — D; а самым поздним — P. Ватке, в отличие от Графа, датировал те же источники на основании их религиозных особенностей. Он исходил из представления, что иудаизм развивался от обожествления сил природы в сторону «духовно-этической» религии, а затем превратился в «священнический культ». Отыскав в каждом источнике приметы той или иной стадии такой эволюции, он пришел к выводу, что первыми возникли источники E и J, затем — D и последним — P. Эти работы были обобщены и продолжены крупнейшим библиеведом XIX века Юлиусом Вельхаузеном. В своих «Пролегоменах к истории Израиля» Вельхаузен свел воедино все найденные предшественниками доказательства гипотезы четырех источников и предложил собственный, более детальный и конкретный вариант их датировки. Он выдвинул предположение, что источники J и E сложились в эпоху, непосредственно предшествовавшую царствованию Саула и Давида; D был создан во времена царя Йошиягу, то есть незадолго до разрушения Первого храма; а P — уже после возвращения евреев из Вавилонского плена. Это предположение Вельхаузен подкрепил огромным множеством аргументов, учитывавших всю совокупность тогдашних знаний об истории древних евреев и эволюции их религии. Столь мощное обоснование позволило его теории продержаться несколько десятилетий, вплоть до середины XX века. Но сегодня она представляется во многом устарелой. Новые археологические и исторические данные привели к появлению более детальных и убедительных гипотез. Они реконструируют историю становления Торы, исходя из современных представлений о том мире, в котором она возникла. Эти представления помогают понять, когда и как это происходило. Сказанное означает, что для того, чтобы ответить на вопрос, кто написал ТАНАХ, нужно, прежде всего, отчетливо представить себе мир, его породивший. Попробуем воссоздать этот мир! Конечно, мы не будем пытаться воскресить здесь всю древнееврейскую историю. Ограничимся лишь теми фактами, которые необходимы для нашей цели. После смерти Моисея евреи, руководимые Йегошуа бин-Нуном, вторглись с востока в Ханаан и расселились здесь среди местных племен, отвоевав себе холмистое плоскогорье, тянувшееся с севера на юг, через Шхем и Хеврон. На западе их соседями были владевшие побережьем филистимляне и, чуть севернее, финикийцы; на севере их земли граничили с Сирией, на юге — с Эдомом. Весь этот регион в целом был зажат между двумя тогдашними сверхдержавами — Ассирией и Египтом. Евреи того времени жили в деревнях и небольших городах, занимаясь в основном земледелием и скотоводством, частично — ремеслом и торговлей. Они разделялись на 12 племен, или колен, каждое из которых владело собственной небольшой территорией. Тринадцатым было колено Леви, не имевшее собственного земельного надела, — его члены жили в городах других колен и, по традиции, составляли группу жрецов (или священников). Каждое колено имело собственных лидеров, которые в ту пору именовались «судьями». Во времена военной опасности они часто становились военачальниками своего колена. Кроме священников и судей (часто в одном лице), заметную роль в тогдашнем еврейском обществе играли еще и пророки («невиим»), вещавшие от имени Бога евреев. Этим Богом был Ягве. В некоторых отношениях он напоминал богов соседних с евреями ханаанейских племен. Эти племена были языческими. Пантеон их богов возглавлял Эль — верховный владыка, божество мужского пола. Эль не отождествлялся с какой-либо природной силой — он восседал во главе совета богов и объявлял их решения. Ягве тоже не отождествлялся с природными силами; но он не был и главой божественного пантеона. Его принципиальное отличие состояло в том, что Он был Один и представлял собой скорее Бога истории, которая, по убеждению евреев, развертывалась в соответствии с Его намерениями. Эпоха Судей завершилась во времена Самуила (Шмуэля). Самуил был одновременно судьей, священником и пророком. Он жил в городе Шило, который был тогда главным религиозным центром всех еврейских колен. Здесь хранилась так называемая «Скиния Завета», где находился Ковчег, внутри которого, как утверждала традиция, находились моисеевы скрижали с высеченными на них Десятью Заповедями. Религиозные церемонии в Шило отправляли священники, которые возводили свою родословную к самому Моисею. Во времена Самуила еврейские колена подверглись сильнейшему натиску филистимлян. Отразить этот натиск можно было только объединенными усилиями, и Самуил, уступая «воле народа», провозгласил полководца Саула первым общеизраильским царем. Так эпоха Судей сменилась эпохой Царей. Но израильская монархия не была абсолютной. Власть царя ограничивалась и уравновешивалась авторитетом священников и пророков. Царь нуждался в их поддержке и одобрении, поскольку религия в ту пору не была отделена от государственной власти. Она вообще не была отделена от всей жизни — в тогдашнем иврите еще не было даже особого слова для «религии». Авторитет Самуила был так велик, что когда Саул нарушил его предписания, пророк низложил его от имени Господа и помазал на царство Давида. А Саул вскоре пал в битве с филистимлянами. В отличие от Саула, принадлежавшего к колену Биньямина, Давид был родом из колена Йегуды. Это самое южное из израильских колен владело самой большой территорией, а воцарение Давида еще более усилило его роль. Давид понимал, что это может восстановить против него северные колена. Он не хотел также раздражать священников Шило во главе с Самуилом, которые оказали ему поддержку в борьбе с Саулом. Поэтому он предпринял ряд искусных шагов для упрочения единства своего царства. Он перенес свою столицу из Хеврона, который был главным городом колена Йегуды, в завоеванный у ханаанейского племени иевуситов Иерусалим. Этот город не принадлежал ни одному из колен, и его возвышение не могло никого обидеть. Сюда же он перенес и Ковчег Завета. Вторым шагом Давида было назначение сразу двух главных священников — одного с юга, другого — с севера. Представителем Йегуды был главный священник Хеврона Цадок; интересы северных колен представлял один из жрецов Шило — Авиатар. Заметим, что первосвященники Хеврона вели свою родословную не от Моисея, как жрецы Шило, а от Аарона, его брата. Назначение двух первосвященников было не только данью двум частям Давидова царства, северной и южной, но и своего рода религиозным компромиссом между двумя древними священническими традициями — Моисеевой и Аароновой. Наконец, Давид создал постоянную профессиональную армию, которая подчинялась только ему и делала его независимым от военачальников отдельных колен. С помощью этой армии он добился значительных военных успехов — завоевал Эдом, Моав, Аммон, часть Сирии и подчинил своей гегемонии Филистию. В результате он создал империю, простиравшуюся от Нила до Евфрата. Давид стал родоначальником одной из самых долговечных в истории династий. Евреи настолько привыкли к царям «из рода Давидова», что впоследствии приписали это происхождение даже мессии (а христиане — Христу). Давид вообще занимает особое место в еврейской истории, сравнимое разве что с местом Моисея. ТАНАХ отводит ему почти такой же объем текста. Судя по этому тексту, Давид был действительно выдающейся личностью — замечательным полководцем, мудрым государственным деятелем, талантливым певцом, музыкантом и стихотворцем. Выдающейся личностью был и его преемник Соломон. Но между ними была одна существенная разница. В то время как Давид делал все для объединения своего царства, Соломон посеял семена его распада. Именно этот распад, как считают современные исследователи, как раз. и стал толчком к созданию первых библейских книг. Сейчас мы поймем, кто именно, когда и почему их создал. Длительное правление Соломона (965–928 гг. до н. э.) стало кульминационным пунктом в истории единого древнееврейского государства. Оно оставило глубокий след не только в еврейской памяти. Арабский фольклор тоже до сих пор хранит многочисленные легенды и предания о великом «царе Сулеймане ибн Дауде» (мир с ними обоими!). Но в это же время были заложены предпосылки для распада государства евреев. Этот распад, по мнению современных исследователей, как раз и подготовил почву для возникновения первых книг ТАНАХа. Поэтому поговорим сначала об истории этого времени. Важнейший вклад в изучение политической истории Соломонова царства внес американский библиевед (тогда еще выпускник Гарвардского университета) Барух Гальперин. Его работа была продолжена другим американским еврейским исследователем — Ричардом Фридманом. Результаты их работы, основанные на тщательном изучении библейских источников, а также исторических и археологических материалов, позволяют восстановить детальную картину интересующих нас событий. Мы выберем из них лишь самые необходимые. Соломон продолжил политику централизации монархии, начатую его отцом Давидом. Еще до восшествия на престол ему пришлось выдержать борьбу с одним из старших сыновей Давида Адонией, которого поддерживал первосвященник из Шило Авиатар. На стороне Соломона в этой борьбе был второй Давидов первосвященник — Цадок из Хеврона. Победив Адонию, Соломон изгнал Авиатара из столицы. Вместе с Авиатаром впали в немилость и все другие священники из северных областей царства, которые возводили свою родословную к Моисею. Главной опорой Соломона стали священники из колена Йегуды, потомки Аарона, во главе с Цадоком. Этот передел священнической власти оказал важное влияние на последующие события. Еще более важным шагом на пути к централизации власти было строительство Иерусалимского Храма. Соломон построил его с помощью финикийского царя Хирама. За это он отдал ему двадцать городов в Галилее, то есть северных областей царства. Утрата галилейских городов нанесла еще один удар по интересам северных колен. Еще более серьезным ударом стала для них проведенная Соломоном административная реформа. Вместо древнего деления страны на уделы двенадцати колен Соломон ввел разделение на 12 новых округов, границы которых не совпадали с традиционными уделами. Каждый из этих округов насчитывал около 50–60 тысяч человек и был обложен своей податью, предназначенной на покрытие расходов по строительству Храма. Распределение этих податей было неравномерным: самыми тяжелыми были поборы с северных округов. Кроме того, Соломон впервые ввел систему постоянных налогов или «мисим». Как подсчитал историк Олбрайт, каждый округ в среднем должен был сдавать в царскую казну почти 10 тонн зерна, 900 быков и 3000 овец в год. Но опять-таки, послабления были сделаны для округов, населенных коленами Йегуды и Биньямина, а главная тяжесть налогов легла на северные колена. Эта несправедливость вызвала глухое брожение на севере царства. Свидетельством этого недовольства может служить следующий показательный факт: когда, после смерти Соломона, в северных округах вспыхнуло восстание, первым царским чиновником, которого убили восставшие, был сборщик «мисим». Стоит отметить и другой важный факт: глашатаем восстания был пророк Ахия а-Шилони, представитель униженного царем священничества из Шило. Восстание началось после того, как преемник Соломона Рехаваам отказался отменить повинности, возложенные его отцом на северные колена. Во главе восставших встал Йороваам из колена Эфраима. Как свидетельствует 3-я книга Царств (12:16), восставшие выдвинули лозунг «Нет нам доли в сыне Ишая (то есть у Давида. — Р.Н.) По шатрам своим, Израиль!» Результатом восстания было отпадение десяти северных колен от царства Давида — Соломона и образование ими особого, северного — Израильского — царства, на власть в котором Ахия помазал Йороваама. Власть Рехаваама оказалась ограниченной наделами колен Иуды и Биньямина, которые с этого времени стали называться Иудейским царством. Израиль был многолюднее Иудеи, но его население не было однородным: значительную его часть составляли ханаанские племена. Их религия была языческой, пантеон их богов — Элогим возглавлял Баал, сын Илу, родоначальника Элогим, и под влиянием хананеян поклонение Баалу, а также другие языческие обряды широко распространились также среди еврейского населения Израильского царства — куда шире, чем в Иудее, где монотеистическая вера в Ягве не имела таких примесей язычества. Эта политическая и религиозная неоднородность Израиля создавала неустойчивое положение, и Йороваам поспешил укрепить свою власть — как среди евреев, так и среди хананеян. Он провозгласил столицей царства город Шхем (во многом еще ханаанейский) и стал утверждать собственный вариант иудаизма, в котором традиционный для евреев культ Ягве сочетался с некоторыми чертами ханаанейских Элогим. Для этого Йороваам создал новые религиозные центры, установил новые даты праздников, назначил новых священников и ввел новые религиозные символы. Эта своеобразная, «израильская» версия общееврейской религии вводилась им, в частности, еще и для того, чтобы подданные его не должны были отправляться на праздники в Иерусалимский Храм — в царство Рехаваама. Новые религиозные центры были продуманно построены на северной и южной границах царства — в еврейском городе Дан и в ханаанейском (судя по названию) городе Бейт-Эль. Дата праздника Суккот была перенесена на месяц позже, чем в Иудее (что, кстати, опять же соответствовало древней северной традиции). И если в Иерусалимском Храме подножьем для незримо присутствующего в «святая святых» Ягве служили два позолоченных херувима (в виде четвероногих животных с человеческой головой и птичьими крыльями), то в храмах Бейт-Эля и Дана Господь незримо опирался на двух отлитых из золота молодых быков («тельцов»). Заметим, что это был также жест в сторону ханаанейских подданных Йороваама — их Эль-Баал обычно изображался в виде молодого бычка. Создавая для себя опору в виде новой религиозной знати, Йороваам руководствовался принципом «политических назначений» — он отобрал новых священников из лично преданных ему людей, а не из левитов Шило, считавших себя потомками Моисея. Эти левиты, из среды которых вышли такие люди, как Самуил, Авиатар и Ахия, помазавший Йороваама на царство, могли ожидать награды за свои заслуги перед Израилем; оттесненные в сторону новыми «назначенцами» царя, они, несомненно, ощутили себя жестоко ущемленными. Запомним и эту деталь — она нам вскоре пригодится. Пока же заключим: несмотря на все усилия Йороваама его царство осталось нестабильным. Ни одна из царских династий Израиля не продержалась дольше двух-трех поколений. Да и само Израильское царство просуществовало не более 200 лет. В 722 году до новой эры оно было разгромлено и покорено Ассирией. 23 тысячи человек были уведены в плен; остальные рассеялись; многие бежали в соседнюю Иудею. 10 северных колен прекратили свое существование. Иудейское царство продержалось еще свыше ста лет, непрерывно управлямое потомками Давида. Но в 586 году до н. э. пало и оно — на сей раз под натиском вавилонян. А теперь вернемся к созданию ТАНАХа. Сквозь первые четыре книги Торы (мы уже об этом говорили) струятся, то переплетаясь, то расходясь, два повествовательных потока — два рассказа, выдающие свои отличия многочисленными повторами, противоречиями и разночтениями. Они рассказывают об одних и тех же событиях: Сотворении Мира, первом Человеке и его сыновьях, о поколении Ноя и Потопе, о Праотцах и египетском рабстве, о Моисее, Исходе из рабства и даровании Торы — и это свидетельствует о наличии в их основе общей древней традиции, принадлежащей одному народу. Но каждый рассказ повествует об этих событиях несколько иначе, и эти различия оказываются устойчивыми сквозными приметами, позволяющими отделить один рассказ от другого. Главным таким различием обычно считают наименование Бога. Так, в одном лишь рассказе о сотворении мира одна версия 35 раз называет Бога словом «Элогим» — и ни разу не употребляет слово «Ягве»; другая 11 раз употребляет для этого слова «Ягве Господь» — и ни разу не прибегает к слову «Элогим». На этом основании эти рассказы приписываются двум разным авторам — «Элогисту» (Т) и «Ягвисту» (J). Но само по себе это обстоятельство еще не является решающим — современный израильский автор вполне мог бы в одних местах своей хроники нынешних событий называть премьера «Нетаниягу», а в других — «Биби». Однако две упомянутые версии Торы имеют и множество других отличий, не менее, а может быть, даже более показательных. В том же рассказе о Сотворении Мира одна версия перечисляет такой порядок создания живых существ: растения; животные; человек (мужчина и женщина), тогда как вторая утверждает, что порядок был иной: человек (мужчина); растения; животные; человек (женщина). Одна версия утверждает, что Ной взял в ковчег по паре всех живых существ, а другая говорит, что «чистых» существ было взято по семь пар. Одна версия различает между «чистыми» и «нечистыми» (непригодными для жертвы) животными; другая такого различия не проводит. Одна рассказывает, что Ной отправил на поиск суши ворона, другая называет голубя. В одной потоп продолжается год, в другой 40 дней и ночей. (Дж. Фрезер в своей книге «Фольклор в Ветхом Завете» уточняет, что в «Ягвистской» версии потоп продолжается 61 день, так как после прекращения ливней Ной проводит в ковчеге еще три недели, пока «земля не обсохла»; в версии же «Элогиста» рассказ о потопе, обработанный более поздним «Жрецом», утверждает, что наводнение и обсыхание суши длились 12 лунных месяцев и еще 10 дней, то есть в сумме 364 дня, что и составляет почти полный солнечный год; это многозначительное прибавление к лунному году 10 дней для получения солнечного свидетельствует, что во времена «Жреца» древние евреи уже научились исправлять ошибку лунного календаря, наблюдая за Солнцем.) Этот перечень можно было бы продолжать еще долго. Но главное уже очевидно. Оба рассказа не только различны, но и целостны в своем различии: каждый из них представляет собой не только обособленное, но и полное повествование, со своим наименованием и своей концепцией Бога, своими деталями, своим порядком событий и своей хронологией. В то же время, как уже сказано, оба они, вне всякого сомнения, принадлежат одному народу, древняя традиция которого сохранила общие воспоминания, общие легенды и сказания, общий тип религии и общий характер Закона. Таким образом, перед нами не столько два совершенно различных рассказа, сколько именно две версии единого национального эпоса. Напрашивается гипотеза, что они были созданы в двух частях одной и той же страны, населенной одним и тем же народом, сохранившим общую традицию, но разделенным обстоятельствами жизни и потому создавшим две версии одной и той же религии. И мы знаем, что в истории еврейского народа действительно был такой период, когда его земля была разделена на два царства, в каждом из которых создавалась и пестовалась своя, особая версия общенациональной религии, и если в одном из этих царств, Иудейском, строго сохранялся культ Ягве, централизованный в его столичном храме, то в другом, Израильском, этот культ был «разбавлен» заимствованиями из ханаанейского, язычески-антропоморфного культа Элогим. Поэтому наша гипотеза (разумеется, не наша собственная: она была впервые робко высказана уже первыми библиеведами, а впоследствии развита и обоснована современными исследователями), в сущности, сводится к предположению, что рассказ Ягвиста (или источник J) был создан в южном, или Иудейском, царстве, а рассказ Элогиста (или источник Т) — в северном, Израильском; объединение же этих версий в единый канонический текст Торы произошло, по всей видимости, в те времена, когда на территории древней Эрец-Исраэль оставалось уже только одно из этих царств (как известно, то была Иудея), то есть в период между завоеванием Израиля ассирийцами и захватом Иудеи вавилонянами. Сейчас мы увидим, что текст Торы подтверждает эту историческую гипотезу. Более того, текст этот дает возможность уточнить и время своего создания. В чем же состоят эти текстуальные подтверждения? Первым из них является различие некоторых географических особенностей. В рассказах «Ягвиста» праотец Авраам неизменно связывается с Хевроном. Хеврон был главным городом колена Йегуды, столицей Давида до завоевания Иерусалима, родиной первого главного священника Иудейского царства Цадока. Заключая завет с Авраамом, Бог (в данном случае Ягве) обещает его потомкам «землю от реки Египетской… до реки Евфрат» — а это именно те границы, до которых раздвинул свои владения Давид, основатель правящей династии Иудейского царства. Зато рассказ о том, как Некто (то ли сам Бог, то ли его ангел) боролся с праотцом Яаковом, благословил его и дал имя «Израиль», мы находим только у «Элогиста», как и должно быть, если этот источник родом из Израильского царства. В этом же источнике говорится, что «нарек Яаков имя месту тому: Пну-Эль, ибо, говорил он, я видел Элогим лицом к лицу» (Бытие 32:30); а Пну-Эль — это город, построенный Йероваамом в Израиле. Оба источника рассказывают о городе Шхеме (который Йороваам сделал столицей Израиля). При этом «Элогист» излагает историю его приобретения евреями следующим образом (Бытие 33:18–20): «Яаков, возвратившись из Месопотамии… пришел в город Шхем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, да котором раскинул шатер свой, у сынов Хамора, отца Шхемова, за сто монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Элогим». Напротив, «Ягвист» (рассказ которого начинается уже в следующем стихе) излагает ту же историю куда драматичнее и жестче (Бытие 34:1–31): «Шхем, сын Хамора, обесчестил дочь Яакова Дину и предложил жениться на ней, а сыны Яакова потребовали от него и всех шхемцев совершить обрезание и, воспользовавшись их недомоганием после операции, перебили их всех до единого и таким образом захватили этот город силой». Заметим, что инициаторами побоища были Шимон и Леви. Это тотчас отражается в еще одной — и принципиально важной для нас — особенности рассказа «Ягвиста». Речь идет о т. н. «пророческом благословении» Яакова своим сыновьям и внукам. Как известно, после завоевания Ханаана евреи расселились в нем двенадцатью коленами. Каждое из них выводило свою родословную от одного из потомков праотца Яакова. В рассказах Торы о рождении этих потомков, как правило, произносится благодарность Богу. В рассказе «Ягвиста» эта благодарность адресуется Ягве, в рассказе «Элогиста» — Элогим. Эпизоды Торы, в которых таким «адресатом» является Элогим, рассказывают о рождении Дана, Нафтали, Гада, Ашера, Иссахара, Звулона, Биньямина, Менаше и Эфраима (двое последних — сыновья Иосифа). Иными словами, вся группа «Элогим» называет имена лишь тех колен, которые составляли Израильское царство. Напротив, в рассказах, где воздается благодарность Ягве, говорится только о рождении Реувена, Шимона, Леви и Йегуды. Трое первых не получили собственных наделов (мы сейчас увидим, почему), причем колено Леви (левиты) рассеялось среди наделенных землею колен, и поэтому единственным сыном, получившим свою территорию, у «Ягвиста» оказывается Йегуда как и следует ожидать от источника, составленного в Иудейском царстве. Но «Ягвист» идет еще дальше: он пытается обосновать особую выделенность колена Йегуды. Такому обоснованию в тексте «Ягвиста» посвящен специальный эпизод (которого нет у «Элогиста»!) — уже упомянутое «пророческое благословение» Яакова. По древним обычаям, придававшим особое значение очередности рождения (вспомним борьбу за «первородство» между Ицхаком и Эсавом), наибольшую часть отцовского наследия (главное благословение) должен получить первый сын. Первенцем Яакова был Реувен. Но у «Ягвиста» Яаков на смертном одре говорит (Бытие 49:3–4): «Реувен, первенец мой!., ты… не будешь преимуществовать, ибо ты вошел на ложе отца твоего; ты осквернил постель мою» (иными словами, Реувен переспал с какой-то из отцовских наложниц). Казалось бы, теперь главное благословение должно перейти ко второму и третьему сыновьям: Шимону и Леви. Но «Ягвист» и этим сыновьям отказывает в таком преимуществе перед Йегудой; его Яаков продолжает (Бытие 49:5–7): «Шимон и Леви братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не внимет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа… проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа; разделю их… и рассею…» Иначе говоря, Шимон и Леви не получают наделов, потому что устроили побоище в Шхеме. В результате единственным (у «Ягвиста») достойным отцовского благословения остается Йегуда, и о нем Яаков у этого автора произносит знаменательные слова (Бытие 49:8): «Йегуда! тебя восхвалят братья твои… поклонятся тебе сыны отца твоего», что как раз и означает, в сущности, что все прочие потомки Яакова должны подчиниться главенству Йегуды, прародителя Давида и его династии, правившей в Иудейском царстве. Более того, «Ягвист» уже знает не только о воцарении этой династии, но и о ее будущем — далее Яаков говорит (Бытие 49:10): «Не отойдет скипетр от Йегуды и законодатель от чресл его…» (Этим «законодателем», скорее всего, является не сам Давид, а его преемник Соломон; как мы видели, именно он установил новое религиозное и административное законодательство). Итак, у «Ягвиста» первородство получает Йегуда — как и можно ожидать от автора, который выражает версию, сложившуюся в Иудее. Кто же получает первородство у «Элогиста»? В Торе рассказу «Ягвиста» о «пророческом благословении Яакова» (изложенному выше) предшествует рассказ о последних днях Яакова (Бытие 48:1–22), в котором Бог именуется только словом «Элогим». Рассказ этот, следовательно, принадлежит «Элогисту» — это его, «израильская», версия того же «благословения Яакова». Она решительно отличается от «иудейской» версии «Ягвиста». «Элогист» рассказывает, что к умирающему Яакову прибыл Иосиф со своими сыновьями Менаше и Биньямином, «и сказал Яаков Иосифу: Элогим явился мне в Лузе… и благословил меня и сказал: «…дам землю сию потомству твоему…» И ныне два сына твои, родившиеся в земле Египетской, мои они, Эфраим и Менаше, как Реувен и Шимон, будут мои… Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе…» Это поразительное благословение. По сути, «Элогист» утверждает, что Яаков приравнял Эфраима к Реувену, то есть к своему первенцу, и отдал ему удел Реувена. «Элогист» не просто сообщает об этом — опасаясь, что не все поймут его скрытый намек, он подчеркивает этот намек еще одной любопытной деталью, которую можно понять лишь в контексте самого намека: «И взял Иосиф Эфраима в правую руку свою против левой Израиля (т. е. Яакова. — Р.Н.), а Менаше в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Эфраима, хотя сей был меньший…» Иосиф, как бы говорит «Элогист», хотел, чтобы главное благословение деда получил, как и положено, первенец Менаше, но Яаков, в нарушение традиционного порядка, нарочно переменил руки и первым благословил Эфраима, тем самым именно ему отдав первородство Реувена; Иосиф пытался протестовать, но Яаков настоял на своем, сославшись на волю Элогим. По «Элогисту», таким образом, главным из еврейских колен является колено Эфраима. Теперь остается лишь напомнить, что колено Эфраима было родовым племенем ИЗРАИЛЬСКОГО царя Йороваама, и Шхем, столица ИЗРАИЛЬСКОГО царства, был расположен на холмах, находившихся в традиционном наделе этого же колена. Тот факт, что отец Эфраима, Иосиф, завещал похоронить себя в том же Шхеме, в уделе сына, думается, известен всем читателям. Упомянем поэтому только изящный — и полный смысла — каламбур, содержащийся в самом конце этого текста, где Яаков говорит через Иосифа его детям (Бытие 48:22): «Я даю тебе, преимущественно пред братьями твоими, один участок…» Этот каламбур совершенно исчезает в русском переводе Библии: в ивритском тексте («Берешит», мем-хет: кав-бет) здесь стоит: «…вэ-ани натати леха ШХЕМ ахад аль-ахиха…» «Шхем» здесь — и «преимущество» (от глагола «леашхим» — опережать), и название все той же израильской столицы. Все эти красноречивые разночтения убедительно свидетельствуют в пользу северного (израильского) происхождения «Элогиста» и южного (иудейского) происхождения «Ягвиста». К ним можно было бы добавить и другие примеры. У «Элогиста» самым главным и самым верным учеником Моисея является Йегошуа бин-Нун — из колена Эфраима; у «Ягвиста» единственным (из двенадцати посланных в Ханаан соглядатаев), который поощряет к походу, является Калев — из колена Йегуды, родоначальник будущих Калевитов, чьи земли в Иудее включали позднее город Хеврон. Каждый из двух этих авторов явно опирается на древние сказания, наиболее популярные в его земле, каждый стремится подчеркнуть заслуги и превосходство легендарных героев именно этой земли, каждый превозносит то племя (колено), которое дало начало правящей династии именно этого, а не другого царства. Иными словами, каждый из них отражает традицию одной из двух племенных групп, двух частей единой нации, на которые распался еврейский народ после возникновения Израильского и Иудейского царств. Одновременно каждый из авторов отражает политическую, социальную и религиозно-культовую реальность того царства, в котором он жил. Еще более пристальное чтение их рассказов дает нам возможность проникнуть в скрытые пласты той далекой реальности и понять, какие причины побудили обоих авторов к созданию этих текстов — со всеми теми знаменательными разночтениями, которые мы отметили выше. Такое чтение позволяет также обнаружить многозначительные и характерные черты самих рассказчиков и тем самым ощутить, в чем состояло их индивидуальное различие. Мы увидим все это, как только обратимся непосредственно к тексту. Гипотеза о том, что рассказ Пятикнижия, именующий Бога словом «Элогим», был составлен и записан в Израильском царстве, а рассказ «Ягвиста» — в Иудейском, выдвинута достаточно давно. Тогда же были предложены и те первые соображения в ее пользу, которые мы привели в предыдущей главе нашего сериала. В последние годы эти соображения были серьезно подкреплены уже упоминавшимся нами американским исследователем Ричардом Фридманом. Замечания Фридмана чрезвычайно любопытны и стоят отдельного рассказа. Они позволяют конкретизировать высказанную выше гипотезу. Свои рассуждения Фридман начинает с анализа загадочных особенностей «элогистского» рассказа о так называемом «золотом тельце». Рассказ этот выглядит у «Элогиста» следующим образом. Пока Моисей находился на горе Синай (получая от Бога начертанные им на скрижалях законы и заповеди), оставшийся внизу первосвященник Аарон собрал у людей золотые украшения и сделал из них «литого тельца». «И сказали люди: вот Элогим твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской». Аарон же провозгласил: «Завтра праздник Ягве». Назавтра действительно состоялся бурный праздник, в разгар которого в лагерь спустился Моисей. Его встретил верный Йегошуа Бин-Нун, который предупредил вождя, что в «стане слышен военный крик». Увидев, что евреи вернулись к идолопоклонству, Моисей в гневе разбил скрижали, уничтожил тельца и собрал вокруг себя колено Леви. Левиты организовали в лагере кровавую «чистку», в ходе которой было уничтожено около трех тысяч человек. Моисей же, со своей стороны, умолил благосклонного к нему Бога не губить «жестоковыйный» народ Израиля. Этот рассказ вызывает ряд вопросов. Почему народ впадает в ересь как раз в момент своего освобождения? Почему инициатором этой ереси оказывается Аарон — ведь он первосвященник Господа? Почему они называют золотого тельца «Элогим», а Аарон говорит о «празднике Ягве»? Почему на роль орудия наказания еретиков выбраны левиты? Почему Йегошуа Бин-Нун упоминается среди тех, кто не поддался ереси? Фридман предлагает убедительное объяснение всех этих загадок. Оно кажется тем более убедительным, что не требует никаких дополнительных гипотез, кроме той, что «Элогист» жил и писал в Израильском царстве. Действительно, вспомним особенности становления этого царства (о них тоже было рассказано в предыдущей главе). Основатель царства, Йороваам сразу же начал утверждать собственную версию культа Ягве. И первым же его шагом, сразу после освобождения от власти Иерусалима, было как раз создание двух храмов, в Дане и Бейт-Эле, в каждом из которых Бог (Элогим) незримо восседал на двух отлитых из золота «тельцах» (молодых быках). Таким образом, рассказ о «золотом тельце» в «элогистской» версии книги Исхода несет в себе все черты того, что в действительности происходило в Израильском царстве: сразу же после освобождения (от власти потомков Соломона) народ впал в религиозную ересь. Рассказ «Элогиста» о золотом тельце в действительности является замаскированным осуждением этой ереси. Автор этого рассказа искусно использовал одну из традиционных легенд своего народа, чтобы выразить свое отношение к религиозной реформе Йороваама. Понятно, что таким автором мог быть, скорее всего, человек, которого живо интересовало то, что происходило именно в Израильском царстве. Этот специфический интерес обнаруживается и во многих других местах «элогистского», текста. Мы уже рассказывали о том, как настойчиво «Элогист» подчеркивает роль колена Эфраима, к которому принадлежала правившая в Израильском царстве династия, как часто он упоминает Шхем, который был столицей этого царства (и находился на территории того же колена Эфраима), как много внимания уделяет Иосифу, отцу Эфраима, похороненному в том же Шхеме, как подробно описывает передачу Яаковом «первородства» от Реувена к Эфраиму, с какой ненавистью относится к введенным Соломоном налогам («мисим»), особенно сильно ударившим именно по коленам, составившим впоследствии Израильское царство. Теперь к этому перечню добавляется и благосклонное упоминание Йегошуа Бин-Нуна в рассказе «Элогиста» о золотом тельце — ведь Йегошуа тоже был родом из колена Эфраима и его могила тоже находилась в Шхеме! Все это вместе окончательно убеждает, что автором «элогистского» текста, скорее всего, действительно был житель Израильского царства. Нельзя ли его опознать? Фридман утверждает, что это отчасти возможно. Он выдвигает предположение, что этим автором был один из левитов города Шило — прежней (до Иерусалима) религиозной столицы еврейских колен. И вот как он это доказывает. При царе Давиде жрецы Шило чрезвычайно возвысились — из их круга вышел пророк Самуил, помазавший Давида в противовес Саулу; из их числа был и Авиатар, объявленный Давидом вторым иерусалимским первосвященником (наравне с Цадоком из Давидова Хеврона). При Соломоне, однако, жрецы Шило получили сильный удар: Авиатар был смещен со своего поста и изгнан из Иерусалима, и в результате левиты Шило потеряли свои места в иерусалимском Храме. Неудивительно, что они стали поддерживать сепаратистские стремления Йороваама — напомним, что инициатором восстания северных колен под руководством Йороваама был жрец из Шило, пророк Ахия. Сыграв такую роль в создании независимого Израильского царства, левиты Шило, несомненно, рассчитывали на благодарность Йороваама, но они ее не получили. Напротив, Йороваам перенес религиозный центр своего царства в Дан и Бейт-Эль, создал там новые храмы (с золотыми тельцами как подножьями незримого бога), а жрецами в этих храмах назначил не левитов Шило, а «лично знакомых ему» людей. Как было не намекнуть царю и народу на несправедливость такой политики? Как было не напомнить о заслугах левитов Шило? Как было не осудить религиозные реформы Йороваама, пусть и в замаскированной форме рассказа о золотом тельце? Более того, намекая современникам, о чем в действительности этот рассказ, автор ввел в него (для облегчения расшифровки) прямую цитату из речи Йороваама. Загадочная фраза поклонников золотого тельца «Это Элогим твой, Израиль» дословно повторяет слова Йороваама в Первой книге Царств, произнесенные им в момент освящения золотых тельцов Дана и Бейт-Эля. Но «Элогист» преследует своим рассказом и другие, уже чисто клановые цели. В этом рассказе снова и снова прославляется Моисей, спасший народ от гнева Господня, — а ведь левиты Шило вели свою родословную именно от Моисея. Есть в нем и другие примечательные детали. Как мы помним, инициатором ереси у «Элогиста» оказывается Аарон. На первый взгляд, странно, что главным еретиком объявляется первосвященник. Но если вспомнить, что левиты Шило наверняка ненавидели иерусалимского первосвященника Цадока, в пользу которого Соломон изгнал «их» Авиатара, а Цадок (как и другие левиты Хеврона) вел свою родословную от Аарона, то все становится на свои места: приписав Аарону зарождение ереси, «Элогист» заодно свел давние счеты со своими конкурентами из иудейского Иерусалима. Напротив, в той версии тех же синайских событий, которую излагает «Ягвист», нет ни слова о неприглядных поступках Аарона. Более того, у него вообще нет истории с золотым тельцом. Зато у него мы находим неприкрытый выпад против жрецов из Израильского царства — его вариант одной из главных заповедей гласит: «Не делайте себе богов литых» (Исход 34:17) — а ведь именно литые «боги» (точнее — подножья Бога) стояли в храмах Дана и Бейт-Эля. (У «Элогиста» та же заповедь звучит иначе: «Не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых» (Исход 20:23), что обращено не только против Йороваама, но и против Соломона, в Храме которого служившие аналогичными подножьями Бога херувимы были хотя и не «литыми», но позолоченными.) Эта религиозная распря вообще является одной из главных линий различия между двумя источниками. «Ягвист», например, превозносит важность Ковчега Завета, который был центральным и самым священным объектом Иерусалимского Храма, но даже не упоминает о Скинии Завета, сооруженной Моисеем; «Элогист», напротив, совершенно не упоминает о Ковчеге, зато подробно описывает устройство Скинии, перенесенной из Синая в Шило. «Ягвист» всячески превозносит Аарона; «Элогист» продолжает свои нападки на него, рассказывая в 12-й главе Книги Чисел историю о том, как Аарон и его сестра Мириам упрекали Моисея за то, что он взял себе в жены «Эфиоплянку», и как Господь разгневался за это на них и даже наказывает Мириам временной проказой (у «Ягвиста», понятно, нет и следов этого эпизода). «Ягвист» сообщает, что Бог сказал Моисею: «Я… иду вывести [народ мой] из земли сей [из Египта]» (Исход 3:8), тогда как у «Элогиста» Господь освобождает народ не сам, а поручает это Моисею: «Итак, пойди… и выведи из Египта народ мой» (Исход 3:10). Это разное отношение обоих авторов к Моисею и Аарону проявляется и еще в одном важном эпизоде — встрече Моисея с Богом у «несгораемого тернового куста», когда Бог открыл Моисею свое Имя. До сих пор мы для простоты говорили, что двух наших авторов отличают прежде всего различные наименования Бога, поэтому они так и называются: «Ягвист» и «Элогист». На самом деле это не вполне точно. В рассказе «Ягвиста» имя Ягве действительно проходит через весь текст от начала до конца. Но у «Элогиста» Бог называется «Элогим» только до Его встречи с Моисеем. А во время этой встречи, говорит «Элогист» (Исход 3:13–14): ««…сказал Моисей Элогим: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Элогим отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «Как Ему имя?» Что сказать мне им? И сказал Элогим: Я есмь Сущий /Ягве/» — или, на иврите, «эхье ашер эхье» («Я есть [пребуду], кто Я есть [пребуду]»). И далее: «Так скажи сынам Израилевым: Ягве [ «эхье»] Элогим послал меня к вам». С этого момента и далее Бог в рассказе «Элогиста» именуется Ягве-Элогим (или даже просто Ягве, как, например, в рассказе о золотом тельце, когда Аарон сразу же после «людей», только что называвших тельца словом «Элогим», говорит, указывая на того же тельца: «Завтра праздник Ягве». Этой постепенной смены имен еврейского Бога — Элогим, затем Ягве-Элогим и, наконец, просто Ягве — нет у «Ягвиста». У него вообще нет истории открытия Богом своего Имени Моисею. Как мы уже сказали, «Ягвист» не очень жалует Моисея. Если бы в нашем распоряжении была только его версия, роль Моисея в еврейской истории, возможно, вообще выглядела бы совершенно иначе. Для «Элогиста», напротив, Моисей — центральный персонаж этой истории. Бог к нему благосклонен больше, чем к кому-либо другому, включая Аарона, Бог посылает его вывести евреев из Египта, Бог именно ему открывает свое Имя. «Элогисту» важно подчеркнуть, что только со времен Моисея евреи узнали настоящее имя Господа. Но он допускает, что до этого времени Бога называли Элогим. Иными словами, он снова отдает дань традиции Израильского царства, где многие евреи под влиянием местных ханаанейцев поклонялись одновременно Ягве и Баалу (даже царь Йороваам, как мы видели, поставил у подножия Ягве «литых тельцов», то есть молодых быков, которые в ханаанской мифологии были символами Баала). «Ягвист», как мы видели, не знает всех этих уступок — для него Ягве есть Ягве, и свое Имя он впервые открыл евреям не через Моисея, а еще через праотца Авраама. Знаменательно, однако, что оба автора, в конечном счете, одинаково преданны одному и тому же Богу — еврейскому Ягве. Это говорит об их глубоком религиозном сходстве. Оба одинаково нетерпимы к ереси идолопоклонства и отступления от монотеизма, В сущности, их религиозные различия состоят лишь в том, что один старается возвысить Моисея и исподтишка бросить тень на Аарона, тогда как другой довольно мало и сухо говорит о Моисее, но Аарона в обиду дать не хочет; один осуждает иерусалимских золоченых херувимов, а другой — израильских «литых богов». Каждый использует для этого общую древнюю традицию, выбирая из нее удобные для его целей детали и опуская неудобные; но важнейшие, основополагающие элементы этой традиции (сотворение мира, потоп, история праотцев, исход из Египта) сохраняют оба. Особенно тщательно оба сохраняют — и особенно детально излагают — все, что относится к закону и заповедям. Это позволяет думать, что оба они — из сословия жрецов. И если верно предположение, что «Элогистом» был человек из Израильского царства, жрец из города Шило, считавший себя потомком Моисея, то следует, видимо, по аналогии предположить, что «Ягвистом» был (судя по всему, что мы теперь о нем знаем) человек из Иудейского царства, священник из рода хевронских жрецов, которые вели свою родословную от Аарона. Два левита — случайно ли это? Некоторые исследователи предлагают этому факту любопытное объяснение. Они выдвигают предположение, что основная масса еврейских колен так и осталась в Ханаане со времен праотцев, а в Египет ушло и там попало в рабство только колено Леви. Они основывают это предположение на том, что именно среди этого колена часто встречаются египетские имена типа Моше, Хофни и т. п. Возможно, они-то и создали культ Ягве и стали его истовыми поклонниками. Когда эти левиты вышли из Египта и, ведомые Моисеем и Аароном, устремились в Ханаан, то здесь они встретились со своими сородичами — поклонниками Элогим, уже поделившими между собой всю землю. В компенсацию за отсутствие территории они были сделаны жреческим сословием и в этом качестве стали утверждать среди остальных еврейских колен свой культ Ягве и его бескомпромиссно-суровый монотеизм. Это предположение подкрепляет выдвинутую выше гипотезу о том, что авторами первых записанных текстов Пятикнижия были, скорее всего, два Священника-левита, один («Ягвист») — из южного Иудейского царства, другой («Элогист») — из северного Израильского. В свою очередь, такая гипотеза объясняет, как мы видели, причину и характер сходств и различий обоих текстов. Но ни это предположение, ни упомянутая гипотеза еще не дают нам ответа на вопрос о том, когда жили эти люди. Кто из них был первым по времени автором, а кто вторым? Кто и когда объединил их тексты? Зачем это было сделано? И почему именно так, как мы сейчас видим, а не иначе? Чтобы ответить и на эти вопросы, нужно проделать еще один виток историко-детективного расследования. Поскольку Израильское царство было разрушено уже в 722 г. до н. э., «Элогист» жил, по-видимому, раньше этой даты. Его очевидный гнев против Йороваама как будто свидетельствует о том, что он писал во времена этого царя или вскоре после него, когда воспоминания о религиозных реформах Йороваама и разочарование в нем были еще свежи среди левитов Шило. Текст «Ягвиста» тоже не мог быть написан позже 722 г. до н. э. — в нем рассказывается о рассеянии колен Шимона и Леви, но ни словом не упоминается о таком важнейшем для евреев Иудейского царства событии, как падение соседнего Израильского царства и уведение в плен десяти северных колен. С другой стороны, в нем имеются нападки на религиозные реформы Йороваама («литые боги»); стало быть, автор уже знал об этих реформах, то есть жил после образования независимого Израильского царства, иными словами — позже 922 г. до н. э. Этот промежуток можно сузить, если обратить внимание на тот факт, что в рассказе «Ягвиста» излагается история Яакова и Эсава, причем последний назван родоначальником эдомитов. Эдом отделился от Иудеи и стал независимым Эдемским царством только при потомке Соломона, иудейском царе Иероаме, который правил между 848 и 842 гг. до н. э., и, стало быть, создание текста «Ягвиста» можно отнести к промежутку 848–722 гг. до н. э. Текст «Элогиста» датировать точнее невозможно — для этого в нем пока не найдено никаких дополнительных примет. Время его написания остается в промежутке между 922 г. до н. э. (когда распалось царство Соломона) и 722-м, когда пало Израильское царство. Существенно, что оба рассказа, при всех своих различиях, основаны на одних и тех же традициях (культ Ягве), упоминают, в общем-то, одни и те же события израильского прошлого (сотворение мира, потоп, приход евреев в Ханаан, исход из Египта) и повествуют об одних и тех же героях (праотцы, Иосиф, Моисей, Аарон). Это неудивительно. Оба они были созданы представителями одного и того же еврейского народа, говорившего на общем языке (иврите), поклонявшегося одному Богу (Ягве) и имевшего общие религиозные традиции и исторические воспоминания. Разной была лишь та окраска, которую придал всему этому каждый из авторов, его трактовка, расставленные им акценты. Кто из них был первым? Быть может, после распада единого царства в каждом из них, независимо друг от друга, возникла потребность создать свою национальную версию священной еврейской истории, связав ее с задачами возвеличения своего царства и принижения другого (а в случае «Элогиста» — еще и критикой своего царя). Но могло быть и так, что кто-то из них написал свой текст раньше, и этот текст, попав в руки другого (царства-то были соседями), побудил его ответить собственной версией. Можно было бы задаться и еще более трудным вопросом: а нельзя ли определить пол каждого автора? Исследователи задумывались и над этим. Относительно «Элогиста» они почти сразу пришли к выводу, что это наверняка был мужчина, потому что он, скорее всего, был жрецом из Шило, а жрецы в древнем Израиле были исключительно мужчинами. К тому же и вся тональность, вся авторская позиция этого текста выдает «мужской» взгляд. С «Ягвистом» дело обстоит сложнее. Не так давно известный американский историк Гарольд Блюм опубликовал работу под названием «Книга J», где утверждает, что создателем этой «Книги», то есть «Ягвистского» текста, была женщина — по его мнению, одна из дочерей царя Соломона (ибо только при царском дворе могли быть женщины с достаточным образованием и правами). Блюм подкрепляет свою гипотезу детальным стилистическим анализом текста, обнаруживая в нем «свойственную женщинам более тонкую иронию» и другие «женские» признаки. Более того, он предполагает, что этот «женский» текст был создан в ходе придворного «литературного соревнования» с аристократами-мужчинами, один из которых изложил те же события в своей, «мужской» версии — что и привело, по Блюму, к появлению текста «Элогиста». Доказательства Блюма не показались мне убедительными; его гипотеза о «шутливом соревновании» двух авторов представляется довольно несерьезной, ибо проходит «поверх» всех перечисленных выше (и куда более убедительных) примет принадлежности «Элогиста» к Израильскому царству, игнорируя те серьезные задачи и религиозные цели, которые его воодушевляли. Ричард Фридман, не присоединяясь к этой гипотезе, тоже не исключает, однако, что автором «Ягвистского» текста могла быть женщина: по его мнению, те симпатии к женской доле, которые «Ягвист» выражает в своем рассказе о Фамари, были бы свойственны скорее женщине, чем суровому древнееврейскому мужчине. Добавим, что некоторые исследователи Полагают, что у этих двух рассказов могло быть больше двух авторов. Они выделяют в этих текстах ряд отрывков, которые, по их мнению, принадлежат разным лицам, и говорят на этом основании о целой «школе Ягвиста» и «школе Элогиста». Но и эти гипотезы выглядят недостаточно убедительными, поэтому мы не будем на них останавливаться. Куда важнее напомнить в заключение, что оба эти текста являются, как мы знаем, частью целого — кто-то третий (или третьи) свел их воедино в текст Пятикнижия. Что руководило этими редакторами? Кем они были? Когда жили? Об этом можно только гадать — они оставили слишком мало следов. Прежде всего — почему они не ограничились каким-нибудь одним текстом, а предпочли свести воедино оба, невзирая на их противоречия, повторы и разночтения? Самое простое и разумное предположение на сей счет состоит в том, что оба текста, видимо, были достаточно известны среди современников редакторов и оба одинаково почитались священными. Нельзя было отбросить один (или какие-то его существенные части) и оставить второй, не оскорбив национальные и религиозные чувства какой-то части читателей, — даже если каждый из текстов противоречил другому в деталях и интенциях авторов. Оставить их существовать раздельно тоже было затруднительно — тогда какой из них читатели должны были считать «истинным»? Эти предположения интересны еще и тем, что приводят нас к вопросу о том, кто, собственно, были эти «читатели», которым предназначался объединенный таким способом текст. Поскольку «Элогист» в свое время явно адресовался жителям Израильского царства, а «Ягвист» — жителям Иудейского, то предположение, будто среди «читателей» единого текста были почитатели как той, так и другой версии, в сущности, означает, что объединение («редактирование») текстов происходило в среде, где наличествовали как «израильтяне», так и «иудеи». Было ли в еврейской истории время, когда существовала такая ситуация? Да, было. Археологические раскопки в Иерусалиме показали, среди прочего, что после падения Израильского царства население столицы Иудеи резко увеличилось. Это можно объяснить тем, что сюда хлынули беженцы из Израиля, спасавшиеся от нашествия ассирийцев. Они могли принести с собой и свою священную книгу — текст «Элогиста». Тогда-то и могла возникнуть обстановка, когда в одной и той же еврейской среде, теперь уже — среди жителей одного и того же царства, получили хождение два разных «священных» источника. А это могло побудить редакторов взяться за работу по их объединению — ведь, кроме всего, это способствовало бы объединению беженцев из Израиля с аборигенами Иудеи в единый, сплоченный общей Книгой народ. Эти соображения позволяют, таким образом, указать и примерное время жизни и работы редакторов: то был период после падения Израиля и до падения Иудеи, иными словами — промежуток между 722 и 587 гг. до н. э. Вот, в сущности, все, что современная библейская критика может предположить о времени создания и авторах двух первых текстов Пятикнижия — «Элогистского» и «Ягвистского». Но не меньше загадок содержат и два других его текста: «Жреческий» и «Второзаконие» (на иврите «Дварим»). Какие это загадки? Какие ответы на них предлагают новейшие исследования? В Пятикнижии история евреев доведена до прихода еврейских колен в Заиорданье и смерти Моисея. Эти события описаны в последней книге Торы — «Дварим» на иврите, «Deuteronomy» по-английски, «Второзаконие» по-старославянски. У этой книги есть свои особенности. В отличие от четырех предшествующих, в ней прямо указан ее автор — она начинается фразой: «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за Иорданом». Это обращение или завещание Моисея четко распадается на две части: «историческую» и «законодательную». В первой кратко повторяется история Исхода; во второй — вторично излагается Закон, то есть заповеди Господни. (Это вторичное изложение Закона и дало основание назвать Моисееву книгу «Второзаконием».) Это, однако, не вполне дословное повторение. Автор опускает некоторые заповеди, упомянутые в первых четырех книгах, зато вводит новые, ранее не упоминавшиеся. Одно из важнейших новшеств такого рода, усиленно подчеркиваемое в тексте, провозглашает запрет совершать жертвоприношения в произвольных местах. Эта новая заповедь появляется уже в начале «законодательной» части книги, в первых стихах 12-й главы: «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом… Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши и жертвы ваши». Видимо, этот запрет крайне важен для автора, потому что буквально через несколько фраз он снова напоминает (Вт. 12:13–14): «Берегитесь приносить всесожжения… на всяком месте… но на том только месте, которое изберет Господь». Самой распространенной целью жертвоприношений у древних евреев было освящение трапезы, прежде всего — мясной. Смысл обряда состоял, видимо, в напоминании, что такой трапезе неизбежно предшествует убийство какого-либо животного. Убийство не должно было восприниматься как заурядное действие, и потому оно было превращено в некий сакральный акт, производимый по определенному ритуалу, специальным лицом (священником-левитом, которому отдавалась часть жертвы) и в специальном месте. Судя по словам «Второзакония», в древнем Ханаане такие места («жертвенники») существовали около каждой деревни, и церемонией там руководили местные священники. Новая заповедь, провозглашенная во «Второзаконии», предписывает евреям уничтожить все эти местные жертвенники «на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом» и приносить жертвы в одном-единственном месте. Иными словами, речь идет о централизации культа. Последовали ли евреи этому предписанию? Не сразу. В эпоху Судей и во времена Объединенного царства (при Давиде и Соломоне) жертвоприношения «на высотах» (то есть на местах) все еще были обычными. Сохранялись они и во времена существования раздельных Израильского и Иудейского царств. Но падение Израиля в 722 г. до н. э., видимо, было истолковано в Иудее как «наказание за грехи» — за невыполнение заповедей, — и тогдашний иудейский царь Хизкиягу предпринял первую серьезную попытку искоренить обычай жертвоприношений «на высотах» и сконцентрировать все богослужение в иерусалимском Храме. Однако реформа Хизкиягу была недолговечной: его сын и внук восстановили в Иудее многие элементы идолопоклонства, включая жертвоприношения на местах. Намного более серьезной была религиозная реформа следующего иудейского царя — Йошиягу (640–609 гг. до н. э.). Историки расценивают ее. как подлинное национально-духовное возрождение. По приказу царя были разрушены идолы и очищен Храм. Жертвоприношения «на высотах» были категорически запрещены. Культ Ягве был заново централизован в Иерусалиме. Всем подданным было вменено в обязанность приносить свои жертвы только на храмовом алтаре. Все провинциальные лейиты были переведены в Иерусалим на должности прислужников при левитах Храма. Поскольку Иудея при Йошиягу в значительной мере освободилась от ассирийского господства и даже захватила часть прежних израильских земель, то реформы были проведены и там: как рассказывает 2-я книга Царей, Йошиягу лично прибыл в Бейт-Эль, чтобы сокрушить тамошние жертвенники, «истер их в мелкий прах и бросил в поток». Во всем. ТАНАХе только еще один человек поступил с идолами столь же сурово — то был Моисей, который не просто уничтожил золотого тельца, но «истер его в мелкий прах и швырнул в поток». Параллелизм поступков великого Моисея и царя-реформатора не ограничивается этим. Куда более глубоким и важным было то, что оба они принесли народу «Книгу Завета». Моисей принес ее с горы Синай; Йошиягу нашел в Храме. Та же 2-я книга Царей повествует, что на 18-м году царствования (т. е. в 622 г. до н. э.) царь приказал провести очистку Храма, и во время этой очистки первосвященник Хилкиягу обнаружил некую книгу, которую передал царскому писцу Шафану. «И читал Шафан ее перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои… и собрали к нему весь народ… и прочел им все слова книги завета, найденной в доме Господнем… и заключил перед лицом Господним завет — последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы… И весь народ вступил в завет». Трижды повторенное слово «завет» не оставляет сомнений, что речь идет о повторении той великой церемонии, которая некогда произошла у горы Синай, где еврейский народ впервые целиком вступил в Завет с Господом. Вновь найденная «книга закона» возродила этот Завет. Ее обнаружение и последующая церемония общенародной клятвы в верности Господу стали сильнейшим стимулом ко всей религиозной реформе Йошиягу. Что же представляла собой эта загадочная книга? Историки давно уже выдвинули предположение, что этой книгой было «Второзаконие». Действительно, как мы помним, «Второзаконие» представляет собой «слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам». Но в ней самой указывается, что, вписав свои слова в эту книгу, Моисей приказал левитам: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную у ковчега завета…» После завоевания Иерусалима и создания Храма ковчег был перенесен туда и помещен в Святая Святых. И именно в Храме первосвященник Хилкиягу обнаружил свою «книгу закона». Моисей во «Второзаконии» адресует свою книгу тем поколениям израильтян, которые «развратятся» и «уклонятся» от завещанного им пути, за что их «постигнут бедствия», — и книга Хилкиягу найдена именно в те времена, как бы специально для того, чтобы вернуть евреев на правильный путь. Эти совпадения слишком знаменательны, чтобы счесть их случайными. Практически все сегодня согласны, что «Книгой Завета» царя Йошиягу является «Второзаконие». Это, однако, не предрешает вопроса о ее авторстве. Вокруг этого вопроса идут давние споры. Я уже говорил, что сомнения в Моисеевом авторстве Пятикнижия высказывались еще в средние века. Эти сомнения распространялись и на «Второзаконие». В 1805 году немецкий ученый де Ветте предположил, что эта книга была написана не Моисеем, а кем-то из приближенных царя Йошиягу с нарочитой целью побудить к проведению религиозной реформы и дать ей впечатляющее сакральное обоснование. Действительно, трудно представить более впечатляющее для народного воображения событие, чем находка древнего свитка Закона, написанного самим Моисеем и в первых же словах призывающего к прекращению жертвоприношений «на высотах» и к централизации всех культовых церемоний в Храме. «И более выгодное для царя и левитов Храма», — добавлял де Ветте. По мнению немецкого историка, «Второзаконие» было «благочестивой подделкой», обманом, совершенным в благих целях, творением самого Хилкиягу или писца Шафана, а то и целой группы придворных, окружавших и направлявших молодого (26-летнего в ту пору) царя. Теория де Ветте подверглась основательной критике. Окончательный удар по ней нанес в 1943 году другой немецкий ученый Мартин Нот. Он обратил внимание на поразительно тесную связь между «Второзаконием» и шестью последующими, чисто историческими хрониками ТАНАХа — книгами Йегошуа бин-Нуна, Судей, 1-й и 2-й Самуила, 1-й и 2-й Царей. «Второзаконие» завершается смертью Моисея в Заиорданье, «напротив Иерихона», а книга Йегошуа бин-Нуна начинается с перехода евреями Иордана и завоевания Иерихона. «Второзаконие» пронизано предсказаниями тех событий, которые осуществляются в исторических хрониках, описывающих последующие столетия. Его законодательные предписания излагаются как назидания на будущее («Когда вы овладеете этой землей…» — делайте то-то и то-то; «Когда вы отвернетесь от Господа..» — вас постигнет-то-то и то-то; «Когда Господь, Бог ваш, рассеет вас среди других народов…» — это будет наказанием за то-то и то-то). Иными словами, «Второзаконие» в целом имеет характер своеобразного исторического пророчества, некоего сквозного мотива всей дальнейшей еврейской истории, описанной в шести книгах танаховских «хроник». Но его связь с этими хрониками оказывается намного глубже. «Второзаконие» объединяет с ними не только преемственность и непрерывность рассказа, но также единство стиля и многих лингвистических особенностей. Все эти семь книг связаны цельной и целенаправленной композиционной структурой: «Второзаконие» занимает в ней место исторического и идейного предисловия, хроники — место «собственно содержания», призванного проиллюстрировать провозглашенную в предисловии центральную идею: все происходящее с еврейским народом обусловлено (и объясняется) исполнением или неисполнением Божественных заповедей. Неслучайно все древнееврейские цари, от Саула и до Йошиягу, оцениваются в «хрониках» исключительно с этой точки зрения. (При этом обо всех них сказано, что они «творили зло перед лицом Господа»; не обойден даже Соломон (его царство распалось «за грехи его»); и исключение сделано только для троих — Давида, Хизкиягу и Йошиягу: первый удостоился особого, «индивидуального завета с Господом, по которому его династия «пребудет вечно»», независимо от прегрешений давидовых потомков; о втором уважительно сказано, что он «ходил путями Господними»; а третий, как мы видели, вообще приравнен к Моисею, ибо только о нем, как и о Моисее, сказано: «Подобного ему не было прежде его… и после него не восстал подобный ему».) Все эти факты побудили Нота высказать гипотезу, что указанные семь книг ТАНАХа образуют единый цикл, принадлежащий одному и тому же автору. Этот свод из семи книг («Второзаконие» плюс шесть «хроник») Нот предложил называть «Дейтерономистской историей», а ее неведомого автора — «Дейтерономистом» (или, сокращенно, D). Разумеется, Нот не мог отрицать, что в этом своде имеются многочисленные вкрапления других авторов. Детальность рассказа о приключениях Давида до его вступления на трон выдает в его авторе человека, близкого к Давиду; многие разделы книг пророка Самуила, по мнению специалистов, принадлежат особому автору. Тем не менее, «Дейтерономистская история» в целом демонстрирует почти очевидные признаки того, что она является произведением одного гения. Этот неведомый автор обработал все доступные ему прежние источники и рассказы таким образом, чтобы они служили раскрытию его центральной идеи, пронизывающей, одушевляющей, организующей и осмысляющей эту грандиозную эпопею национальной истории. Желая утвердить эту идею в сознании единоплеменников, он умышленно приписал ее авторство и авторитет великому Моисею, любимцу Господа. Именно поэтому он предпослал всему своему циклу «предисловие» в виде книги «Второзакония». Эта книга была для него главной, важнейшей книгой цикла, где он изложил свое представление о сквозном законе еврейской истории. Возможно, пишет Нот в заключение, это вообще была его единственная собственная книга — во всем остальном цикле он выступал, скорее, как гениальный составитель и редактор, отбирающий и соединяющий чужие источники так, чтобы наиболее ярко и убедительно проиллюстрировать неумолимое действие этого закона в реальной истории еврейского народа. Эта гипотеза Мартина Нота, утверждающая, что «Второзаконие» вместе с шестью последующими книгами исторических хроник ТАНАХа образует единую «Дейтерономистскую историю», принадлежащую одному автору, получила подтверждение и развитие в работах двух других современных исследователей — американцев Франка Гросса и Баруха Гальперина. Эти работы позволили не только установить время создания грандиозного «Дейтерономистского цикла», но и высказать предположение о личности его автора. Кто же был этим загадочным «автором»? Когда он жил? И могло ли быть, что имя столь гениального писателя, создателя грандиозной общенациональной эпопеи, не сохранилось в еврейской истории? Несколько выше мы говорили о том, что автор этот подчиняет весь свой цикл доказательству некой общей религиозной идеи: судьбы еврейского народа зависят от исполнения или неисполнения им «Господних заповедей». Этот критерий он прилагает и к оценке деятельности различных царей, о которых рассказывает в своих «хрониках». Почти все эти правители получают у автора однообразно-негативную оценку: «И делал он неугодное в очах Господа». Только для двух (не считая Давида) сделано исключение. Это Хизкиягу, правивший в Иудее во времена падения Израильского царства (727–696 гг. до н. э.), и его правнук Йошиягу, время правления которого (640–609 гг. до н, э.) непосредственно предшествовало падению самой Иудеи под натиском вавилонян. Об этих правителях одобрительно говорится: «И делал он угодное в очах Господних». Объяснить эту исключительность политическими успехами обоих царей невозможно: хотя каждый из них пытался проводить независимую политику и предпринимал попытки расширения Иудеи за счет бывшего Израиля, обе эти попытки закончились плачевно: Иерусалим при Хизкиягу был осажден ассирийцами Санхериба, отступившими только после получения огромной дани и признания зависимости Иудеи от Ассирии, а выступление Йошиягу против ассирийцев (уже во времена их борьбы с вавилонянами) завершилось гибелью самого царя в сражении при Мегиддо; через 4 года после этого победоносные вавилоняне вторглись в Иудею, а еще через 20 лет полностью завоевали ее и ликвидировали давидову династию, которой Ягве, по утверждению автора «Дейтерономистской истории», обещал вечное правление. Последний царь этой династии Цидкиягу был ослеплен и вместе с основной частью народа отправлен в вавилонский плен, его дети были убиты, а Иерусалимский Храм разрушен. Даже самый патриотически настроенный автор вряд ли назвал бы «угодными Господу» эти несчастливые политические затеи, навлекшие на страну разрушения и беды. Несомненно, особое отношение «Дейтерономиста» к Хизкиягу и Йошиягу продиктовано иными причинами. И, действительно, в его рассказе о них основное внимание уделяется не столько политическим акциям обоих царей, сколько инициированным ими религиозным реформам. Этот рассказ рисует Хизкиягу и Йошиягу решительными и последовательными борцами против местных культовых традиций и за централизацию культа Ягве, то есть исполнителями той заповеди, которую особенно настойчиво подчеркивает «Второзаконие» («Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом… не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите… жертвы ваши»). Это делает понятным, почему «Дейтерономист» восхваляет именно тех двух царей, которые предприняли религиозную реформу, направленную на такую централизацию. Гросс обратил внимание на тот факт, что из этих двух любимцев автора Йошиягу выделен особо. В историческом цикле «Дейтерономиста» ему отведено поистине выдающееся место. Его религиозным реформам посвящены две полные главы этого цикла (22-я и 23-я во 2-й книге Царств). Ой постоянно сравнивается с самим Моисеем. Только о них двух в ТАНАХе сказано — и притом подчеркнуто одинаковыми словами — что они «возлюбили Господа всем сердцем своим и всей душою своею, и всеми силами своими». Только о них двух сказано — и опять подчеркнуто одинаковыми словами, — что «подобного ему не было прежде его… и после него не восстал подобный ему». Но Гросс подметил и еще одно, вовсе уникальное свидетельство особого внимания «Дейтерономиста» к личности Йошиягу. Речь идет о пророчестве, произнесенном за 300 лет до воцарения этого правителя Иудеи, еще во времена первого израильского царя Йороваама. Едва отделившись от Иудеи, этот царь воздвиг — в противовес Иерусалимскому Храму — в Бейт-Эле и Дане собственные святилища Ягве. 1-я книга Царств, рассказывая об этом, событии, внезапно прерывает свое повествование, дабы сообщить, что в этот момент «человек Божий пришел из Иудеи в Бейт-Эль… и произнес слово Господне, и сказал: жертвенник! жертвенник!.. вот, родится сын дому Давидову, имя ему Йошиягу, и принесет на тебе в жертву священников высот… и человеческие кости сожжет на тебе». Это прямое называние ИМЕНИ будущего царя и само по себе уникально: ему нет аналогов во всем ТАНАХе. Но еще более поразительно, что спустя несколько десятков страниц и, как уже сказано, триста лет во второй Книге Царств, рассказывая о временах Йошиягу, автор специально упоминает об исполнении древнего пророчества: «Также и жертвенник в Бейт-Эле, высоту, устроенную Йороваамом… он разрушил… и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике… по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, ПРЕДРЕКШИЙ СОБЫТИЯ СИИ». С помощью этой явно продуманной связки «Дейтерономист» представляет еврейскую историю от времен Йороваама до эпохи Йошиягу. как предвестие религиозных реформ этого последнего. Все эти детали побудили Гросса еще в 1973 году предположить, что автор «Дейтерономистской истории» жил и творил именно во времена Йошиягу и был страстно заинтересован в успехе его религиозной реформы, считая ее (в общем духе своего понимания законов еврейской истории) судьбоносной для еврейского народа. Однако другой американский исследователь, Эрнест Райт, подверг эту гипотезу резкой критике. Он указал на тот факт, что в «Дейтерономистской истории» изложение доведено до гибели давидовой династии, а это не согласуется с проходящим сквозь все книги этого цикла утверждением, будто Господь обещал «дому Давида» вечное правление. Критика Райта побудила Гросса уточнить свою гипотезу. В последующих работах он предположил, что у «Дейтерономистской истории» было два автора. Первый действительно жил во времена Йошиягу, когда еще не были ясны ни судьба затеянной царем религиозной реформы, ни судьба самой давидовой династии, второй же, по мнению Гросса, дописывал печальный конец этого цикла уже в Вавилонском плену, не очень заботясь (в силу трагических обстоятельств) о том, чтобы согласовать и «причесать» весь текст лод одну гребенку. В такой видоизмененной форме гипотеза Гросса была принята большинством современных исследователей ТАНАХа, и сегодня мы можем говорить, что новейшая библеистика признает неведомого первого «Дейтерономиста» современником царя Йошиягу. Тем самым она принимает за данность, что «Второзаконие» и примыкающий к нему цикл исторических «хроник» были собраны, обработаны и частично заново написаны одним человеком, жившим в самом конце VII в. до н. э., за каких-нибудь два десятилетия до разрушения Первого Храма и гибели давидовой династии. Быть может, он даже успел дожить до этих страшных событий, похоронивших все его мечты и надежды на религиозное обновление еврейского народа. А мечты и надежды эти были, бесспорно, пламенно сильными — недаром же он сравнивал своего героя, царя Йошиягу, с величайшим еврейским религиозным реформатором всех времен — самим Моисеем… Эта пламенная религиозная пылкость сближает «Дейтерономиста» с самыми выдающимися еврейскими пророками. Не среди них следует ли его искать? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к результатам другого исследователя «Дейтерономистского цикла» — уже упомянутого выше Баруха Гальперина. Эти результаты позволяют еще более сузить тот круг людей, из которого вышел первый «Дейтерономист». Работа Гальперина была опубликована в 1974 году, когда этот молодой ученый только оканчивал Гарвардский университет. В своей работе, посвященной «Второзаконию», Гальперин собрал ряд неоспоримых фактов, свидетельствующих о том, что главная, «законодательная» часть книги (главы 12–26) восходит к источникам, которые, по всей видимости, сложились намного раньше эпохи Йошиягу, возможно, даже за столетия до этой эпохи. Многие ее предписания отражают обычаи намного более древних времен, в некоторых случаях — даже более ранних, чем времена Объединенного царства. Например, перечисленные там законы призыва народа на войну соответствуют системе всеобщей мобилизации колен, характерной для эпохи Судей: с появлением у евреев царей ополчения отдельных колен были заменены профессиональной царской армией. Но с этими древними предписаниями соседствуют другие, явно выдающие свое более позднее происхождение, — например, настойчиво подчеркиваемый и страстный призыв к борьбе с местными культами (жертвенниками на «высотах»). Иными словами, «Второзаконие» имеет более сложный характер, чем полагали прежние исследователи: древний источник здесь включен в более позднюю общую рамку, созданную, судя по всему, уже во времена борьбы за централизацию культа Ягве. Анализируя эту рамку, Гальперин пришел к выводу, что книга в целом, судя по всему, была написана во времена Йошиягу, что подтверждает гипотезу Гросса. Далее, однако, Гальперину удалось продвинуться намного ближе к загадке авторства «Второзакония» — а стало быть, если верить Ноту, и всего «Дейтерономистского цикла». Он обратил внимание на то, что более поздние предписания книги явно свидетельствуют о ее «пролевитской» направленности. Эти предписания ограничивают право царей накапливать богатства и наложниц, что никак не соответствует царским интересам. Такие особенности трудно согласовать с предположением, что книга возникла при царском дворе. С другой стороны, она предписывает царям следовать советам левитов и пророков, а народу — обеспечивать служителей Ягве всем необходимым для жизни. По мнению Гальперина, эти особенности позволяют думать, что «Второзаконие» возникло в кругу левитов Иудеи — современников Йошиягу. С этим предположением согласуется и общая религиозная направленность книги и всего «Дейтерономистского цикла». Остается выяснить, интересы какой именно группы левитов этот цикл отражает. То не могли быть, говорит Гальперин, первосвященник и другие законослужители Иерусалимского Храма. При всем его упоре на необходимость, централизации культа в «избранном Господом месте» «Дейтерономистский цикл» нигде не упоминает, что таким местом должен быть Иерусалимский Храм. Создателем книги не мог быть и провинциальный, «деревенский» левит из числа тех, кто проводил Богослужения «на высотах», — ведь предписания «Второзакония» направлены именно против них. В Иудее наверняка сохранялись еще потомки некогда бежавших туда из Израиля, от нашествия ассирийцев, священников Израильского царства, которых Йороваам когда-то назначил в храмы Бейт-Эля и Дана, но они вообще не были из числа левитов. Перебрав, таким образом, все возможности, Гальперин приходит к выводу, что религиозный кодекс «Второзакония» полнее всего совпадает с интересами и характером потомков давних левитов Шило, этого первого религиозного центра древних евреев, откуда вышел и автор «Элогистского» текста Торы. Действительно, эта группа имела все основания стремиться к централизации культа; будучи отлученной Йороваамом от храмов, она издавна нуждалась в помощи народа; она принимала власть царя, но хотела ее ограничения; она была резкой противницей сползания монархии в идолопоклонство; наконец, она еще хранила память о домонархических порядках (частично сохранявшихся среди северных, израильских колен до самого падения Израиля). Кто-то из этих левитов, продолжает Гальперин, мог еще во времена существования Израильского царства (т. е. до 722 г. до н. э.) записать древний устный закон и обработать его так, чтобы он соответствовал интересам данной жреческой группы; а после падения Израиля этот драгоценный свиток мог быть унесен (для его спасения) в Иудею… Разумеется, этот первый составитель «кодекса Второзакония» не был искомым нами «Дейтерономистом» — он жил на добрых 100, а то и больше лет раньше него. Этот «предтеча Дейтерономиста» попросту зафиксировал давнюю традицию — «Дейтерономист» же, уже во времена Йошиягу, воспользовался этим источником и положил его в основу своей грандиозной схемы еврейской истории. Он прибавил к «кодексу жрецов Шило» свое историческое вступление, в котором описал деяния Моисея, а также заключение, в котором рассказал, как умирающий Моисей записал «книгу Закона» (то есть Тору) на свитке и велел положить этот свиток в ковчег Завета, где он и был «найден» во времена Йошиягу. Так возникла совершенно новая книга — та, которую мы ныне называем «Второзаконием» и которую «Дейтерономист» сделал началом и основой им же созданного исторического цикла, излагающего всю еврейскую историю как последовательное развитие нескольких центральных сюжетов — верности/неверности Ягве; завета Бога с Давидом и его династией; идеи централизации культа и борьбы с местными святилищами; Моисеева Закона. Благодаря такому построению все важнейшие события этой истории получили у «Дейтет рономиста» единообразное причинное объяснение; вся она обретает глубокий религиозный смысл и целенаправленность. Ее конечной целью становится создание религиозной утопии, начатое царем Йошиягу, нашедшим спрятанную Моисеем Тору и решившим поступать в строгом соответствии с ней. Но если все положения Закона, исполнение которых «Дейтерономист» считает обязательным для выживания еврейского народа, соответствуют принципам «кодекса жрецов Шило», то и сам этот автор, заключает Гальперин, скорее всего тоже принадлежал к потомкам этих жрецов. В таком случае он, как и они, должен был вести свою родословную от Моисея (а не от Аарона, как левиты Иерусалима). Это предположение действительно подтверждается текстом цикла: в нем прославляется Моисей и всего лишь дважды упоминается Аарон: один раз, чтобы сообщить, что он умер раньше Моисея, второй — чтобы напомнить, что Господь готов был истребить его за создание золотого тельца. Подобно жрецам из Шило, «Дейтерономист» недоброжелательно относится к Йоровааму и Соломону: его герои, религиозные реформаторы Хизкиягу и особенно Йошиягу, уничтожают идолов Бейт-Эля и Дана, созданных Йороваамом, и медного змия, установленного Соломоном. Итак, автора «Дейтерономистской истории» следует искать среди современников царя Йошиягу, симпатизировавших религиозной реформе царя (или даже инициировавших ее) и одновременно принадлежавших к числу потомков жрецов из Шило, бежавших в Иудею за столетие до того, после разрушения Израильского царства. В то же время чисто литературные особенности «Дейтерономистского цикла», как мы уже говорили выше, сближают этого автора и с еврейскими пророками. Исходя из этих двух примет, Гальперин решил проверить, не было ли среди современников Йошиягу человека, удовлетворявшего обоим требованиям сразу. И он действительно нашел такого человека. По утверждению Гальперина, им был не кто иной, как великий пророк Йеремиягу. Именно Йеремиягу, или Иеремия, по мнению Гальперина, был создателем книги «Второзакония» и всего «Дейтерономистского цикла» в целом. По его гипотезе, он и был искомым всеми гениальным «Дейтерономистом». Эту дерзкую гипотезу, разумеется, трудно принять на веру. Но оказывается, и у нее есть убедительные основания: Мы уже говорили, что «Второзаконие» нельзя рассматривать в отрыве от последующих книг ТАНАХа — так называемых исторических сочинений (книг Йегошуа бин-Нуна, Судей, Самуила и Царств). Их объединяет слишком много лингвистических, исторических и религиозных особенностей, присущих им всем вместе и не встречающихся в других книгах ТАНАХа. Кроме того, их объединяет единая сквозная идея — особое религиозное толкование еврейской историй, заявленное уже во «Второзаконии» и затем последовательно проведенное через все книги «исторического 4 цикла». Эта общность, присущая «Дейтерономистскому циклу», заставляет говорить, что весь он был] составлен (с использованием массы более древних источников) одновременно. А поскольку этот цикл вдобавок объединен еще и настойчивым выпячиванием великой религиозно-реформаторской роли царя Йошиягу, который изображается как «второй Моисей» (появление этого царя предсказывается, если помните, уже в ранних книгах «Дейтерономистского цикла», задолго до его фактического царствования), то остается, пожалуй, лишь одна непротиворечивая гипотеза, способная объяснить все эти особенности. И это — как раз изложенная нами выше гипотеза немецкого исследователя Мартина Нота, согласно которой весь «Дейтерономистский цикл», начиная с «Второзакония» и кончая 2-й книгой Царств, был написан во времена самого Йошиягу. Неслучайно именно эта гипотеза является сегодня практически общепринятой в библейской критике. Но, как мы только что рассказывали, молодой американский ученый Барух Гальперин пошел дальше Нота, проанализировал многие неявные дополнительные признаки «Дейтерономистского цикла» и на основании полученных результатов выдвинул предположение, что автором этого грандиозного историко-религиозного цикла, охватывающего семь книг ТАНАХа, был не кто иной, как пророк Йермиягу. Каковы же те признаки, обнаружение которых позволило Гальперину прийти к столь дерзкому выводу? Прежде всего, это особое место, отводимое в цикле царю Йошиягу. Но из книги пророка Йермиягу известно, что он был пылким сторонником царя Йошиягу и его реформ; что его пророческая деятельность началась во времена этого царя; и, что именно он /согласно свидетельству «Хроник») после гибели царя составил «Плач на смерть Йошиягу». Далее, для всего «Дейтерономистского цикла» характерна сквозная мысль о том, что зигзаги еврейской истории определяются, прежде всего и более всего, выполнением или невыполнением евреями заповедей Господних. Но в точности та же мысль является главной и для пророческой книги Йермиягу: в ней он предсказывает Иудее судьбу Израиля, поскольку она, как некогда Израиль, «отступила от Завета», и видит в вавилонянах орудие этой Божьей кары (кстати, именно поэтому он призывает там евреев покорно подчиниться вавилонянам, сдав им Иерусалим, и даже, кажется, подобно Иосифу Флавию, пытался перейти на сторону врага). У гипотезы Гальперина есть и более конкретные подтверждения. Оказывается, Йермиягу был связан со всеми теми людьми, которые имели отношение к «находке» книги «Второзакония» в Храме. Например, письмо пророка к евреям, находившимся в вавилонском плену, было послано через Гемарию, сына первосвященника Хилкиягу, и Эласу, сына писца Шафана. Пророчества Йермиягу, направленные против преемника погибшего Йошиягу, царя Иегоякима, были зачитаны при дворе другим сыном того же Шафана, Гемарией. Тот же Гемария и его брат Ахикам спасли пророка от побиения камнями за эту книгу. А сын Ахикама (и внук Шафана) Гедалия, которого вавилоняне назначили наместником завоеванной ими Иудеи, взял пророка, под свое покровительство. Когда Гедалия был убит восставшими иерусалимцами и на Иудею двинулись разгневанные этим вавилоняне, пророку пришлось бежать вместе с остатками населения города в Египет, (где он и умер). Все эти факты свидетельствуют о том, что Йермиягу имел прямое касательство к тому кругу, где появилась (была «найдена») книга «Второзакония», так удачно обосновавшая реформы царя Йошиягу. И в этом кругу пророк был «своим». Судя по сказанному, то был круг главных инициаторов религиозных реформ, а затем — наиболее влиятельных сторонников провавилонской политики при дворе иудейских царей. В этом кругу Йермиягу, несомненно, был человеком самого большого литературного дарования, как о том свидетельствует его собственная пророческая книга. Поэтому было бы только логично заключить, что когда здесь возникла идея создать убедительное обоснование актуальности и важности религиозных реформ («восстановления Завета») в виде какой-нибудь книги или цикла книг, за реализацию этого замысла взялся именно Йермиягу. Тому есть и косвенное свидетельство: многие литературные особенности пророческой книги Йермиягу дословно соответствуют особенностям стиля «Второзакония» и «Дейтерономистского цикла» в целом. Йермиягу, например, пишет: «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца своего…» — а во «Второзаконии» мы читаем: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего…» У Йермиягу: «…перед всем воинством небесным»; во «Второзаконии»: «…перед всем воинством небесным». У Йермиягу: «…из земли Египетской, из железной печи»; во «Второзаконии»: «…из печи железной, из Египта». И так далее. Если бы такие выражения и словосочетания встречались и в других местах ТАНАХа, этим совпадениям можно было бы не придавать особого значения; но они встречаются именно и только в двух книгах — у Йермиягу и во «Второзаконии». На основании всех этих многозначительных совпадений и фактов Гальперин и заключил, что религиозный закон, составляющий основу «Второзакония», равно как и весь «Дейтерономистский цикл», содержащий семь книг ТАНАХа, а также книга пророка Йермиягу вышли из одного и того же круга людей, к которому принадлежал и сам пророк. В этом кругу Йермиягу действительно кажется самым вероятным автором. И эта вероятность становится еще выше, если учесть одно дополнительное обстоятельство. Как мы видели, основу этого «Дейтерономистского кружка», объединенного страстным стремлением подтолкнуть Йошиягу к проведению религиозных реформ, составляли видные царские придворные — первосвященник Хилкиягу, царский писец Шафан. Один лишь Йермиягу был там представителем совершенно иных, далеких от двора слоев. Как мы уже говорили в предыдущей главе, весь «Дейтерономистский цикл», включая «Второзаконие», написан с позиций жрецов-левитов — выходцев из израильского города Шило. Так вот, Йермиягу, утверждает Гальперин, является одним из этих левитов. В самом деле, он — единственный библейский пророк, в чьей книге прямо упоминается Шило (и даже целых четыре раза). При этом оно именуется там в точном соответствии со стилем «Второзакония» — как «место, где Господь повелел пребывать Имени своему». В терминах «Второзакония» это означает центральное место культа Ягве. Наконец, Шило в ТАНАХе связано с именем жреца Авиатара, которого Давид назначил одним из двух иерусалимских первосвященников, а Соломон отправил в ссылку в село Анатот под Иерусалимом. Между тем, первая же фраза пророческой книги Йермиягу гласит: «Слова Йермиягу, сына Хилкиягу, из священников, которые в Анатоте». Иными словами, пророк действительно был потомком левитов Шило. Этот факт сильнейшим образом подкрепляет гипотезу о том, что именно он был автором «Дейтерономистского цикла». Гипотеза Гальперина была развита другим американским исследователем, Ричардом Фридманом, который, пользуясь теми же приемами и методами доказательства, показал, что окончание «Дейтерономистского цикла», описывающее начальный период вавилонского плена (и созданный, следовательно, уже после взятия Иерусалима вавилонянами в 597 г. до н. э.), было, скорее всего, дописано тем же Йермиягу, но уже после его бегства в Египет. Мы не будем приводить здесь все аргументы и доводы Фридмана (они представляются весьма логичными и правдоподобными, хотя, как и у Гальперина, не на сто процентов убедительными; но от библейской критики такой абсолютной доказательности нельзя и требовать). Отметим лишь, что в заключение своего анализа Фридман напоминает о любопытном подтверждении из самого неожиданного источника — Талмуда. Оказывается, та же талмудическая традиция, которая приписывает авторство Пятикнижия Моисею, а книги Йегошуа бин-Нуна — самому Йегошуа, утверждает, что автором обеих книг Царств был пророк Йермиягу! Работы Фридмана, опубликованные в середине и конце 70-х годов, отчасти решили давний спор о так называемой «Дейтерономистской школе». Некоторые историки-библеисты утверждали, что «Дейтерономистский цикл» был создан не одним автором, а несколькими, но принадлежавшими к одной и той же школе и потому писавшими в одном стиле, с одинаковыми литературными и прочими особенностями. По Фридману, мера близости основного корпуса Дейтерономистских книг друг к другу и к заключению всего цикла (написанному в изгнании) является настолько феноменальной, что написать все это мог только один й тот же человек, но никак не группа людей. В этой связи хотелось бы отметить одну любопытную деталь. Существуют историки, которые утверждают, что книгу пророка Йермиягу (а, возможно, и все другие произведения этого пророка, включая «Дейтерономистский цикл») написал в действительности часто упоминаемый в этой книге писец «Барух, сын Нерия». О нем известно, что он переписывал для Йермиягу ряд документов, был близким к нему человеком и отправился с ним в изгнание в Египет. В сущности, не так уж важно в действительности, кто написал книги пророка — сам он или его писец; куда важнее, что все они были написаны одним и тем же человеком. Но любопытная — и я бы даже сказал, волнующая — деталь, связанная с писцом Барухом, состоит совсем в другом. В 1980 году израильский археолог Нахман Авигад нашел оттиск печати, запечатленный на древнем (между VII и VI вв. до н. э.) папирусе, где совершенно ясно и недвусмысленно читается: «Принадлежит Баруху, сыну Нерия, писцу»! Это был первый в истории предмет, лично связанный с человеком, имя которого упоминается в тексте ТАНАХа. И какого человека — писца пророка Йермиягу, возможно, даже автора великого танахического Семикнижия! Ощущение поистине волнующее — словно прикоснулся к живому Йермиягу… Теперь, завершив затянувшийся рассказ о создании и авторстве «Второзакония», мы должны сделать еще одно, последнее, усилие и разобраться в том, что говорит библейская критика о двух оставшихся главных источниках (или, как их еще называют, «документах»), из которых состоит еврейская Библия, — текстах «Жреца» и «Редактора». Кто их авторы, когда они были созданы, каков их исторический контекст и значение? Прежде, однако, подытожим уже сказанное — это поможет нам лучше понять последующее. История научной библеистики, или, как ее еще называют, «библейской критики», распадается на два отчетливых исторических периода. Водоразделом является вышедшая в 1878 году книга Вельхаузена «История Израиля». Эта работа оказала огромное влияние на развитие научной библеистики. Вельхаузен обобщил все, сделанное до него в этой области такими исследователями, как Спиноза, Гоббс, Симон, Астрюк, Эйхгорн, Граф и де Ветте; он впервые соединил методы и результаты исторического и литературно-лингвистического анализа Пятикнижия; наконец, он предложил систематическую трактовку возникновения библейского текста. Эта трактовка была основана на специфическом представлении об эволюции еврейской религии (во многом навеянном идеями Гегеля). По Вельхаузену, эта эволюция прошла три этапа. На первом то был культ богов природы и плодородия; на втором — духовно-этический монотеизм; а на третьем — формальная жреческо-законническая религия. Вслед за своими предшественниками Вельхаузен выделил в Пятикнижии четыре источника (или четыре «документа», как он их назвал) — Элогистский (Т), Ягвистский (J), Дейтерономистский (D) и Жреческий (Р) — и связал их с указанными этапами эволюции иудаизма. Он утверждал, что «документы» J и T отражают характерные черты еврейской жизни и верований первого этапа; «документ» D относится ко второму этапу, а «документ» H был составлен самым последним — уже на третьем, «жреческом» этапе развития еврейской религии. Исключительно четко изложенная, аргументированная колоссальным количеством материала «документальная гипотеза» Вельхаузена произвела огромное впечатление на научные круги и легла в основу всего дальнейшего развития научной библеистики. Она составляет ее основу и сегодня. Разумеется, многое в трактовке Вельхаузена устарело и отброшено, а многое, напротив, развито и углублено. Сегодня уже понятно, что основные четыре «документа» сами являются контаминацией множества более древних источников; поэтому понятие «времени создания» того или иного «документа» означает не более чем датировку объединения этих источников в связный текст (J, T и т. п.), который затем вошел в библейский канон. Как мы видели выше, сегодня куда более точно и детально известно также время и обстоятельства создания этих окончательных текстов, а в некоторых случаях выдвигаются даже гипотезы относительно личности их авторов. В частности, согласно этим гипотезам, тексты T и J были составлены во времена разделенного царства: T — в Израиле, J — в Иудее; первый — между 922 и 722 гг. до н. э. (период существования Израильского царства), второй — между 848 и 722 гг. (поскольку в нем упоминаются события, произошедшие при иудейском царе Йегораме, вступившем на трон в 848 г.). По тем же гипотезам, вскоре после того, как беглецы из завоеванного ассирийцами Израиля принесли текст T («свою» Тору) в Иудею, этот текст был соединен с «местной» Торой, т. е. с текстом J, в единый источник, послуживший первой основой будущего Пятикнижия. Таким образом, по современным представлениям, эта основа, или текст TJ, возникла в ее окончательном виде в Иудее и после 722 г. до н. э. Мы посвятили много места увлекательной истории поиска времени и места создания и авторства третьего «документа» — D, или Дейтерономистского (составляющего основу книги «Второзаконие»). Как мы видели, совокупные усилия многих ученых, включая израильских, позволили выдвинуть довольно убедительную гипотезу, относящую, создание «Второзакония» (а также примыкающих к нему исторических книг, совместно образующих т. н. «Дейтеронимистский исторический цикл») ко временам иудейского царя Йошиягу (639–609 гг. до н. э.), а завершение — ко временам вавилонского плена (587–537 гг. до н. э.), и приписывающую его авторство пророку Йеремиягу (или его писцу Баруху). Не следует думать, будто это единственная гипотеза; в современной библеистике есть и другие предположения относительно времени создания и авторства «Второзакония» и исторических книг ТАНАХа; мы выбрали гипотезу Гальперина — Фридмана лишь в силу ее большей простоты и правдоподобности, а также для показа с ее помощью приемов и методов анализа, используемых в библейской критике. Чтобы завершить заявленную в заглавии тему, нам остается еще рассказать о том, как представляет себе современная библеистика возникновение последнего из четырех основных «документов», составляющих Пятикнижие, — источника P, или т. н. «Жреческого кодекса». Как мы только что отмечали, Вельхаузен выдвинул предположение, что этот текст был создан позже всех остальных — уже в послепленную эпоху (т. е. после возвращения евреев из вавилонского плена, которое произошло в 537 г. до н. э.). Эта датировка опиралась на ту специфическую периодизацию еврейской религиозной эволюции, которая лежала в основе всей работы Вельхаузена. Однако со временем вельхаузеновская периодизация была подвергнута серьезной критике (в работах Макса Вебера и его продолжателей, а также в «Истории еврейской религии» израильского исследователя Кауфмана и др.), а новейшие археологические открытия в Эрец-Исраэль вовсе поставили под сомнение ряд ее основных положений. Поэтому вопрос о датировке «документа» H тоже подвергся пересмотру. Что же говорит об этом документе современная библеистика, то есть библейская критика конца XX века? Грубо говоря, текст P — это все то в Пятикнижии (в Торе), что не есть T, J или D. Вообще-то можно было бы ожидать, что этот «остаток» представляет собой беспорядочную смесь всевозможных вкраплений. Но поразительный факт (обнаруженный уже первыми исследователями Библии) состоит в том, что если вычленить из Торы такой остаток, то окажется, что на самом деле он представляет собой вполне связный текст, некое особое повествование, которое почти без пропусков излагает примерно то же, что и текст E-J, — всю историю мира, от сотворения до праотцев, и всю историю евреев, от праотцев до египетского рабства, исхода и возвращения в Ханаан. К этой обширной исторической части автор P добавляет еще более пространную обрядово-культовую часть, которой почти не было в E-J. Из нее видно, что, в отличие от авторов текстов T и J, автора H вопросы культа и его исполнения интересуют едва ли не в первую очередь, как могут интересовать только жреца (отсюда и название данного текста — «Жреческий»). Неслучайно они занимают основную часть его текста — половину книги Исхода, половину книги Чисел и почти всю книгу Левит. А в целом текст H оказывается самым большим в Пятикнижии — его объем равен объему всех трех остальных источников, вместе взятых. И при этом весь он лингвистически и стилистически однороден и индивидуален, как может быть однороден лишь текст, принадлежащий перу одного автора. Уже в 1833 году Э. Рейсс обратил внимание на тот странный факт, что в книгах пророков имеются отсылки лишь к тексту E-J, но не упоминаются те пункты 1 (заповеди) Закона, которые содержатся в P. Из этого он сделал вывод, что текст H был записан позже основных пророческих книг. Поскольку эти книги (Исайи, Йермиягу и Йехезкеля) были завершены уже после разрушения Первого Храма, во времена вавилонского плена, следовало предположить, что в эпоху Первого Храма текст H еще не существовал. Поэтому Рейсс отнес его создание к более поздней эпохе, то есть ко временам Второго Храма. Впоследствии ученик Рейсса, Граф, вычленил в тексте H его основные моменты: четко оформленную легально-юридическую культовую систему, концепцию сосредоточения всех культовых отправлений в одном месте и представление о центральности этого места (и его жрецов) в религиозной жизни народа — и, проанализировав их, высказал предположение, что такая детальная разработанность указанных концепций, какая характерна для текста H, может быть только результатом длительного религиозно-исторического развития, и, стало быть, опять же — текст H является весьма Поздним. Наконец, уже упоминавшийся выше Вельхаузен добавил к этим аргументам свои. Поскольку в его схеме развитие еврейской религии шло от духовно-этического монотеизма к «бездуховной» жреческой теократии, то и внешние формы религиозности, по его мнению, развивались от децентрализации культа к его централизации. В тексте E-J нет упоминаний о необходимости такой централизации — стало быть, заключал Вельхаузен, этот текст является самым ранним; в тексте D идет яростная борьба за централизацию богослужений в едином месте, «избранном самим Богом», — стало быть, этот текст, по Вельхаузену, более поздний; и, наконец, в тексте H централизация упоминается как нечто само собой разумеющееся, то есть существующее и укоренившееся, — а такое, заключает Вельхаузен, может быть только на самом позднем этапе — этапе «жреческой теократии», установившейся в Иудее при Эзре и Нехемии, после возвращения евреев из вавилонского плена. Противники гипотезы Рейсса — Графа — Вельхаузена давно указывали на весьма важный сомнительный пункт в ней: если текст H написан во времена Эзры, когда Храм играл центральную роль в религиозной жизни евреев, почему в самом тексте нет никаких упоминаний о Храме? Граф и Вельхаузен ответили на это утверждением, что такое упоминание есть, только «замаскированное»: повсюду, где в источнике H идет речь о т. н. «Скинии Завета», «в действительности» подразумевается Храм. На первый взгляд, это утверждение кажется не только изобретательным, но и отчасти обоснованным. В самом деле, текст H уделяет Скинии подчеркнуто большое внимание: если в E-J она упоминается лишь трижды, а в D не упоминается вообще, то в H о ней — свыше двухсот упоминаний! Более того, там даны подробные указания, как и из чего она должна быть сооружена, каковы должны быть ее размеры, какие обряды в ней следует отправлять и т. д. Второе обстоятельство, позволяющее думать, что под Скинией имелся в виду. Храм, состоит в том, что размеры Скинии, указываемые в тексте P, подозрительно точно соответствуют размерам Храма, названным в 6-й главе 1-й книги Царств: если Храм имел 60 локтей в длину и 20 в ширину, то Скиния — 30 локтей в длину и 10 в ширину, то есть была ровно вдвое меньше. Исходя из этих соображений, Граф заключил, что никакой Скинии не было вообще (в самом деле — кто бы мог нести такое громоздкое сооружение по пустыне до самого Ханаана?!), и весь рассказ о ней придуман автором текста H. Этот автор, живший во времена Второго Храма, стремился, по Графу, придать этому Храму надлежащий авторитет и святость. Поэтому он решил приписать этому центру еврейского культа преувеличенную историческую давность и для этого ввел в свой текст рассказ о том, будто заповедь построить некое единое (и единственно законное) помещение для жертвоприношений и Богослужений (в виде упомянутой Скинии Завета) была дана уже во времена Моисея самим Господом у горы Синай. Как показали современные исследования, все эти хитроумные гипотетические конструкции были излишними. Гипотеза Графа — Вельхаузена о позднем происхождении текста H оказалась ложной в своих основных посылках. Сначала в книге Йермиягу, а затем в книге Йехезкеля были обнаружены хоть и немногочисленные, но достаточно достоверные ссылки на источник H. Их не могли найти раньше, потому что они были ссылками, так сказать, «от обратного»: Йермиягу, например, цитировал H, переворачивая — и тем самым отрицая — его текст. Там, где H говорит: «Вначале создал Ягве небо и землю, и земля была безвидна и пуста… и сказал Ягве: «Да будет свет»», — Йермиягу пишет: «Смотрю на землю, и вот она безвидна и пуста, — на небеса, и нет на них света». Автор H в книге Левит говорит о «Торе (то есть о заповеди) всесожжении и жертв», а у Йермиягу Господь провозглашает: «…отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди о всесожжении и жертве». И так далее, все в том же духе. Аналогичные скрытые переклички с H имеются и у Йехезкеля. Это означает, что пророкам данный источник был знаком, и, стало быть, он существовал уже до разрушения Первого Храма. К тому же выводу привели многолетние лингвистические исследования израильского ученого Ави Гурвица из Еврейского университета, показавшего, что язык источника H представляет собой более ранний вариант иврита, чем язык книги Йехезкеля. Это заключение было впоследствии подтверждено несколькими лингвистами из США и Канады. Что же касается «кратности» размеров Скинии и размеров Храма, то Ричард Фридман, посвятивший этому вопросу специальное исследование, обратил внимание специалистов на два важных факта. Во-первых, те «размеры Храма», о которых говорили Граф и Вельхаузен, относятся к Первому, а не ко Второму Храму; поэтому заключать из этого, будто под Скинией «подразумевается» Второй Храм, нет никаких оснований; а, следовательно, нет и оснований думать, будто рассказ источника H о Скинии был создан во времена Второго Храма. А, кроме того, более детальное изучение предписаний книги Левит о постройке Скинии показывает, что ее истинные размеры вообще были несколько иными, нежели названные в тексте (деревянные рамы, из которых она составлялась, немного находили друг на друга — для прочности, и потому истинная длина всей постройки была чуть меньше 30 локтей; это доказывается размерами покрывала, накрывавшего все сооружение). Поэтому о «кратности» размеров Скинии и Храма вообще не может быть речи. С другой стороны, подсчитав истинные (с учетом наложения деревянных рам) размеры Скинии, Фридман обнаружил совершенно иную «кратность», даже полное совпадение. Оказалось, что эти размеры были в точности такими же, как впоследствии и размеры самого внутреннего помещения Соломонова (т. е. Первого) Храма — его знаменитой «Святая Святых», где находились позолоченные херувимы, под распростертыми крыльями которых помещался Ковчег Завета. В этой связи Фридман напомнил, что уже при описании Соломонова Храма сказано, что туда принесли не только Ковчег Ягве, но и «Скинию со всем, что в ней было». О переносе Скинии в Храм согласно говорят также Иосиф Флавий и Вавилонский Талмуд. В Псалмах Храм и Скиния тоже всегда упоминаются совместно, а в «Хрониках» («Паралипоменон») о Храме говорится как о «доме Ягве, доме Скинии». Собрав все эти факты, Фридман выдвинул предположение, принципиально противоположное гипотезе Графа — Вельхаузена: не Скиния была «придумана» автором H по образцу существовавшего в его время Храма, а сам этот Храм (его Святая Святых) был задуман по образцу задолго до него существовавшей Скинии. Сама же она после постройки Храма была перенесена из Шило в Иерусалим и помещена во внутреннем храмовом помещении (т. е. в Святая Святых). Автор H, поместивший Скинию в центр своего рассказа и поднявший ее до уровня центрального символа всей еврейской религиозной жизни, имел поэтому все основания отождествлять Скинию с самим Храмом (ведь она в нем находилась!) — но только с Первым Храмом, а не со Вторым! Иными словами, по Фридману, текст H мог быть написан лишь в те времена, когда Первый Храм еще существовал. По всей видимости, он был записан там же, где этот Храм существовал, — то есть в Иудее, может быть, — в самом Иерусалиме. Его автором был, скорее всего, храмовый священнослужитель (ибо весь текст, как мы уже отмечали, выражает интересы жреческой группы), а поскольку священнослужителями Иерусалимского Храма были коэны-аарониды (прямые потомки Аарона), то и автор H был, надо думать, одним из этих коэнов. Время создания текста можно еще более сузить. Как показал шведский ученый Мовинкель, автор H целых 25 раз повторяет рассказы из текста E-J (начиная с истории сотворения мира). А это значит, что он писал уже после создания этого единого текста, то есть, как мы говорили выше, после 722 г. до н. э. С другой стороны, текст H, как мы видели, был известен пророку Йермиягу, предположительно, — автору «Дейтерономистского цикла», начатого при царе Йошиягу (639–609 гг. до н. э.); стало быть, H был написан раньше этого царствования. В целом это дает следующие (разумеется, гипотетические) временные рамки для его написания: между 722 и 639 гг. до н. э. Фридман выдвигает еще более точное предположение, относя создание текста H ко временам царя Хизкиягу (727–698 гг. до н. э.), когда была предпринята первая попытка религиозной реформы — уничтожения местных жертвенников и централизации всех культовых отправлений в Храме. По мнению Фридмана, подчеркивание роли Скинии («Храма») выражает желание автора H обосновать эту реформу, приписав традиции сосредоточения культа в одном месте давнее (еще от Моисея) и сакральное (одна из Господних заповедей) происхождение. Текст H не имеет тех литературных и прочих достоинств, которые отличают тексты T и J, но и он по-своему замечателен. Прежде всего, замечательны его повторы, или «дублеты», как мы назвали их в первой главе. Сравнение рассказов H и E-J сразу обнаруживает, что автор H был решительно недоволен тем образом Бога, который возникал из книги его предшественника, и пытался последовательно провести свое, иное представление о Нем. Так, уже в первом дублете (рассказ о сотворении мира) у E-J сказано (Бытие 2:4): «Элогим создал землю и небо», а у H (Бытие 1:1): «Вначале сотворил Ягве небо и землю». Эта, казалось бы, простая перестановка слов — «небо и земля» вместо «земля и небо» — на самом деле скрывает за собой стремление придать Богу более «небесные», более трансцендентные черты. Автор H решительно борется с той антропоморфизацией Бога, которая присуща T и J. Бог Элогиста и Ягвиста ходит по райскому саду, разговаривает с первыми людьми, закрывает за Ноем и его семейством двери ковчега и с удовольствием обоняет запах жертвы (одного из семи «чистых» животных), принесенной Ноем по случаю завершения Потопа. У H этого Ноева жертвоприношения нет, ибо Ною велено взять с собой лишь одну (а не семь) пару от каждого вида «чистых» тварей, и он не может убить ни одну из этих тварей, ибо тогда не останется пары для размножения данного вида. Соответственно, H получает возможность изгнать из рассказа режущее его слух слово «обонять» применительно к Господу. Господь у H не обоняет, не ходит, не разговаривает, не творит людей «по Своему образу и подобию», ибо у Него нет «образа» — Он бестелесен и безлик. Он пребывает на небесах. Он — творец того грандиозного космического порядка, что запечатлен в Торе и является основой также и порядка земного, подчиняющего себе всю жизнь еврейского народа: Храм, коэны, жертвы, праздники, строжайшее соблюдение заповедей и ритуала. Нарушителей этого порядка ждет суровое наказание, ибо, если у E-J Бог прежде всего «милосерд», «человеколюбив» и тому подобное (вспомним, как Он пощадил Ицхака, как уступал Аврааму в торге за Содом и множество других аналогичных случаев), то H рисует Его прежде всего суровым и беспощадным (хотя и справедливым) судьей. Судьба Кораха и его сторонников, описанная в 16-й главе книги Чисел, — яркая тому иллюстрация. Раз уж мы коснулись этого эпизода с Корахом, используем его, чтобы показать еще одну особенность Жреческого кодекса. Как уже было сказано, автор его — не просто жрец, но, скорее всего, жрец-ааронид. И, действительно, — для всех его дублетов, в которых речь идет об Аароне, характерен сквозной мотив возвеличивания этого первого еврейского первосвященника (порой даже за счет преуменьшения заслуг Моисея). И это тоже элемент скрытой полемики с текстом E-J (одна из составных частей которого T создана левитами из Шило — потомками Моисея — и потому всячески возвеличивает Моисея). Там, где у E-J: «Ягве сказал Моисею», у P (в том же рассказе) добавлено: «Моисею и Аарону». Где Аарон для Моисея «брат-левит» (то есть из одного колена), у H он — родной, кровный брат, причем — первенец. P изгоняет из своего повествования имевшиеся в E-J не только рассказ о жертвоприношении Ноя, но также рассказы о жертвоприношениях других библейских героев: Каина, Авеля и праотцев — и все для того, чтобы получить возможность утверждать, будто первое жертвоприно шение было произведено в честь назначения Аарона первосвященником; отсюда следует и сама концепция — коэнов: все последующие жертвоприношения могут, производиться либо самим Аароном, либо его прямыми потомками, ибо они выше всех по святости, они — избранные среди избранных, единственные законные посредники между народом и Богом. Упомянутый выше рассказ о восстании Кораха ярко иллюстрирует эту тенденцию автора Жреческого «документа». Две с половиною тысячи лет миллионы людей читали этот рассказ, не подозревая, что перед ними на самом деле — некая литературная мистификация. Действительно, если вчитаться в текст 16-й главы книги Чисел, то неизбежно возникает ощущение; некой странности, чтобы не сказать — сумбура. Здесь есть Корах из колена Леви и, как бы отдельно от него, три других руководителя мятежа — Дафан, Авирон и Авнан из колена Реувена, и рассказ о каждой из этих групп совершенно не соотносится с рассказом о другой. Скажем, события связанные с Корахом, происходят вблизи Скинии, между тем как события, связанные с реувенидами, — в их шатрах; Корах предъявляет Моисею одни требования, реувениды — совершенно иные; Кораха Моисей увещевает, реувенидам грозит. Вообще куски рассказа, связанные с Корахом, настолько лишены связи с кусками, посвященными реувенидам, что возникает ужасное подозрение: а в самом ли деле это один общий рассказ? Попробуйте сами произвести над текстом несложную операцию: извлеките из него всё, что относится к реувенидам (вторая часть первого стиха и начальные слова — «восстали на Моисея» — стиха второго, стихи 12–15-й, 25-й, вторую фразу 27-го и стихи 28–31-й, первую часть 32-го, а также 33-й и 34-й стихи), — и вы тотчас увидите, что, будучи вычлененными, они образуют вполне связный, последовательный и ОТДЕЛЬНЫЙ рассказ о восстании (и наказании) потомков Реувена, разочарованных тем, что Моисей не выполнил своего обещания привести народ в землю, текущую молоком и медом. А что же оставшиеся стихи? Поразительно, но они, оказывается, тоже образуют связный рассказ — только совсем иной: о бунтаре Корахе. В нем никаких упоминаний о реувенидах и их восстании: речь идет исключительно о представителе колена Леви (Корахе), который посмел выразить недовольство определенных левитских кругов тем, что Моисей назначил Аарона первосвященником: по мнению Кораха, в «царстве священников» (каковым, по слову Господню, должно быть еврейское сообщество) любой левит имеет право на такой сан и прерогативы. Моисей поначалу пытается пристыдить недовольных, напоминая им, каким почетом пользуются в народе левиты, как велика милость Господня к ним, какова их слава, и авторитет; и лишь затем, видя, что их дерзость зашла слишком далеко, предлагает им «испытание Божье»: пусть они наравне с Аароном попытаются возжечь курения перед Господом, а Господь сам решит, чьи претензии законны. Попытка Кораха оборачивается страшной карой: его самого и других недовольных левитов поглощает расступившаяся земля — и это служит доказательством кощунственности их претензий: Господь благоволит только к Аарону и его прямым потомкам — коэнам. Только им Он вручил право руководить (теперь и впредь) «царством священников». Первый рассказ — вполне естественная и живаядеталь истории Исхода: уставшие, разочарованные люди слабодушно ропщут против руководителя трудной затеи, их наказывают, другие в страхе замолкают, и поход продолжается. Второй рассказ производит впечатление неуклюжей вставки, вся цель которой состоит исключительно в прославлении Аарона и утверждении власти Ааронидов. Два эти рассказа явно написаны разными авторами, в разные времена и по разным причинам. И действительно: рассказ о реувенидах принадлежит тексту E-J, рассказ о Корахе сочинен и вставлен в этом место истории Исхода намного — позже — автором H. Еще более поздний редактор, для которого оба текста были одинаково древними и святыми, не решился выбрасывать что-либо и попросту постарался как можно более незаметно, пусть и чисто механически, соединить оба повествования. Все сказанное выше об особенностях текста H поддается обобщению: его автор как бы сознательно, шаг за шагом, противопоставляет Торе E-J «свою» версию Торы, последовательно проводящую идею трансцендентного Божества вместо антропоморфного Бога и идеал еврейской теократии, возглавляемой жрецами-коэнами вместо племенной демократии и Светской монархии. Текст H написан в идеологической полемике с текстом E-J; но если припомнить сказанное чуть выше о скрытой полемике «Дейтерономиста» с автором текста Н, то мы увидим любопытную закономерность: ВСЕ главные источники («документы») Торы написаны как идеологическое отрицание друг друга. Иудейский текст J записан в противовес израильскому тексту T; в ответ на их объединение тотчас возникает полемически противопоставленный им текст H, а еще через два поколения — текст «Дейтерономиста» (Йермиягу?), полемизирующий с H. Каждый из них проводит свои религиозные идеи, воплощая их в своих рассказах и в их композиции. Поэтому одна из самых поразительных особенностей Пятикнижия в целом состоит, пожалуй, в том, что какой-то безвестный (и, несомненно, гениальный) редактор ухитрился так продуманно и искусно соединить все эти четыре разных и внутренне ПОЛЕМИЧНЫХ документа, что они образовали единое целое, и притом — не просто целое, а такое целое, которое превышает сумму своих частей. Дублированные рассказы стали оттенять и углублять друг друга в литературном, психологическом и смысловом плане (что, конечно, никак не могло быть задумано ни одним из авторов, который и предполагать не мог, что его текст будет соединен с текстами его антагонистов); а сама концепция Бога (то есть еврейского монотеизма) обрела глубочайшие взаимодополняющие измерения — отвлеченной трансцендентности и антропоморфного человеколюбия, гневной справедливости и любовного милосердия, качественной непостижимости и диалогической близости. Такая редактура была, несомненно, творческим актом, который поставил редактора вровень с титанами T, J, H и D, составившими окончательный свод основных «источников» Торы. Кто мог быть этим редактором? Многие исследователи полагают, что составление канонического текста Пятикнижия происходило не в один прием, а через множество этапов, возможно, — в разные времена, и поэтому редакторов тоже было несколько. Мне более симпатична другая гипотеза, которая приписывает редактуру одному человеку — Эзре, тому ааронидскому священнослужителю и «книжнику, сведущему в Законе Моисеевом», второму (после Моисея) «законоучителю» еврейского народа, который в 458 году до н. э. вернулся в Иудею с предписанием персидского царя Артаксеркса учить народ «закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей». «Закон, находящийся в руке…» — это наверняка свиток Торы, и мы действительно знаем, что главным деянием Эзры было перезаключение Завета евреев с Господом (Эзра 10:3). Впрочем, может быть, это был вовсе не Эзра, а какой-нибудь иной, неведомый книжник тех же времен; а, может быть, редакторов и в самом деле было несколько. Послепленные времена темны и загадочны: неизвестно, что происходило с евреями в вавилонском плену и египетском галуте; неизвестно, куда исчезли (именно в это время) Ковчег Завета и Скиния; неизвестно, куда девались потомки дома Давидова Шешбазар и Зерубавель, приведшие назад в Иудею первую группу отпущенных из плена евреев в 537 г. до н. э. (они исчезают бесследно, так и не восстановив почему-то давидову династию), и так далее. От всего почти 150-летнего периода, начиная с разрушения Первого Храма (587 г. до н. э.) и до составления книги Эзры (после 458 г. до н. э.), сохранилось лишь несколько имен, названных Эзрой в его книге, упоминание о постройке Шешбазаром и Зерубавелем скромного и неказистого Второго Храма да рассказ об одном-единственном событии, которому, собственно, и посвящена книга Эзры, — о расторжении им еврейских браков с нееврейками. Понятно, что в отсутствие других сведений исследователи невольно хватаются за тот скудный набор фактов, который сообщает Эзра, и за него самого. Но все это не принципиально. Принципиальным является вывод, который мы можем теперь сделать на основании всего сказанного в предыдущих страницах этого очерка. Этот вывод, подкрепленный всей совокупностью собранных за прошедшие два столетия культурно-исторических, лингва-текстологических и других фактов и их научного анализа, состоит в том, что ТАНАХ (во всяком случае, Пятикнижие, ибо мы говорили здесь преимущественно о нем) писался (записывался) на протяжении многих сотен лет, разными людьми, в разные исторические эпохи, с разными целями. Таков, в самом кратком виде, суммарный итог всех библейских исследований. Подчеркнем, однако, снова: речь идет о составлении (порой на основе более древних источников) окончательных текстов. Это, несомненно, сделали люди. Но это не отвечает на вопрос: кто или что вдохновляло этих людей? Писали T, J, H и D «по откровению Божьему» или по собственному, чисто человеческому вдохновению — это было и остается вопросом веры. (В конце концов, ведь и устную Тору, когда ее записали, пришлось задним числом «сакрализовать», провозгласив, что и она была — вместе с Торой Письменной — дана Моисею на горе Синай, но с тех пор передавалась изустно, хотя — без искажения даже единой буквы за все эти столетия.) Напомним в этой связи, что когда-то, еще в XIV веке, Йосеф Бонфильс, первый еврейский ученый, провозгласивший по поводу одного из стихов Торы, что «Моисей этого не писал», многозначительно добавил! «Впрочем, что мне до того, писал это Моисей или другой пророк, коль скоро слова всех этих людей суть истина, явленная в пророчестве». Действительно, тексты могут быть написаны разными людьми; истина, в них содержащаяся, может быть при этом единой. Неслучайно еврейские религиозные мыслители, размышляя над теми же противоречиями и разночтениями Торы, что и светские библеисты, всегда использовали для объяснения этих загадок принцип объединения противоположностей, полагая, что только в таком объединении и вскрывается истинная, глубинная суть кажущегося «несообразным» отрывка. Вот один из примеров такого подхода. Книга Исхода (12:15), говоря, о празднике Песах, предписывает: «СЕМЬ дней ешьте пресный хлеб» — между тем как «Второзаконие» (16:8) говорит: «ШЕСТЬ дней ешь пресные хлебы»; и раввины, естественно, вынуждены объяснить, как совместить оба этих предписания. Они разъясняют это следующим образом: «Седьмой день был сначала включен в более полное («объемлющее») высказывание, а затем изъят из него». То, что изъято из более полного высказывания, предназначено для более глубокого уяснения нами самого этого высказывания. Следовательно, если в седьмой день это (съедение пресного хлеба. — Р.Н.) возможно, но не обязательно, то и во все остальные дни это возможно, но не обязательно. Может ли быть, что так же, как в седьмой день это возможно, но не обязательно, так и в остальные, ВКЛЮЧАЯ ПЕРВУЮ НОЧЬ? Решает сказанное (Исход 12:18): «В первый месяц С ВЕЧЕРА ешьте пресный хлеб…» Стало быть, в первую ночь есть пресный хлеб заповедано (а в прочие, как видим, не обязательно; обязательным и безусловным. является только ЗАПРЕТ есть хлеб дрожжевой (как и вообще употреблять «хамец»). Я хотел было завершить свой рассказ еще несколькими примерами такого же рода, но он без того затянулся и буквально взывает к немедленному завершению: слишком много пришлось бы еще рассказывать — и о современных взглядах на загадки пророческих и других книг ТАНАХа; и о нынешних, после Гункеля и Вебера, Луццато и Кауфмана, представлениях об эволюции еврейской религии; и о поразительных тайнах ТАНАХа в целом — постепенном «сокрытии Божьего лица» из истории и нарастании сферы свободы человеческой воли, равно как и о многом другом, не менее интересном — и, увы, не менее пространном. Последуем же примеру Шехерезады и прекратим дозволенные речи. Лишь поблагодарим напоследок долготерпеливых читателей, которые сопровождали нас на протяжении всего этого многостраничного пути сквозь лабиринты светской библеистики. >ГЛАВА 4 В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА (по мотивам книги Г. Хэнкока «Знак и печать») Сказано в Книге Исхода, в обращении Господа к Моисею: «Сделайте ковчег из дерева ситтим; длина ему два локтя с половиною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя… И положи крышку на ковчег сверху; в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе. Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою… о всем, что не буду заповедыватьчрез тебя сынам Израилевым». И сказано в первой книге Царей (III книге Царств), в речи Соломона при освящении Первого Иерусалимского Храма: «Я вступил на место отца моего Давида, и сел на престоле Израилевом… и построил храм… и приготовил там место для ковчега, в котором Завет Господа, заключенный Им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли Египетской». С этим Ковчегом (Скинией) Завета в еврейской истории связана странная и до сих пор до конца не проясненная загадка. Исход (или «вывод») евреев из «земли Египетской» датируется современными учеными серединой XIII века до новой эры; царствование Соломона — серединой X. Их разделяет, таким образом, около трех столетий. События этих столетий — скитания в пустыне, обретение Торы, завоевание Ханаана, эпоха Судей, царствования Саула и Давида — весьма подробно описаны в Библии. В этих описаниях Ковчег Завета, сооруженный Моисеем в самом начале 40-летних странствий по пустыне, упоминается не менее 200 раз. Но после воцарения Соломона Ковчег навсегда исчезает из поля зрения еврейских источников. Этот странный и необъяснимый факт не может не вызывать недоумения. Видимо, что-то произошло в ту пору с Ковчегом. Но что? Огромный вопросительный знак повисает над древней еврейской историей. Первым приходит на ум предположение: а, может, Ковчег исчез? Был-похищен или перенесен куда-то и спрятан? Но Библия не могла бы умолчать о такой трагической утрате. Сами евреи посягнуть на Ковчег не могли: то была, как-никак, национальная святыня! — а завоеватели в те годы к Иерусалиму еще не подступали. Тогда, быть может, дело обстояло проще: с появлением Храма Ковчег утратил былое значение? Но ведь Храм и был построен для хранения Ковчега. Опять неувязка. К тому же и первое, и второе предположения противоречат духу одного из последних упоминаний о Ковчеге, которое мы находим в книге пророка Иеремии. Там, в главе 3-й, сказано о грядущих временах: «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни… не будут говорить более: «Ковчег Завета Господня»; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет». Иеремия жил, как считает, современная наука, в конце VI века до новой эры. И если пророк говорит об эпохе, когда Ковчега «уже не будет» и к нему «не будут приходить», как о далеком будущем, значит — в его время Ковчег существовал и к нему приходили. Более того — вся тональность этого отрывка свидетельствует, что во времена Иеремии Ковчег все еще рассматривался как важнейшая национальная святыня. Ведь Иеремия известен как пророк, восставший против внешней религиозной символики — жертвоприношений в Храме, храмовых богослужений и так далее. В сущности, приведенный выше отрывок выдержан в том же духе: вот сейчас вы поклоняетесь Ковчегу, а придет время, исполнится завет Господень, и поклонение это станет излишним. Стало быть, современники еще поклонялись. Утопические времена, описанные Иеремией, не наступили, Завет не «исполнился», но поклонение Ковчегу, тем не менее, прекратилось. В конце жизни Иеремии, в 597 г. до н. э., знаменитый вавилонский владыка Навуходоносор штурмом взял Иерусалим, разрушил Храм и увел часть народа в «вавилонский плен». И поскольку Иеремия был самым последним, кто упоминал Ковчег в качестве существующего, историки получили отличную возможность связать решительное исчезновение всяких дальнейших упоминаний о Ковчеге с этими трагическими событиями. Теперь уже не было надобности в искусственных предположениях. Загадка объяснялась просто и логично. Ковчег был захвачен победителями при взятии Храма вместе со всей прочей добычей и увезен в Вавилон — гласила одна из версий. Ковчег был спрятан последними жрецами Храма, а после возвращения народа из плена уже не найден — гласила другая. Но была еще третья версия, самая романтическая. Она не довольствовалась предложенными объяснениями и снова ставила вопрос: почему источники упоминают о разрушении Храма, но ни словом не поминают судьбу хранившегося там Ковчега? И давала ответ: а потому, что ко времени взятия Иерусалима Ковчег давно уже исчез из Храма и был укрыт в совершенно иных местах, далеко от Страны Израиля, а умолчание ТАНАХа об этом, что ни говори, сенсационном факте продиктовано вполне серьезными и вескими причинами… Эта версия бытовала в еврейских и нееврейских кругах долгие столетия. Она породила множество догадок о местонахождении Ковчега и длинную вереницу его искателей, а уже в наши дни отразилась, хоть и в совсем уж вульгарной форме, в фильме «Искатели утраченного ковчега», а также в незаслуженно нашумевшем детективе Д. Брауна «Код да Винчи» (почти дословно повторяющем серьезную книгу М. Бежана, Р. Лея и Г. Линкольна «Святая кровь и святой Грааль»). Несколько лет назад на прилавках книжных магазинов (в том числе западных, российских и израильских) появилась книга английского журналиста Грэма Хэнкока «Знак и печать». Эта объемистая (ровно 600 страниц) книга сразу сделалась сенсацией года. И неудивительно: Хэнкок утверждал, что ему, наконец, удалось разгадать тайну пропавшего Ковчега, установить место его нахождения и проследить всю его загадочную судьбу с самого момента исчезновения из Храма. Многолетние поиски Ковчега привели автора из Лондона в далекую Эфиопию, оттуда в Шартр и снова в Лондон, а затем — назад в Эфиопию. Рассказ и гипотезы Хэнкока настолько интересны сами по себе, что даже если и не убеждают читателя до конца, заслуживают подробного изложения. Любители исторических загадок наверняка найдут в них пищу для увлекательных размышлений. Вопреки всем правилам детективного повествования, Хэнкок начинает свой рассказ сразу с разгадки. Как мы увидим, у него есть на то основания: напряженность сюжета от этого не только не уменьшается, но даже возрастает. Так вот, с этим-то дальним прицелом на постепенное усложнение загадки Хэнкок в первой же главе повествует о том, как в 1983 году судьба забросила его в Эфиопию. Интерес к старине привел его в древний город Аксум, что стоит на одном Из притоков Голубого Нила. В книгах, посвященных истории Эфиопии, он прочел, что, согласно местным легендам, именно в Аксуме, в одном их старинных храмов, хранится знаменитый Ковчег Завета, столь многократно упоминаемый в Библии. Хэнкоку удалось разыскать этот храм и разговорить его настоятеля. Тот подтвердил, что легенда истинна: в его храме действительно находится тот выложенный золотом деревянный ящик, в который Моисей некогда поместил Иерусалимский Храм. — Оттуда, — сказал старик, — эта святыня вскоре была принесена в Эфиопию. — Кем? — нетерпеливо спросил Хэнкок. — Из ваших легенд я знаю только, что знаменитая царица Савская была владычицей Эфиопии, именно отсюда отправилась в Иерусалим к Соломону и там родила ему сына… — Его звали Менелик, — подхватил настоятель, — и хотя он был зачат в Иерусалиме, но родился в Эфиопии, куда царица вернулась, едва узнала, что понесла. В 20 лет Менелик и сам отправился в Иерусалим и какое-то время жил при Дворе отца. Но уже через год он стал ощущать, что придворные завидуют его возвышению и требуют, чтобы Соломон удалил от себя принца. Видя это, Менелик решил не искушать судьбу и вернуться домой. Царь дал сыну в спутники самых знатных юношей своего двора, и среди них — Азарию, сына верховного жреца Иерусалимского Храма. Этот-то Азария перед уходом и украл Ковчег из Святая Святых Храма, но признался в этом Менелику. Менелик счел, что такое воровство не могло свершиться без воли Господней, и потому оставил Ковчег у себя. Так Ковчег, в конце концов, и попал в Аксум… Рассказ был похож на тысячи других аналогичных легенд, но, в отличие от них, имел ту особенность, что мог быть немедленно проверен. — Могу ли я увидеть этот Ковчег? — осторожно спросил Хэнкок. — Нет, — ответил старик. — Только мне одному разрешено к нему приближаться. Но каждый год, в январе, мы выносим его для специальной церемонии Тимкат… — Значит, я смогу увидеть его в январе? — Не знаю, — уклончиво произнес настоятель. — В стране идет гражданская война, вокруг много злых людей, я не уверен, что в этом году мы вынесем Ковчег на всеобщее обозрение… Но и тогда вы ничего не сможете увидеть — Ковчег завернут в ткани. — Зачем?! — Чтобы защитить людей от него. Он способен проявить страшную силу. Хэнкок явился в храм подготовленным. Накануне он беседовал с одним из эфиопских администраторов в Аксуме и именно от него впервые услышал легенду о Ковчеге. По словам администратора, свергнутый незадолго до того император Хайле Селассие считал себя 225-м прямым потомком пресловутого Менелика, сына Соломона и царицы Савской, и даже именовал себя так в некоторых официальных документах. Сама легенда о Ковчеге, несомненно, была очень древней, поскольку называла первым местом его хранения храм Богородицы, построенный в Аксуме в самом начале IV века, когда христианство только что проникло в Эфиопию. В XVI в., во время вторжения в страну мусульманских полчищ, Ковчег был перепрятан, а затем, сто лет спустя, по утверждению легенды, возвращен на прежнее место и лишь в 1965 году перемещен в более пышный храм, построенный Хайле Селассие. Именно там Хэнкок и встретился со старым настоятелем. Дела Хэнкока в Эфиопии подходили к концу, продолжать расспросы о судьбе Ковчега в той накаленной эфиопской обстановке показалось ему опасным, и он покинул страну, чтобы, вернувшись в Лондон, обратиться за консультацией к специалистам. Одним из лучших знатоков эфиопских древностей считался в Великобритании профессор Панкхерст, основатель императорского Института эфиопских исследований в Аддис-Абебе, и Хэнкок направился к нему. Панкхерст подтвердил, что легенда о Менелике бытует в Эфиопии с незапамятных времен, а самая первая ее письменная версия содержится в манускрипте XIII века, именуемом «Кебра Нагаст». Сам Панкхерст, однако, не очень верил этой легенде. Связи между Эфиопией и древним Израилем, несомненно, существовали: эфиопская культура неслучайно имеет сильный привкус иудаизма, а одно из племен страны, фалаши, совершенно явно исповедует еврейскую религию; но это может быть результатом длительных контактов с древней еврейской общиной в Йемене, возникшей в I в. н. э., после завоевания Палестины римлянами. Что же касается Ковчега, то во времена Соломона он просто физически не мог быть доставлен в Аксум, потому что город этот возник лишь через восемь столетий после смерти Соломона. Разумеется, он мог быть перенесен в любое другое место, но легенда содержит и многие другие анахронизмы и сомнительные моменты. Например, в ней говорится, что со времен появления Ковчега в Эфиопии все христианские церкви усвоили обычай помещать в своих алтарях миниатюрные его копии, получившие название «табот» (сам Ковчег иногда именуется поэтому «Табота Цион»). Знает ли Хэнкок, как выглядят эти «таботы»? Нет? Так вот — это попросту несколько деревянных брусков, аккуратно уложенных в деревянный ящик. Если это — копия Ковчега, то как же выглядел тогда настоящий Ковчег? — Выходит, тут и конец красивой легенде? — пробормотал Хэнкок и разочарованно усмехнулся. Он не знал тогда, что для него это только начало. * * *Итак, эфиопская легенда о Похищении Ковчега из Иерусалима оказалась, по-видимому, красивой выдумкой. И, тем не менее, мысль о ней продолжала жить где-то в подсознании Хэнкока и заставляла его время от времени возвращаться к размышлениям о загадке Ковчега. Порой его возвращали к ней случайные упоминания в печати. Так, в одной из английских газет он натолкнулся на перепечатку рассказа группы израильских туристов, которые побывали на торжественной и таинственной религиозной церемонии в эфиопском городе Алибела, неподалеку от Аксума, где Хэнкок некогда разговаривал с хранителем Ковчега. Туристы рассказывали, что в этом древнем городе, с его высеченными в красных скалах одиннадцатью христианскими церквами, они стали свидетелями многотысячного ежегодного шествия, во главе которого выступали наряженные в ритуальные одеяния священнослужители, несшие на плечах покрытый тканью «Ковчег Завета». Этот Ковчег — или что бы там, ни было под тканью — священники вносили в шатер на берегу озера, и всю ночь, пока Ковчег пребывал в шатре, проводили в молитвах над ним. На следующий день, после торжественного молебна, который открывал сам архиепископ Аксума, Ковчег возвращался в храм и вновь поступал в распоряжение своего «хранителя». На все просьбы израильтян показать им Ковчег хранитель отвечал, что это невозможно. «Ковчег — это огонь живой, страх Господень, и он поглотит любого, кто явится к нему без спроса». Эти слова живо напомнили Хэнкоку ответ хранителя на его собственную просьбу показать Ковчег. Были и другие поводы для воспоминаний. В ходе работы над очередной книгой об Эфиопии Хэнкоку пришлось заняться изучением фалашей, и это заставило его прочесть, наконец, перевод того знаменитого манускрипта «Кобра Нагаст», о котором ему рассказывал профессор Пэнкхерст и в котором содержалась самая ранняя письменная версия эфиопской легенды о царице Савской и царе Соломоне, их сыне Менелике и похищении им Ковчега Завета из Иерусалимского Храма. И снова легенда произвела неотразимое впечатление на Хэнкока, хотя к тому времени он уже знал, что историки считают царицу Савскую вовсе не эфиопской, а йеменской владычицей, трон которой находился в Сабе, или Саве, и поныне остающейся столицей Йемена. Но самое глубокое впечатление, по сути — подлинное потрясение, заставившее Хэнкока. снова вернуться к поискам Ковчега, ожидало его впереди. И настигло оно его в совершенно неожиданном месте. Летом 1989 года, закончив упомянутую книгу об Эфиопии, он вместе с семьей отправился в отпуск во Францию. Отпускные маршруты привели его в город Шартр, и он решил осмотреть тамошний знаменитый собор — чудо готической архитектуры, сооружение которого было начато в XI и завершено в XII веке. Путеводители рассказывали, что строители собора широко пользовались так называемой «гематрией» — древним еврейским шифром, связывающим числа с буквами алфавита, и с ее помощью зашифровали в архитектурных пропорциях собора множество сакральных тайн. Такие же сложные и понятные только посвященному знаки были скрыты в других деталях собора — в его скульптурах, арках и витражах. Вооружившись путеводителем, Хэнкок провел все утро в разглядывании этих сложнейших архитектурных ребусов. Проголодавшись, он направился в кафе напротив. Каково же было его удивление, когда он увидел вывеску. Кафе называлось «Царица Савская». Как очутилась здесь героиня древней легенды? Хозяин кафе охотно объяснил: «Прямо напротив, в южной арке собора, стоит статуя этой царицы». Действительно, присмотревшись к скульптурам и сверясь с путеводителем, Хэнкок убедился, что среди одиннадцати скульптурных фигур арки, изображавших еврейских пророков и царей, была и фигура царицы Савской с цветком в левой руке. Путеводитель извещал также, что арка с ее фигурами была сооружена в первой четверти XIII века как раз в то время, когда в Эфиопии был написан манускрипт «Кебра Нагаст», содержавший историю Менелика и Ковчега. Появление языческой царицы среди героев еврейской истории было довольно странным. Библейский рассказ о ней ни словом не упоминает о ее переходе в иудаизм, который мог бы объяснить ее соседство с Соломоном и Давидом в арке собора. Зато в «Кебра Нагаст», напротив, утверждалось, что во время пребывания в Иерусалиме царица приняла иудаизм. И дополнялось это утверждение рассказом о том, как ее сын, принц Менелик, тоже бывший правоверным иудеем, принес иудаизм в Эфиопию. Но как могли создатели Шартрского собора узнать о легендах, содержащихся в манускрипте, написанном почти в то же время в далекой Эфиопии? С другой стороны, совпадение дат наводило на размышления. Охваченный этими размышлениями Хэнкок снова заглянул в путеводитель и к своему изумлению обнаружил, что в соборе есть еще одна статуя царицы Савской. Она находилась в северном портале, куда Хэнкок торопливо и направился. В правой арке портала он увидел фигуру царицы, у ног которой свернулся маленький африканец. Путеводитель сообщал, что это фигурка «эфиопского слуги». Иными словами, путеводитель недвусмысленно отсылал царицу в Африку, как будто создатели собора действительно были уверены в ее эфиопском происхождении, на котором настаивала книга «Кебра Нагаст». Но еще более любопытным было то, что на колонне, отделявшей статую царицы от стоявшей в центральной арке статуи легендарного библейского царя-жреца Мельхиседека, Хэнкок обнаружил изображение небольшой тележки с установленным на ней ящиком или сундуком. Тележка стояла точно посредине между двумя фигурами, а под ней красовалась какая-то плохо различимая надпись. Угадать можно было только два слова: Archa Cederis — но и их Хэнкоку оказалось достаточно, потому что первое из этих слов тотчас напомнило ему английское «Ark», то есть «Ковчег». В лихорадочном возбуждении он начал рассматривать колонну и, обойдя ее кругом, обнаружил еще одно каменное изображение той же тележки. На этот раз над ней склонился какой-то человек, а надпись под изображением тоже по-латыни — была подлинной. Что особенно поразило Хэнкока — так это то, что, на сей раз, тележка была изображена удаляющейся от Мельхиседека и приближающейся к царице Савской. Как будто бы строители собора намеренно хотели запечатлеть в камне эфиопскую легенду о похищении Ковчега из древнего Израиля (символом которого был Мельхиседек, поименованный в Библии «царем Салема», что обычно толковалось как древнее название Иерусалима) и переход его во владение Эфиопии (которую символизировала фигура царицы Савской). Хэнкок заметил еще, что царица здесь изображена без цветка, зато Мельхиседек держит в правой руке кадило (очень похожее на те, которые он видел в эфиопских церквях), а в левой — что-то вроде чаши или кубка, но не с жидкостью, а с каким-то цилиндрическим предметом внутри. На сей раз путеводители не дали ответа. Правда, в путеводителе надпись, сопровождающая изображение тележки с Ковчегом, приводилась полностью, но познаний Хэнкока в латыни оказалось недостаточно, чтобы этот текст понять. Что же касается странных предметов в руках Мельхиседека, то один путеводитель сообщал, что это символы христианского причастия (поскольку легендарный царственный жрец считается предшественником Христа), зато другой утверждал нечто неожиданное: «Мельхиседек держит в левой руке чашу святого Грааля, в которой находится Камень» — и добавлял: «Это позволяет связать данную фигуру с известной поэмой Вольфрама фон Эшенбаха (согласно некоторым преданиям, члена ордена тамплиеров), считавшего, что Грааль — это Камень». В истории Ковчега — и без того запутанной — явно проступали новые, загадочные детали. Тележка с Ковчегом, направлявшаяся от статуи Мельхиседека к статуе царицы Савской, явно связывала историю похищения Ковчега (если создатели собора действительно хотели рассказать о нем) с легендарным «царем Салема», а он был изображен, если верить путеводителю, с чашей святого Грааля в руке. Таким образом, эфиопская легенда о Ковчеге неожиданно переплеталась с христианской легендой о Граале. Тут было над чем подумать. Но в одиночку распутать все эти нити Хэнкок не мог — ему нужна была квалифицированная помощь. Он нашел ее в Тулузе, где в это самое время проводил свой отпуск его давний знакомый, известный историк искусства профессор Питер Ласско. С трудом дождавшись встречи, возбужденный Хэнкок обрушил на Ласско поток недоуменных вопросов. «Что означает чаша в руке Мельхиседека? Могла ли проникнуть в средневековую Европу эфиопская легенда? Что гласят латинские надписи на колонне Шартрского собора?» Легче всего оказалось ответить на последний вопрос. Слою Arena действительно обозначало «Ковчег». Зато Ctdtris могло быть либо искаженным словом Foederis, то есть «Завет», либо необычной формой латинского глагола «cedere», то есть «отдавать» или «отпускать на волю». В сочетании это давало либо просто «Ковчег Завета», либо «Ковчег, который ты отдашь». Что же касается второй — более длинной надписи, то ее Ласско истолковал как «Сим отпускается Ковчег, который ты отдаешь» или как «Здесь скрыт Ковчег, который ты отдаешь» — в зависимости от того, каким образом были искажены резчиками старинные латинские слова. С толкованием Мельхиседека как символа древнего Израиля Ласско, однако, решительно не согласился: «Мельхиседек большинством ученых воспринимается как библейский прообраз Христа, поэтому чаша и прочие предметы в его руках, скорее всего, — символы христианского причастия». А вот на второй вопрос Ласско затруднился ответить: «Нет, я никогда не слышал, чтобы строители Шартрского собора вдохновлялись какими-либо иными рассказами, кроме библейских и христианских. Я не знаю ни одного источника, где бы отмечалось влияние эфиопских, да и вообще африканских мотивов на архитектуру собора…» Потом он замолчал, задумался и неожиданно добавил: «Впрочем, ошибаюсь… Мне кажется, что когда-то я читал статью, в которой говорилось о проникновении эфиопских идей в средневековую Европу. И знаете — речь там шла именно о святом Граале! Насколько я помню, автор утверждал, что Вольфрам фон Эшенбах находился под влиянием какой-то эфиопской христианской традиции». — «Да кто он такой, этот Эшенбах?» — нетерпеливо вскричал Хэнкок. «О, это довольно известная личность. Один из первых, кто писал о святом Граале. Он написал целую книгу о его поисках. Она называется «Парсифаль»…» — «По-моему, так называется опера Вагнера…» — неуверенно пробормотал Хэнкок. «Вот именно! Вагнер вдохновлялся романом Эшейбаха». — «И этот Эшенбах… когда он жил?» — «В конце двенадцатого — начале тринадцатого века. Тогда же, когда создавался северный портал Шартрского собора». Какое-то время оба собеседника молчали. Потом Хэнкок с надеждой спросил: «Эта статья, о которой вы упоминали, — кем она написана?» — «Убейте, не помню, — сконфуженно ответил Ласско. — Это было лет двадцать назад. Помню только, что это был какой-то Адольф. Имя немецкое, и оно связалось в моей памяти с именем Эшенбаха — он ведь тоже был немец». Теперь в руках Хэнкока была уже не одна, а целых три загадки: загадка исчезнувшего Ковчега, загадка его непонятной связи с легендой о святом Граале и загадка имени автора той давней статьи, который, судя по воспоминаниям Ласско, уже двадцать лет назад заинтересовался той же проблемой. Прошло больше года, прежде чем он нашел ответ на третью загадку. И этот ответ действительно пролил некий свет на первые две. Но, как это часто бывает, в более ярком, свете стали видны новые, еще более загадочные детали. * * *Итак, Хэнкок обнаружил загадочную цепочку: древняя Эфиопия — средневековая Франция, легенда о похищенном Ковчеге — легенда о святом Граале. Но что могло связывать эти отдаленные друг от друга места? Что могло быть общего между древнееврейской святыней и мистическим христианским сокровищем? Если о Ковчеге история, как мы уже знаем, молчала, то о Граале она упоминала часто и пространно. Стоило Хэнкоку погрузиться в эти упоминания, как поиск немедленно привел его к любопытным и неожиданным выводам. Самым известным источником сведений о фантастической чаше Грааля был знаменитый роман Томаса Мэллори «Смерть Артура». Написанный в XV веке, этот свод легенд о знаменитом английском короле Артуре, за Круглым столом которого собирались самые выдающиеся рыцари страны, посвящал Граалю одну из семи своих книг, озаглавленную в духе эпохи витиевато и велеречиво: «Повесть о святом Граале в кратком изводе с французского языка, каковая есть повесть, трактующая о самом истинном и самом священном, что есть на этом свете». Начиналась повесть с того, что однажды ко двору короля Артура явилась девица благородных кровей, которая попросила помощи королевских рыцарей в неком важном и запутанном деле. Эта просьба, которую рыцари, разумеется, сочли необходимым уважить, привела к запутанной череде невероятных приключений славного рыцарского коллектива, включавшего сэра Ланселота, сэра Галахада, сэра Гавейна и других сэров. В конце концов, им удалось найти искомый заколдованный замок, в глубинах которого обнаружилась скрытая комната, в центре которой виднелся серебряный престол, на каковом престоле покоилась некая таинственная чаша. Чаша эта оказалась способной на всевозможные необыкновенные чудеса. Одним из первых таких чудес было явление благообразного седовласого старца, который сообщил рыцарям, что он является первым христианским епископом Британии Иосифом Аримафейским, умершим двести лет назад. Поведав это, — старец исчез, уступив место самому Иисусу Христу, который сообщил пораженным рыцарям, что из найденной ими чаши он некогда ел и пил на Пасху, а позже ученик его, вышеупомянутый Иосиф Аримафейский, собрал в нее его кровь, пролитую во время распятия. Из примечаний к книге Хэнкок узнал, что упоминание о ее французском, первоисточнике не было случайным — сочиняя свой роман в одиночестве тюремной камеры, куда его привели политические авантюры, английский дворянин Томас Мэллори действительно вдохновлялся более ранними французскими хрониками. Обратившись к этим хроникам, Хэнкок столь же быстро выяснил, что у их авторов не было еще никаких представлений ни о священной чаше, ни об Иосифе Аримафейском, ни об «Иисусовой крови». Король Артур в этих ранних рыцарских романах отправлялся не на поиски заколдованного замка, а, наподобие многих фольклорных героев, спускался в царство мертвых и искал там вовсе не чашу, а сказочный «котел изобилия» по имени «Анвен». Лишь позднее, к началу XII века, в романах артурова цикла стала появляться фигура пресловутого Иосифа, которая все чаще и чаще наделялась чертами «первокрестителя» бриттов и англосаксов. Одновременно с этим стала упоминаться в этих романах и христианская легенда о некой чаше, в которую тот же Иосиф якобы собрал кровь Иисуса. А потом произошло «сращение» двух предметов: артуров «котел изобилия» слился в воображении хронистов с чашей Иосифа. Даже название чудесной чаши пошло отсюда: кельтское слово «сгуо!» (корзина изобилия) превратилось в старофранцузское «sang real», или «истинную кровь», а это, в свою очередь, стало читаться, как «san great», то есть святой Грааль. С этого момента похождения рыцарей короля Артура стали приобретать совершенно новый, христианско-мистический смысл. Теперь это были уже не просто странствия в поисках схваток и приключений, а целенаправленные поиски чаши святого Грааля, предпринимаемые ради содержащейся в ней Божественной благодати. Чудесная чаша начинает появляться также в живописи и скульптуре того времени, в том числе и на стенах тогдашних соборов, вроде Шартрского. А немного позже она уже оказывается в центре пространных романов, посвященных ее поиску и обретению. Первый такой роман написал в конце XII века знаменитый бретонский автор Кретьен де Труа, создатель пятитомного цикла о короле Артуре. О Граале там говорится много и возвышенно: он-де способен на то и на се, и на это, и вообще он «поддерживает жизнь во всей ее силе», но, как ни странно, при этом ни разу не сказано, как же выглядит этот необыкновенный предмет. Из контекста же совершенно невозможно понять, то ли это действительно чаша, то ли сосуд побольше, вроде супового котла (в одном месте Кретьен так и заявляет: герою, мол, подали в Граале очередную порцию пищи), то ли еще что-то третье. На мысль о «третьем» Хэнкока навело чтение второго по времени появления прославленного романа о Граале — написанной уже в начале XIII века книги немецкого автора Вольфрама фон Эшенбаха «Парциваль». Тут Грааль вообще именовался… «Камнем». В тексте Эшенбаха прямо и недвусмысленно говорилось: «Как бы ни был болен человек, с того дня, что он увидит Камень, он проживет, по меньшей мере, неделю, и даже цвет лица у него не изменится. Такая сила дана этому Камню над смертными, что их плоть и кости вскоре делаются такими же, как у молодых. Камень этот называется Грааль». История явно усложняется. Оказывается, в момент своего первого появления в литературе Грааль не имел фиксированного облика: Кретьен представлял себе что-то вроде сосуда, Эшенбах — что-то вроде камня. Как же он превратился в «чашу»? Кто был «виновником» этого превращения? Как и в детективных романах, исторический «преступник» тоже оставляет за собой следы, и в данном случае цепочка таких следов вела, как вскоре выяснил Хэнкок, к знаменитому в раннем средневековье монашескому ордену цистерцианцев. Это его братья первыми составили свод апокрифов под общим названием «В поисках святого Крааля», после появления которого загадочный «сосуд» из романа Кретьена и «Камень» из книги Эшенбаха были полностью вытеснены новым представлением о Граале как о чаше с кровью Христовой. Но вскоре представление это претерпело еще один неожиданный и странный поворот. В конце XII века орден цистерцианцев был преобразован и устроен совершенно по-новому. Инициатором и руководителем этого преобразования был знаменитый церковный деятель того времени — епископ Бернард Клервосский. Влияние Бернарда сказалось не только на деятельности ордена цистерцианцев и на христианском богословии; он наложил свой отпечаток также на тогдашнюю церковную живопись и архитектуру. А одной из основных его идей в этой области было символическое отождествление Богородицы со «священным сосудом», а проще говоря — с чашей Грааля. Подобно тому, как чаша эта, согласно легенде об Иосифе Аримафейском, содержала Иисусову кровь, чрево Богородицы в свое время содержало Иисусову плоть. Вот почему в скульптурах соборов, посвященных Богородице, строительство которых было вдохновлено Бернардом Клервосским, так часто появлялось изображение-чаши Грааля — это был попросту символ девы Марии. Но у Бернарда, оказывается, была еще одна навязчивая идея. Он считал, что дева Мария подобна не только сосуду с плотью Христовой, но и хранилищу Христова учения! Вместе с Божественным младенцем ее чрево содержало в себе также и будущий Завет Христа с человечеством — так называемый Новый Завет, который, по убеждению христиан, отменил и заменил собой Ветхий Завет, заключенный Богом с праотцем Авраамом. И вот тут-то и возник в сознании Бернарда тот неожиданный поворот мысли, о котором мы только что упомянули. Если дева Мария хранила в себе Новый Завет в облике Иисуса, то она была подобна в этом тому знаменитому Ковчегу, который, согласно Библии, хранил в себе Ветхий Завет в виде скрижалей Моисея! И вот в молитвах, сочиненных епископом из Клерво, появляется выражение «Богоматерь Ковчега Завета». Родившись в XII веке, оно сохранилось до нашего времени: в Кирьят-Йаарим, что между Тель-Авивом и Иерусалимом, стоит построенная в 1924 году доминиканская церковь, которая так и называется «Храм девы Марии-Ковчега Завета». И украшен он изображением Ковчега. Итак, дева Мария и «живой Грааль» с его Иисусовой кровью, и «живой Ковчег» с его каменными скрижалями. Это позволяет понять, почему Мельхиседек в арке Шартрского собора — посвященного, кстати, той же деве Марии! — держит в руках чашу Грааля, а рядом с ним находится скульптурное изображение Ковчега. Остаются, однако, две загадочные детали: «камень» в чаше, что в руках Мельхиседека, и тележка, на которой лежит Ковчег. Камень в чаше Грааля явно намекает на очень архаичное, еще доцистерцианское, эшенбаховское толкование Грааля как «Камня», а тележка напоминает об эфиопской легенде, рассказывающей о похищении Ковчега из Иерусалима и транспортировке его в Эфиопию. И тут в мозгу Хэнкока вспыхнула дерзкая догадка: а не могло ли быть так, что именно эта эфиопская легенда, проникнув в христианскую Европу, и легла здесь в основу рассказа о чаше святого Грааля? Вообразим такую цепочку: европейским христианам известен евангельский рассказ о чаше, в которую тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого учителя; с другой стороны, имеются смутные воспоминания, что какой-то Иосиф когда-то пришел из Иерусалима проповедовать христианство; а? с третьей, становится популярной легенда, что кто-то унес из того же Иерусалима Ковчег Завета, который есть символ девы Марии, которая, в свою очередь, есть символ чаши с кровью Иисуса. Так, может, чаша эта и есть вместилище каменных скрижалей, унесенное не каким-то там Менеликом, а Иосифом, и не в Эфиопию, а в Европу?! Если это так, то никакой чаши Грааля никогда и не было. В обоих рассказах — о короле Артуре и о принце Менелйке — речь шла не о двух разных предметах, а об одном и том же — и предметом этим в обоих случаях был утраченный Ковчег! Догадка была действительно дерзкой. Но хуже того — она была еще и фантастичной. В самом деле, даже согласившись с тем, что святой Грааль — это просто Ковчег Завета, как объяснить проникновение эфиопской легенды в средневековую Европу? И не просто проникновение, но и такое распространение, которое позволило Вольфраму фон Эшенбаху назвать Грааль «Камнем», а великому Бернарду Клервосскому связать оба предмета в единый религиозный символ? Мыслимо ли это и как это могло произойти? Свет на загадку пролила та статья, о которой в давнем разговоре с Хэнкоком упомянул, если помните, профессор Ласко. В конце концов, Хэнкок все-таки статью эту разыскал. Ее автором оказалась известная медиевистка (специалистка по средним векам) Елена Адольф. Название статьи было сложным и академически занудным: «Новые соображения о восточных источниках романа «Парциваль» Вольфрама фон Эшенбаха». Одно слово в этом названии приковало внимание Хэнкока: «ВОСТОЧНЫЕ…» Он трясущимися руками развернул журнал. И сразу же понял: да, Елена Адольф утверждает, что Эшенбах «знал историю Грааля в ее восточном, точнее — эфиопском, варианте». Эфиопский вариант легенды о Граале… Это означало, что его дерзкая гипотеза переставала, по крайней мере, быть фантастичной. Ибо слова Елены Адольф Давали этой гипотезе первое, но зато вполне серьезное подтверждение. И подталкивали мысль к новому поиску. Следы утраченного Ковчега, несомненно, следовало искать в Эфиопии. Елену Адольф, эту авторитетную специалистку по средневековой литературе, интересовал чисто литературоведческий вопрос: почему Вольфрам фон Эшенбах, взявшись завершить незаконченный роман Кретьена де Труа о поисках святого Грааля, вдруг повернул своего «Парцифаля» в совершенно неожиданную сторону — превратил тот Грааль, что у Кретьена выглядел скорее как сосуд, в какой-то непонятный «Камень»? Эту загадку она объясняла тем, что Эшенбах, судя по всему, был знаком с эфиопским источником под названием «Кебра Нагаст» — тем самым, в котором рассказывается история похищения иерусалимского Ковчега Завета Менеликом, сыном царя Соломона и царицы Савской, первым «царем Эфиопии». Легенда из «Кебра Нагаст», утверждала Адольф, видимо, произвела на Эшенбаха такое впечатление, что он решил как-то совместить ее с легендой о Граале. Может быть, он рассчитывал, что это сделает его роман еще более популярным среди читателей, чем роман Кретьена. * * *Елена Адольф не пыталась объяснить, каким образом эфиопская легенда могла попасть в средневековую Европу. Ее как литературоведа это и не особенно интересовало. Она лишь мельком заметила, «что переносчиками предания могли быть еврейские купцы, которые в те времена смело странствовали по различным частям света, наверняка бывали в Эфиопии, где было свое иудейское население, фалаши, а уж в Европе и вообще чувствовали себя как дома». Хэнкока, напротив, не интересовали литературные влияния. Ему было куда важнее, что Адольф тоже, в сущности, связала Грааль с Ковчегом. Но его предположения шли куда дальше, чем гипотезы Елены Адольф. Не может ли быть, что Эшенбах не столько намеревался расцветить свое повествование о Граале еще одной красивой легендой, сколько хотел рассказать именно о судьбе и поисках загадочно исчезнувшего Ковчега, а для этого зашифровал его историю — скрыл ее под маской рассказа о поисках Грааля? Коль скоро дело было так, то. и в тексте романа могли содержаться — скрытые, конечно, и понятные лишь для посвященных — указания на место, где и доселе хранится эта древняя священная реликвия. Как дешифруются тайные послания? Один способ состоит в поиске ключа к шифру. Для этого применяются всевозможные научные методы в сочетании с интуицией и косвенными соображениями. Однако куда надежнее другой способ: нужно хорошо знать, что вы хотите найти. И тогда успешная расшифровка вам почти гарантирована. Хэнкок выбрал именно этот путь. Он стал вчитываться в текст «Парцифаля». Мелкие детали, не замеченные при первом чтении, теперь останавливали его буквально на каждом шагу. Вот, например, у Эшенбаха говорится, что Грааль способен прорицать будущее, и в Библии о Ковчеге сказано примерно то же самое. Грааль — источник плодородия, и библейский Ковчег — источник плодородия. Грааль сам собой светится, и Моисей, возвратившийся с горы Синай со скрижалями Завета, тоже светился, да так, что сыны Израиля боялись к нему приближаться. Мало того! Когда Моисей первый раз спустился со скрижалями, он увидел, что евреи за время его отсутствия начали поклоняться Золотому тельцу. А у Эшенбаха рассказывается о неком Флегетанисе, который тоже «поклонялся тельцу, как Богу». Совпадение? Нет, явно не просто совпадение. Этому Флегетанису в романе отведена важная роль: именно ему небеса открывают имя Грааля. Иными словами, Грааль имеет прямую связь с небесами. Но ведь и скрижали Завета имеют такую связь! Сказано же в Библии, что они продиктованы («открыты») Моисею Богом. Какой реальный смысл может стоять за этим настойчивым упоминанием о небесном характере обоих предметов? Не идет ли речь о метеорите? Некоторые историки давно предположили, что моисеевы «скрижали» были в действительности двумя кусками «небесного камня». Древние народы весьма почитали такие «послания небес». Знаменитый черный камень, вмурованный в угол мекканской Каабы и почитаемый всеми мусульманами мира, — это ведь тоже не что иное, как метеорит. По преданию, он упал с неба на землю еще во времена Адама, чтобы вобрать в себя адамов «первородный грех»; затем перешел к Аврааму; а уже потом оказался во владении пророка Магомета. Любопытная деталь вдруг приковала внимание Хэнкока: у мусульман амулеты из метеоритного камня назывались «бетиль», что в средневековой Европе превратилось в «ляпис бетилис». А у Эшенбаха имя Камня-Грааля, открывшееся Флегетанису, было «ляпис экзилис» — словно нарочито искаженное «ляпис бетилис», да еще со своим многозначительно намекающим смыслом: ведь «ляпис экзилис», если перевести с латыни, — это «камень с неба». Нет, решительно все дороги, то бишь все намеки и совпадения, вели в Эфиопию. Недоставало лишь прямо указующего туда перста. Но и перст, оказывается, был! Нужно было только проникнуть в еще более глубокие пласты эшенбаховского шифра — и Хэнкок это сделал. Вчитываясь в текст «Парцифаля», он обнаружил одно странное и, на первый взгляд, мало связанное с основным сюжетом место — что-то вроде вставной легенды. Рассказывалось о неком рыцаре Гамурете, который отправился в страну Зазаманк и там встретился, с прекрасной ТЕМНОКОЖЕЙ царицей Белаканой. От этой встречи родился сын по имени Фейрефиз, но случилось это уже после того, как рыцарь Гамурет покинул свою темную возлюбленную и вернулся в Европу. Там он сошелся еще с одной красавицей, на сей раз белой, которая родила ему Парцифаля — истинного героя романа и главного искателя Грааля. Оставим на время Парцифаля и зададимся вопросом: что можно сказать о его отце? Или его история — роман любвеобильного белого аристократа и темнокожей царицы из экзотической страны — не напоминает нам что-то мучительно знакомое? Разумеется! При некотором усилии воображения можно немедленно опознать в рассказе основные черты истории Соломона и царицы Савской: любвеобильный герой, темная царица, экзотическая страна, незаконный сын. А вот и решающее доказательство: в «Кебра Нагаст» царь Соломон прямо говорит: «Этот сын, который похитил Ковчег Завета, он от женщины иного цвета, из другой страны, и даже вовсе черный…» Кстати, что это за имя такое — Фейрефиз? Звучит, конечно, экзотически, но поскольку автор романа — европеец, легко предположить, что свои экзотические имена и названия он изобретал, искажая знакомые слова какого-нибудь европейского языка. И, действительно, знающему человеку в слове «Фейрефиз» тотчас и отчетливо слышится французское «vrai fils», то бишь «истинный сын». И тут уж ему легко припомнить, что в той же «Кебра Нагаст» Соломон приветствует Менелика словами: «Ты мой истинный сын». Если у кого-то еще оставались сомнения в тождестве Фейрефиза и Менелика, то теперь они наверняка развеялись. И только повисший в воздухе след этих сомнений, их, можно сказать, исчезающий аромат заставляет все-таки вяло запротестовать: зачем же, зачем понадобилось Эшенбаху так сложно зашифровывать имена и географические названия? Написал бы просто: Менелик, Соломон, Эфиопия!.. Ответ на этот вопрос у Хэнкока готов — поскольку немецкий автор писал поверх французского первоисточника, явно используя роман о Граале для зашифровки истории Ковчега, то, видимо, у него были на то серьезные основания, и, дальнейшее терпеливое изучение текста должно вскрыть и эти основания, и самый шифр. Оставим поэтому вредные сомнения и всмотримся в дальнейшие злоключения Фейрефиза, уже обнаружившего себя в качестве зашифрованного Менелика — похитителя Ковчега. Достигнув соответствующего возраста и совершив положенное по жанру рыцарского романа количество подвигов, сей темнокожий принц, сообщает нам Эшенбах, женился на благородной даме Репансде Шойе, о которой ранее в романе мельком сообщалось, что она была той, кому Святой Грааль дал себя нести! Но мало этого — от брака Фейрефиза и Репанс родился сын, имя которого так знакомо, так легендарно, так знаменито, что не может не отозваться в сердце каждого знатока средневековых легенд. Имя это — пресвитер Иоанн. Тут мы окончательно убеждаемся, что Вольфрам фон Эшенбах весьма последовательно держался правила приплетать к истории Грааля все интересное и загадочное, о чем рассказывалось в то время длинными зимними вечерами в немецких деревнях. Сначала он поселил в своем романе Менелика-Фейрефиза из эфиопской легенды, а теперь впустил туда еще и пресвитера Иоанна. Напомним для начала, кто такой этот Иоанн. Впервые поведал о нем европейцам епископ Отто из Фрейзингена в 1145 году. Сославшись на сообщение некого «сирийца», епископ заявил, что где-то на Востоке живет могущественный царь-христианин, который готов предоставить в распоряжение крестоносцев свои огромные армии для отражения арабской угрозы. Еще через 20 лет в Европе распространился слух, что этот царь прислал европейским монархам личное письмо, в котором называл себя «пресвитером Иоанном, владыкой четырех Индий» и повторял предложение прийти на выручку крестоносцам в Святой земле. На письмо «пресвитера» ответил сам папа римский Александр III, который счел необходимым упомянуть, что о царе Иоанне ему давно известно из другого источника: сообщили, мол, из Святой Земли, что посланцы «пресвитера» просили выделить для своего монарха один из алтарей в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. (Запомним эту деталь, она сейчас окажется существенной.) * * *История пресвитера Иоанна положила начало розыскам — христианского царства «на Востоке» (об этом увлекательно рассказывал Лев Гумилев в книге «В поисках вымышленного царства», написанной еще до того, как автор всецело отдался делу разоблачения «врагов рода человеческого» в лице коварных евреев). Во всех этих исканиях царство Иоанна неизменно помещали «в Индиях». У Эшенбаха место, где поселились Фейрефиз и Рапанс и родился их сын, будущий пресвитер Иоанн, называется иногда «Трибалибот», иногда «Зазаманк», а иногда просто «Индия». Получается как будто, что и темнокожая царица Белакана — тоже родом из Индии (она ведь из Зазаманка). Но вся эта географическая путаница заметно упрощается, если вспомнить, что уже византийский монах Руфинус, первым описавший распространение христианства в Эфиопии, упоминая в своей книге мельчайшие детали ЭФИОПСКОЙ географии, саму страну, тем не менее, упорно именует ИНДИЕЙ. В средние века знаменитый Марко Поло тоже писал: «Абиссиния — это большая провинция, которая называется срединной, или второй Индией». А падре Альварец, который в 1520-526 гг. совершил путешествие по Эфиопии, прямо назвал свою книгу об этом путешествии «Правдивое описание страны Пресвитера Иоанна из Индий». Вслед за Альварецом многие другие европейские путешественники и картографы начали именовать христианского монарха Эфиопии «пресвитером Иоанном». Да и как было именовать его иначе, если в «Индиях» никакого христианского царства не обнаруживалось, зато в Эфиопии оно было издавна?! Обратим внимание, что такой авторитетный источник, как «Энциклопедия Британника», «сведя воедино все рассказы о «пресвитере Иоанне», недвусмысленно заявляет, что этот титул издавна присваивался абиссинскому королю, хотя какое-то время его — царство помещали в Азии». Итак, можно считать доказанным, что страна, в которой происходит действие вставной новеллы о Гамурете, Белакане, Фейрефизе, Репанс де Шойе и «пресвитере Иоанне», — это Эфиопия, как бы она ни называлась у любителя экзотических имен Эшенбаха. А теперь обратим внимание на некий совсем уж малоизвестный факт. Оказывается, у Эшенбаха, в свою очередь, был продолжатель. Через 50 лет после его смерти некто Альбрехт фон Шарфенберг решил довести до счастливого конца историю поисков святого Грааля, рассказанную Эшенбахом в «Парцифале», и написал роман «Молодой Титурель», утверждая, что в его основе лежит неопубликованный эпилог «Парцифаля». Чтобы сделать свое утверждение правдоподобным, Альбрехт так рабски следовал в своей книге манере Эшенбаха, что многие исследователи до сих пор убеждены в наличии прямой связи между обеими книгами. Так вот, в финале «Титуреля» святой Грааль найден и благополучно доставлен на вечное хранение — куда бы вы думали? В страну пресвитера Иоанна! Добивать — так добивать окончательно. Если вы помните, папа римский, отвечая «пресвитеру» (ответ датирован 1177 годом), писал, что узнал о нем благодаря просьбе о выделении алтаря. Так вот, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, начиная с 1189 года, действительно был такой алтарь — только принадлежал он ЭФИОПСКОЙ церкви, а пожалован был не крестоносцами, а великим арабским полководцем Саладином, который в 1187 году изгнал крестоносцев из Святого города. Этот переход святых мест в руки мусульман произошел буквально за несколько лет до того, как Вольфрам фон Эшенбах начал писать свой роман о поисках Грааля-Ковчега, а мастера Шартрского собора приступили к созданию скульптур, изображающих историю тогр же загадочно исчезнувшего предмета. Такое совпадение во времени явно не случайно. Человек с живым воображением не может не ощутить во всем этом привкус тайны. Наложение дат, имен и событий слишком уж осязаемо, чтобы от него отмахнуться. И, если вдуматься, то есть только одна правдоподобная гипотеза, которая способна прочертить вразумительный пунктир причинно-следственной связи сквозь всю эту запутанную сеть совпадений и намеков. Отдадим должное Грэму Хэнкоку — он сформулировал этот факт очень четко и убедительно. Гипотеза, навязываемая всей совокупностью отмеченных выше совпадений, формулирует Хэнкок, требует предположить, что захват арабами Иерусалима и изгнание оттуда крестоносцев почему-то заставили размышлять о судьбе Ковчега Завета. Кому-то каким-то образом стало известно, что эта великая реликвия не досталась Саладину, а была спрятана в Эфиопии, причем место его пребывания является величайшим секретом — знать о нем надлежит только «посвященным в тайну». Этот «кто-то» сообщил о тайне Вольфраму фон Эшенбаху; возможно, он же поведал секрет и мастерам из Шартра, ученикам Бернарда Клервоского: этим мастерам, строившим в то время храм Пресвятой Богородицы, которую их учитель Бернард считал мистически связанной с Граалем и Ковчегом, тайна Ковчега наверняка тоже была интересна. Мастера запечатлели основные моменты рассказа в глухих намеках скульптурной процессии, изображенной на колоннах северной арки собора. Что же касается Эшенбаха, то он попытался сохранить и передать потомкам тайну местопребывания Ковчега, только зашифровал все это в форме рассказа о Граале — чтобы поняли только «посвященные». * * *Кто же был этот загадочный «кто-то»? То должен был быть человек (или группа людей), хорошо осведомленный о событиях в далеком Иерусалиме, знавший легенды, связанные с утраченным Ковчегом (в том числе и легенды из эфиопской книги «Кебра Нагаст»), и заинтересованный в сохранении всей этой истории для «посвященных» из следующего поколения. Этот человек (или люди) должен был находиться в Святой Земле уже в момент прибытия туда посланцев «пресвитера Иоанна», то есть в 1145 году, и, по всей видимости, оставался там до прибытия посланцев эфиопского царя, то есть до 1177 года (контакт с этими посланцами мог, кстати говоря, объяснить знакомство с эфиопской легендой о Ковчеге). С другой стороны, этот человек (или люди), до поры до времени хранивший все эти сведения при себе, с какого-то момента стал проявлять решительное желание сохранить их для потомства хотя бы и в зашифрованном виде. И, судя по всему, он имел достаточные связи в Европе, чтобы это желание реализовать — например, через. Вольфрама фон Эшенбаха, подсказав тому облечь сообщение в форму рыцарского романа о Граале. Мысль, построившая эту логическую цепочку, неизбежно и немедленно должна устремиться на поиски следов этого загадочного человека. Но отдельный человек вряд ли способен осуществить такой сложный и разветвленный план. Стало быть, здесь действовала целая группа. Нет ли в истории упоминаний о; какой-то группе, которая, находясь в Иерусалиме, в то же время сохраняла связи с Европой, имела там, недюжинное влияние и к тому же была по каким-то своим причинам заинтересована сохранить для будущего тайну утраченного Ковчега? Стоит нам так поставить вопрос, как мы тотчас вспоминаем, что мы, в сущности, знаем такую группу. О ее могуществе, тайнах и разветвленном влиянии, о ее возникновении и кровавом конце написаны сотни научных трудов и увлекательных романов. И, что самое важное в данном контексте, о ней прямо упоминает сам Эшенбах, который, судя по некоторым сведениям, к группе этой и принадлежал. Речь идет о знаменитом ордене «Нищенствующих рыцарей Иисуса Христа и храма Соломона», а, проще говоря, «храмовниках» или — «тамплиерах» (от французского «temple», то есть «храм»). Основанный в 1118–1119 годах в Иерусалиме, орден этот имел свою — штаб-квартиру как раз на месте бывшего Соломонова Храма — того самого, откуда некогда, в библейские времена, так загадочно исчез Ковчег Завета. После изгнания крестоносцев из Палестины тамплиеры обосновались во Франции, где в начале следующего — XIII — века против них был возбужден знаменитый инквизиторский процесс, закончившийся казнью руководителей ордена и не менее знаменитым проклятием французским королям, которое провозгласил перед смертью великий магистр храмовников (и которое, добавим, не замедлило сбыться). В этом промежутке, между возникновением и исчезновением ордена, тамплиеры, судя по всему, и проникли в тайну Ковчега. Что ж, значит, поиск этой утраченной святыни ведет нас теперь прямиком к недолгой, но бурной истории загадочного, окруженного мистической тайной ордена, и нам остается лишь, перефразируя популярное нынче название «назад в будущее», воскликнуть: вперед в прошлое, и пусть любознательность нам поможет! * * *Итак, мы вернулись в XII век, к истокам рыцарского ордена храмовников-тамплиеров. Согласно гипотезе Хэнкока, именно они находились в центре всех тех загадочных событий, которые разыгрались вокруг утраченного Ковчега. Напомним, в чем состояла загадка. Ковчег Завета, столько раз упоминавшийся в Библии вплоть до нашествия вавилонян, внезапно и без всякого объяснения перестает упоминаться. Складывается впечатление, что Ковчег исчез. То ли евреи взяли его с собой в вавилонский плен, то ли он был спрятан, чтоб не попасть в руки захватчиков, а позже так и не найден. Существует, однако, и третья, куда более романтическая версия: Ковчег был похищен из Иерусалима еще во времена царя Соломона и увезен в другую страну. Эта версия основана на легендах, излагаемых в древнем эфиопском манускрипте «Кобра Нагаст». Там рассказывается, что сын Соломона и знаменитой царицы Савской, Менелик, тайком доставил Ковчег в Эфиопию, где эта священная реликвия находится до сих пор. Каким-то странным образом эта легенда проникла в средневековую Европу. Во времена крестовых походов в Европе неожиданно стали распространяться романы о поисках святого Грааля, который, судя по многим приметам, есть иное имя Ковчега Завета. В одном из самых знаменитых таких романов «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха местопребывание Ковчега-Грааля напрямую связывается с Эфиопией. Легенды «Кобра Нагаст» находят также отражение и в скульптурных изображениях относящегося к той же эпохе Шартрского собора, строители которого были вдохновлены знаменитым религиозным деятелем того времени епископом Бернардом Клервоским. Видимо, кто-то, знавший эфиопскую версию судьбы Ковчега, познакомил с ней и Бернарда и Эшенбаха, а, может быть, и содействовал тому, чтобы эта версия была зашифрована как в «Парцифале», так и в шартрских скульптурах. Проблема осложняется еще одним обстоятельством. Примерно в то же время, когда в Европе вспыхнул неожиданный интерес к судьбе давно утраченного Ковчега, получило распространение странное «Письмо», якобы присланное папе и европейским монархам неким «пресвитером Иоанном», который именовал себя повелителем христианского царства на Востоке и предлагал крестоносцам свою помощь в борьбе с полчищами арабского полководца Саладина. В качестве платы за это он просил выделить его подданным место для молитвы в иерусалимском храме Гроба Господня. Многочисленные факты говорят за то, что «царство пресвитера», если оно вообще существовало, находилось все в той же Эфиопии. Это подтверждается и тем. обстоятельством, что посланцы эфиопских христиан действительно побывали в то время в Иерусалиме и добивались для себя такого места в храме. (Они и получили его, но только после захвата города Саладином в 1187 году.) И словно для того, чтобы окончательно запутать всю историю, в романе «Молодой Титурель», продолжившем и завершившем эпопею поисков Грааля-Ковчега; местом его окончательного упокоения было названо «царство пресвитера Иоанна». Теперь уже и непосвященному становится ясно, что нити загадки тянутся в Палестину и Эфиопию времен крестовых походов, и остается лишь опознать тех людей, которые были связаны с этими местами и обладали достаточным влиянием, чтобы внушить европейцам мысль о том, что Ковчег существует и находится в Эфиопии. Заслуга Хэнкока состоит в том, что он такую «подходящую» группу людей нашел. Согласно его гипотезе, то были члены знаменитого рыцарского ордена тамплиеров. Действительно, история этого ордена с первых же шагов связана с Палестиной. В 1119 году, когда палестинское государство крестоносцев возглавлял король Болдуин, девять французских аристократов прибыли в Иерусалим и попросили разрешения основать здесь новое «Братство бедных рыцарей Христовых и Соломонова Храма», в просторечье — храмовников, или тамплиеров. Болдуин разрешил им построить здание на Храмовой горе, неподалеку от мечети Эль-Акса. Храмовники заявили, что их главной задачей будет охрана дороги Иерусалим-Яффа от нападений арабских отрядов. На самом же деле охраной они почти не занимались — это вполне успешно делали их конкуренты из ордена иоаннитов. Храмовники же занимались чем-то другим. Судя по сохранившимся сведениям, они усиленно исследовали недра Храмовой горы. Спустя почти 800 лет израильские археологи обнаружили пробитый ими туннель, уходивший далеко под основание Эль-Аксы — туда, где в Соломоновы времена находилось основание Первого Храма. Что именно искали там храмовники, неизвестно — этот орден с самого начала окружил свою деятельность непроницаемой завесой тайны. Нарушителям клятвы молчания грозило исключение из ордена и суровое наказание. Можно, однако, догадаться, что воображение; храмовников, по всей видимости, воспламеняла еврейская легенда, согласно которой в недрах Храмовой горы спрятаны сокровища древнего Храма, в том числе и сам Ковчег Завета. Надежда на обретение этих древних реликвий сыграла немалую роль в истории крестовых походов вообще. Как пишет в своем исследовании «Поиски Грааля» Эмма Юнг (жена знаменитого Карла Густава Юнга), «глубоко укорененная в средневековом воображении мысль о «скрытых сокровищах» была одной из причин того, что призыв к освобождению Гроба Господня вызвал такой мощный отклик во всей тогдашней Европе». Видимо, первые храмовники не нашли того, что искали, потому что семь лет спустя они вернулись в Европу и здесь обратились за помощью к уже упоминавшемуся Бернарду Клервоскому (среди членов «девятки» был родной дядя епископа). По настоянию Бернарда церковь собрала специальный собор в Труа и утвердила там новый орден и его устав. В уставе ничего не говорилось о тайных целях ордена, но один из более поздних источников утверждает, что «истинной задачей храмовников были поиски свитков, запечатлевших тайные традиции древних евреев и египтян». Бернард начал чуть не в каждой проповеди прославлять новый орден и призывать к вступлению в него. Толпы молодых людей хлынули в ряды храмовников, и уже к концу века их орден стал одним из самых могущественных, самых богатых и, добавим, самых засекреченных среди европейских монашеских орденов того времени. * * *Хэнкок полагает, что первые храмовники все же что-то нашли. Не Ковчег, конечно, — об этом сразу стало бы широко известно, но, возможно, какие-нибудь древние рукописи. Во всяком случае, именно со времен храмовников в Европе — под влиянием того же Бернарда — зарождается совершенно новая, готическая архитектура, одним из первых образцов которой и был Шартрский собор. Не исключено, говорит Хэнкок, что эта архитектура и была воплощением «древних традиций», открытых храмовниками в каких-то документах, относящихся к постройке Первого Храма. Как я уже сказал, Шартрский собор впервые отразил в своих скульптурах эфиопскую легенду о похищении Ковчега Менеликом. А вслед за тем — почти в те же годы легенда эта проникла и в рыцарский роман о поисках Грааля — с легкой руки Эшенбаха и его продолжателей. Можно думать, что и она пришла в Европу через храмовников. Вспомним, что храмовники должны были стать свидетелями прибытия в Иерусалим посланцев эфиопских христиан. От них они могли узнать и о существовании в Эфиопии огромного христианского царства, и о легендах, изложенных в манускрипте «Кобра Нагаст». Первая новость могла положить начало слухам о «царстве пресвитера Иоанна» — тем более что официальный титул тогдашних эфиопских царей включал слово «Иан» (произведенный от «Иано», что означало пурпурное одеяние царей), а это слово легко могло превратиться в европейское «Иоанн». Что же до второй новости — о местонахождении исчезнувшего Ковчега, — то она тем более могла подхлестнуть воображение храмовников, которые вот уже долгие годы разыскивали эту реликвию. Более того, она могла дать новый толчок этим заглохшим к тому времени поискам. Подтвердить или опровергнуть все эти догадки могут только детальные исследования. Прежде всего, необходимо установить, не содержится ли в источниках упоминаний о связях между храмовниками и Эфиопией. История тогдашней Эфиопии известна относительно неплохо. Примерно в 1000 г. н. э. здесь была свергнута царствовавшая до того династия потомков Менелика, этого легендарного сына Соломона и царицы Савской, и на престол взошла некая Гудит (возможно — Йегудит), предводительница эфиопских еврейских племен, давно воевавших с христианскими царями страны. Однако в северной части Эфиопии сохранилась власть другой Династии, Загве, и царем ее во второй половине XII века стал некто Харбай. Свое правление он начал с того, что изгнал из страны младшего брата Лалибелу, опасаясь, что тот покусится на трон. В 1160 году Лалибела бежал из Эфиопии в Иерусалим, где и провел последующие четверть века. Отметим несомненную возможность прямого контакта Лалибелы с Иерусалимскими храмовниками и пересказа им эфиопской легенды о судьбе Ковчега. Но, прежде чем вдаваться в последствия этого знакомства, проследим за дальнейшей судьбой изгнанного принца. В 1185 году, после смерти Харбая, он вернулся в Эфиопию, вступил на трон и перенес столицу царства в свой родной город Роха. Здесь он воздвиг 11 великолепных христианских церквей, высеченных из монолитных скал (они сохранились до наших дней и совсем недавно — решением ЮНЕСКО — объявлены одними из Величайших архитектурных памятников мира, подлежащих тщательной охране). В память о своем пребывании в Иерусалиме Лалибела переименовал реку, текущую через город, в Иордан, а холм над нею — в «Дебра Зейт» («Масличную гору»). Судя по всему, он хотел превратить Роху в Новый Иерусалим — неслучайно одна из новых церквей получила название «Бета Голгота», по аналогии с иерусалимским Храмом Гроба Господня, где Лалибела получил от Саладина специальный «эфиопский алтарь». Чтобы закончить историю принца, скажем еще, что вскоре после его смерти династия Загве сошла со сцены — ее последний монарх отрекся от трона в пользу потомков Менелйка, и с 1270 года династия этих «Соломонидов» продолжала царствовать в Эфиопии: ее последним представителем был император Хайле Селассие, свергнутый марксистами в 1974 году. А теперь вернемся к храмовникам-тамплиерам. Мы отметили возможность их личного знакомства с Лалибелой, а через него — с легендами эфиопской книги «Кебра Нагаст». Косвенным подтверждением этого знакомства являются все упомянутые выше факты, говорящие о том, что именно с этого момента начинается распространение в Европе «эфиопской версии» судьбы Ковчега, причем — прежде всего в, кругах, связанных с тамплиерами: через Бернарда Клервоского и Вольфрама фон Эшенбаха. О связях Бернарда с храмовниками мы уже говорили; что же; касается Эшенбаха; то согласно некоторым источникам ом сам был тайным членом этого ордена. Более того, перед тем как приступить к своему роману, он, по слухам, побывал в Иерусалиме. Но самое интересное состоит в том, что в своем «Парцифале» Эшенбах прямо пишет, что «хранителями Грааля» (а Грааль. у него, судя по всему, символ или шифр Ковчега) были «рыцари достойнейшего ордена тамплиеров». Если исходить из того, что в тексте «Парцифаля» зашифрованы реальные события, поведанные Эшенбаху иерусалимскими храмовниками, то из этого следует, что они действительно добрались до местонахождения Ковчега. А этим местом была, если верить легендам «Кебра Нагаст», Эфиопия. Не могло ли быть так, что, познакомившись с Лалибелой и узнав от него, что Ковчег хранится в Эфиопии, храмовники последовали за принцем, когда он вернулся на свою родину? Глухие намеки на такую возможность содержатся в том же «Парцифале». Эшенбах, упомянув, что хранителями Грааля-Ковчега являются тамплиеры, сообщает далее такую странную подробность: «Бог повелел им помогать, изгнанникам вернуть свои законные права… И если какая-нибудь страна потеряла своего повелителя и ее люди просят нового монарха из Братства Грааля, Бог отвечает на их молитвы и посылает людей этого Братства в великой тайне». Не слышен ли здесь отзвук реальной истории принца Лалибелы, изгнанного своим братом из Эфиопии и возвратившего себе трон после смерти Харбая? Если так, то слова Эшенбаха следует понимать буквально: воцарение Лалибелы совершилось с тайной помощью «Братства Грааля», то есть тамплиеров. Тому есть еще одно «перекрестное» доказательство. Вчитываясь в пресловутое «Письмо пресвитера Иоанна», Хэнкок подметил в нем один загадочный пассаж: рассказывая о могуществе своей армии, автор неожиданно добавляет: «Есть среди нас и французы, из тех, что сражаются с сарацинами (явный намек на иерусалимских крестоносцев. — Р.Н.). Вы (имеются в виду адресаты письма: папа и европейские монархи) им доверяете, но на самом деле они лживы и коварны, поэтому соберитесь с мужеством и предайте казни этих коварных тамплиеров». Теперь, зная историческую обстановку, в которой появилось «Письмо», и, зная, что «царством пресвитера Иоанна» скорее всего, была тогдашняя Эфиопия царя Харбая (появление «Письма» в. Европе датируется 1165 годом), мы легко можем объяснить все эти странности. По-видимому, храмовники, движимые стремлением проникнуть в страну, где находился вожделенный Ковчег, предложили Лалибеле свою помощь в свержении Харбая, а, возможно, и направили в Эфиопию отряд своих рыцарей. Первые попытки свергнуть Харбая успехом не увенчались (мы знаем, что Лалибела воцарился лишь в 1185 году), но они достаточно напугали царя, чтобы тот начал искать в Европе союзников в борьбе с тамплиерами, — отсюда его «Письмо» с предложением помощи в борьбе с Саладином, расхваливанием своего могущества и призывом к военному союзу. Атмосфера секретности и тайны, неизменно окружавшая дела храмовников, окутала и эту первую; их вылазку — военную экспедицию из Иерусалима в Эфиопию. Но простая логика подсказывает, что тамплиеры не могли на этом успокоиться, тем более что в 1185 году им представился редчайший шанс: смерть Харбая и воцарение их давнего знакомого Лалибелы. Могли ли они не воспользоваться этим обстоятельством для новой попытки обрести Ковчег? Но если дело обстояло так, то в Эфиопии могли сохраниться следы их пребывания. И Хэнкок такие следы обнаружил! Первый след запечатлен, оказывается, все в том же эшенбаховском «Парцифале», только раньше его никто не замечал, потому что не искал. Поведав о том, что «Братство Грааля» помогает изгнанным монархам вернуть свои права, Эшенбах приводит далее рассказ одного из членов «Братства» об одной такой благодетельной экспедиции «далеко в Африку… за Роху»! Исследователи романа, не имея никакого понятия о Лалибеле и эфиопских связях тамплиеров (и начисто игнорируя упоминание об «Африке»), простодушно расшифровали слово «Роха» как искаженное название Роховой горы в австрийской Штирии. Хэнкок же, с его пристальным вниманием ко всему «эфиопскому», тотчас опознал в Рохе — Роху, название столицы Эфиопии при Лалибеле. Но мало того. Перебирая записи, сделанные во время посещения Эфиопии в 1983 году, Хэнкок обнаружил пометку: «Расспросить специалистов о значении красного креста». Речь шла о странном красном кресте, который он увидел на стене одного из знаменитых храмов в Рохе. Крест был необычный: он был образован четырьмя треугольниками, а не двумя перпендикулярными прямыми, как обычно. Теперь, погрузившись в изучение истории тамплиеров, Хэнкок сам ответил на свой вопрос: это был тот самый крест, который на соборе в Труа был утвержден в качестве символа ордена храмовников! * * *Как это обычно бывает, одно открытие повлекло за собой цепь других. Историков давно волновала загадка Рохских скальных храмов. Их архитектурные особенности отдаленно напоминали стиль только что возникшей в Европе готической архитектуры, а их инженерно-технические данные намного превосходили возможности тогдашних эфиопских строителей. Теперь на основании прослеженных взаимосвязей, можно было предположить, что в создании этих храмов участвовали те же люди, которые вдохновили появление европейской готики, — иерусалимские тамплиеры. И Хэнкок нашел подтверждение этой смелой гипотезе. В старинной книге путешественника XVI века падре Франсиско Альвареца, посетившего Эфиопию в 1520–1526 гг., он обнаружил описание храмов Лалибелы, завершавшееся словами: «И они рассказали мне, что вся эта работа была завершена за 24 года и была сделана белыми людьми по приказу царя Лалибелы». Итак, тамплиеры, видимо, действительно последовали за Лалибелой в Эфиопию и оставались. в ней достаточно долго, помогая строить знаменитые храмы Рохи, а заодно, вероятно, занимаясь и собственными поисками утраченного Ковчега. И, если мы хотим узнать историю этих поисков, нам не миновать еще большего погружения в тайную историю ордена храмовников. История эта не менее увлекательна и загадочна, чем история самого Ковчега, и обещает повести нас сквозь века и события, под знакомым обликом которых нам откроется теперь нить запутанной исторической интриги. С падением государства крестоносцев орден тамплиеров окончательно перебрался в Европу. На протяжении всего XIII века орден усиливался и обогащался. Его финансовые связи охватывали все главные европейские столицы. Во Франции представители ордена не раз заведовали финансами всего государства. И все это время тамплиеры, по всей видимости, поддерживали тайные контакты со своими соратниками, оставшимися в далекой Эфиопии — стране исчезнувшего Ковчега. Что они искали там? Если сам Ковчег, то благодаря близости ко двору эфиопских христианских царей, которым именно тамплиеры помогли вернуться на трон, они давно должны были открыть тайну его местонахождения. Тогда остается предположить, что они ждали удобного момента, когда можно будет похитить великую реликвию и доставить ее в Европу. Обладание религиозными реликвиями, мощами и святынями возвысило уже не один европейский средневековый монастырь и монашеский орден. Понятно; что орден, располагающий такой реликвией, как Ковчег Завета, мог рассчитывать на еще большую славу, а, стало быть, — и на власть над умами современников. Поэтому гипотезу о стремлении тамплиеров обрести Ковчег нельзя сбрасывать со счетов. Но что, если в Эфиопии они — Ковчега не нашли и продолжали безрезультатные поиски, уверовав в истинность эфиопских легенд, изложенных в манускрипте «Кебра Нагаст»? Что еще, кроме этого манускрипта да туманных намеков в романе Вольфрама фон Эшенбаха (восходивших, судя по всему, к тому же манускрипту), могло свидетельствовать, что Ковчег действительно находится в Эфиопии? Разумный вопрос. Попробуем на него ответить. Прежде всего, вспомним, что чуть ли не во всех эфиопских христианских храмах — и это удостоверяется всеми, кто побывал в современной Эфиопии, — хранятся особые реликвии, так называемые «табот», которые сами эфиопы называют «табот Моисея». В дни богослужений эти табот играют центральную роль во всей церемонии. Знатоки эфиопских легенд утверждают, что табот — это копии Ковчега, оригинал которого хранится в храме девы Марии в Аксуме, куда он был привезен родоначальником эфиопской царской династии Менеликом из поездки к своему отцу, царю Соломону. Но табот — всего лишь прямоугольные деревянные бруски, к тому же весьма небольшого размера. Как они могут быть копиями Ковчега? Те же знатоки дают ответ и на этот вопрос. Конечно, бруски — не Ковчег и даже не его копия. Правильней сказать, они копия того, что некогда содержалось в Ковчеге, — копия Скрижалей Завета, с которыми Моисей спустился с горы Синай. Это уже звучит убедительней. Скрижали действительно изображаются в виде двух прямоугольных пластин с надписями. Вполне вероятно, что древние эфиопы перенесли представление о самом Ковчеге на то, что в нем хранилось, на святая святых — Моисеевы Скрижали. Отсюда могло пойти и выражение «табот Моисея». Такая гипотеза тотчас находит филологическое подтверждение. В иврите Ковчег всегда именуется «арон», то есть «ящик». Но есть в этом языке и еще одно слово, означающее ящик или контейнер. И слово это — «тейва». Оно встречается в Библии дважды; когда описывается Ноев ковчег и в рассказе о корзине, в которую мать положила младенца Моисея. Очень многозначительные совпадения. И очевидно также, что из «тейва» легко произвести «табот».1:0 в пользу легенды «Кебра Нагаст». Такова первая ниточка. Но она немедленно введет к вопросу: как могло быть заимствовано древнее и редко употребляемое еврейское слово эфиопскими христианами? Да и вообще, откуда взялись в Эфиопии христиане во времена царя Соломона? Уж если кто и мог принести Ковчег в тогдашнюю Эфиопию и хранить его там веками до появления первых христиан, то только евреи. Но разве эфиопские евреи такой древний народ? Еще один разумный вопрос. Он заставляет присмотреться к истории эфиопских евреев. Что мы о них знаем? Сегодня фалаши — это граждане Израиля. Но фалаши — всего лишь остатки эфиопского еврейства. Источники говорят, что некогда евреи в той стране были куда могущественней и многочисленней. Легенды из «Кебра Нагаст» выводят их все от того же Менелика I, сына Соломона и царицы Савской. А на самом деле? Многие авторы утверждают, что иудаизм в Эфиопии появился сравнительно недавно, что-то около начала новой эры, после разрушения Второго Храма, когда евреи бежали из Палестины и рассеивались по всему свету. Эти авторы считают, что первые евреи пришли в Эфиопию из Йемена, где в ту пору возникла крупная еврейская община (просуществовавшая до наших дней). И было это, значит, в первых веках новой эры. Рассуждение вполне логичное, но не учитывающее некоторых странных особенностей эфиопского иудаизма. Во-первых, эфиопские евреи ничего не знают о таких праздниках, как Ханука и даже Пурим. Между тем праздник Хануки был установлен в честь освобождения Иерусалима Маккавеями уже во II в. до н. э., а праздник Пурим — и того раньше: у евреев Эрец-Исраэль он начал входить в моду в конце V в. до н. э. Неизвестен эфиопским евреям и запрет на жертвоприношения вне Храма. В момент создания Храма царем Соломоном (X в. до н. э.) этот запрет еще не был абсолютным, и многие евреи, следуя древним обычаям (времен скитаний в пустыне), приносили жертвы просто на камне, расположенном в центре деревни. Но в конце VII века (опять же, до новой эры) царь Иошиягу (Иосия) наложил окончательный запрет на этот обычай. Что же получается? Эфиопские евреи следуют обычаям, существовавшим в Эрец-Исраэль до VII века, и не знают обычаев, запретов и праздников, возникших позже. Почему? Самое естественное объяснение этому состоит в предположении, что их связь с материнской еврейской общиной прервалась ранее VII в. до н. э. Стало быть, они никак не могут быть потомками йеменских евреев — община в Йемене возникла на много столетий позже. Но если евреи появились в Эфиопии за 7–8 веков до новой эры, то это почти совпадает со временами царствования Соломона! 2:0 в пользу легенды о Менелике. Если за плечами эфиопских евреев столько веков, можно ли хоть отчасти восстановить их древнюю историю? Выясняется, что и здесь кое-что поддается логической реконструкции. Авторитетный эфиопский источник «История и генеалогия древних царей» утверждает: «Христианство пришло в Абиссинию через 331 год после рождения Христа. До этого половину населения составляли евреи, исповедовавшие иудаизм, а вторую половину — поклонники дракона». Шотландский исследователь Брюс (первооткрыватель истоков Нила), хорошо знакомый с эфиопской древностью, продолжает: «Эфиопские евреи видели в новой христианской религии опасную ересь. Поэтому они объединились для борьбы с ней под руководством принца из рода Менелика, сына, Соломона. Но эфиопские христиане тоже провозгласили, что их цари ведут свою генеалогию от Соломона. Наличие двух царей с одинаковыми генеалогическими претензиями привело к многочисленным войнам». Пока шла и развивалась история европейских евреев — сначала в их гетто, а потом в эпоху эмансипации, в далекой Эфиопии их черные соплеменники вели, оказывается, многовековые кровавые войны в защиту своей веры и своего государства от посягательств христиан. И были не раз близки к победе. Зря говорят, будто в рассеянии евреи утратили искусство управлять и воевать… Еврейско-христианские войны в Эфиопии выплеснулись даже за пределы страны; в VI в. н. э. христианский царь Калеб собрал огромное войско для похода на йеменских евреев. В эфиопских хрониках этому царю приписываются самые кровожадные высказывания против евреев и угроза «разрубить их всех на куски». Видимо, у Калеба недостало сил для выполнения своей угрозы: в IX–X веках инициативу в войне захватили евреи под предводительством уже упоминавшейся нами царицы Гудит (или Йегудит), и «соломонова династия» эфиопских христианских царей, правивших в Северной Эфиопии, была свергнута. Ее сменила династия Загве, одним из последних представителей которой был хорошо знакомый нам Лалибела. Существуют смутные указания на то, что цари Загве поначалу сами склонялись к иудаизму или даже вообще были евреями. Позже, однако, они впали в христианство, и война возобновилась. Путешественник XVI века, католический епископ из Овьедо, утверждает, что фалаши, укрывшиеся в горной области юга страны, наносили христианам чувствительные удары. Но в начале XVII века на эфиопский трон взошел император Суснеос, который приступил к систематическому истреблению евреев. В. течение 30 лет погром следовал за погромом, и если в середине XVII века фалаши еще насчитывали около полумиллиона человек, то к концу столетия их было уже почти вдвое меньше. По сведениям еврейского автора XIX века Иосифа Галеви, в его время численность фалашей не превышала 150 тысяч. А к концу нашего века осталось менее трети этого числа. * * *Какое отношение ко всей этой истории имел утраченный Ковчег? Самое прямое. В эпосе «Кебра Нагаст» имеется о том важное упоминание: «И сказал Господь людям Гебра Маскаль (по-эфиопски, «рабам Креста» — М.В.): выбирайте между колесницей и Сионом. И заставил их выбрать Сион. А людям «Бета Исраэль» (самоназвание эфиопских евреев. — М.В.) дал колесницу…» Иными словами, борьба между эфиопскими евреями и христианами шла, в частности, за обладание реликвиями, почитавшимися каждой из этих религий; а в конечном счете, христиане получили «Сион», то есть Ковчег, а евреи удовольствовались каким-то «вторым призом» («колесницей»). Так Ковчег, если верить всем этим рассказам, оказался в руках христианских царей. Поэтому поиски храмовников вовсе не были погоней за миражом. Евреи, видимо, действительно пришли в Эфиопию во времена Соломона, и потому в легенде о похищении ими Ковчега могло содержаться зерно истины — это раз; Ковчег, видимо, действительно перешел позднее от евреев к христианам, и Лалибеле, как их царю, могло быть известно его местонахождение — это два. Значит: Ковчег нужно искать в Эфиопии. Тогда почему храмовники не наложили свою тяжелую рыцарскую лапу на эту величайшую реликвию? А, судя по тому, что Ковчег в Европе так и не объявился, видимо — не наложили. Но кто сейчас способен проникнуть в запутанные тайны тогдашних времен, тем более в дела и интриги небольшого тамплиерского отряда, покинувшего Палестину вместе с Лалибелой ради Эфиопии и Ковчега? Можно допустить, что силы эфиопских тамплиеров были попросту слишком малы. В результате им пришлось ограничиться наблюдением и ожиданием подходящего момента — смуты, например, или войны, когда Ковчег будут перепрятывать и подвернется возможность его похитить. Как бы то ни было, существует одна странная деталь, которая позволяет предположить, что в какой-то момент тамплиеры были на грани осуществления своего дерзкого плана. Деталь эта — события знаменитой «черной пятницы» 13 октября 1307 года. Любители истории знают эту дату. В этот день король Франции Филипп Красивый неожиданно обрушился на орден тамплиеров. Все французские члены ордена были арестованы и брошены в тюрьму. К ночи с четверга на пятницу в кандалы было заковано уже 15 тысяч храмовников. Позже многие из них, включая верховного магистра, были сожжены, сам орден — запрещен, а его огромное имущество — конфисковано. Одновременно преследования тамплиеров развернулись почти во всех европейских странах. Эта грандиозная единовременная акция до сих пор вызывает недоумения историков. Что ее вызвало? Одни говорят, что Филипп, отчаянно нуждавшийся в деньгах, попросту хотел поживиться богатствами тамплиеров. А поскольку местопребыванием папы был тогда французский город Авиньон (знаменитое «авиньонское пленение» пап) и папа Клемент V, что называется, «кормился из рук французской короны», то есть полностью зависел от нее, его нетрудно было убедить опубликовать буллу, объявлявшую орден храмовников «еретическим». Эта булла дала Филиппу формальный повод для акций «черной пятницы». Другие утверждают, что папа не был просто французской марионеткой — у него у самого якобы были вполне реальные основания объявить орден храмовников еретическим. По тогдашней Европе упорно ходили слухи, что все собрания ордена, проходившие, как правило, в глубокой тайне, начинались с ритуала целования гениталий и ануса обнаженного мужчины, который возлежал в центре зала собраний наподобие распятого Христа. Разумеется, это могло быть всего лишь одним из вариантов распространенных в те темные (да и в более поздние светлые) времена поверий о «черной, или сатанинской, мессе»; но вполне возможно, что рыцарей ордена тамплиеров и впрямь скрепляла какая-то реальная гомосексуальная связь (мы очень мало знаем о тайных гомосексуальных братствах средневековой Европы, но вспомним, что нить гомосексуализма пронизывает ткань европейской культуры еще с эллинских времен). Возможна, однако, и третья гипотеза, и вот она-то связана с нашим Ковчегом. Раньше никто такой связи не искал просто потому, что никто не искал и сам Ковчег. Но стоило заняться этими поисками, как в эфиопских источниках тотчас обнаружилось поразительное упоминание: оказывается, в 1306 году, то есть ровно через год после избрания Клемента V папой и ровно за год до разгрома тамплиеров, к папе в Авиньон прибыла высокопоставленная делегация, направленная тогдашним эфиопским царем Ведомом Арадом, и притом — с какой-то тайной миссией! Мало того: это сообщение подтверждается и независимым европейским источником — книгой генуэзского картографа Джиованни де Кариньяно. Почему оно так важно? А вот почему. Как вы помните, в конце XII века на эфиопский христианский престол взошел Лалибела. По нашему предположению, ему помогли в этом тамплиеры. В благодарность за эту помощь он позволил им остаться в Эфиопии (мы уже приводили доказательства их многолетнего пребывания там). Можно думать, что тамплиеры оставались в стране и при последующих царях династии Загве. Но в 1270 году эта династия уступила место монархам «соломоновой династии». Тот эпос «Кобра Нагаст», о котором мы так часто упоминали, был записан при первом же царе этой восстановленной династии. Превращение устной легенды в сакральный письменный текст было явно предназначено для утверждения династических претензий царя — ведь «Кебра Нагаст» утверждала, что новая династия ведет начало от Менелика, сына Соломона, и является хранительницей великого Ковчега. Логика подсказывает, что цари новой династии должны были проявлять враждебность ко всему, что связано с царями Загве, в том числе и к тамплиерам. К последним они должны были к тому же относиться с подозрением: уж очень липли к Ковчегу эти европейцы. А, кроме того, у них были связи с могущественными единоверцами в Европе, и они могли любой момент призвать к себе на помощь целые отряды собратьев-тамплиеров из Франции и других стран. А теперь представим себе, что, вдобавок ко всему этому, цари — «Соломониды» знают, что тамплиеры замышляют похитить Ковчег! Первые цари восстановленной «соломоновой династии» Екуно Амлак и Ягба Цион были слабы и не знали, как избавиться от этой тамплиерской напасти. Но третий, Ведем Арад, правивший с 12(?) по 1314 год, был, видимо, уже достаточно силен и хитер, чтобы придумать: нужно войти в контакт с теми в Европе, кому тамплиеры кажутся подозрительными и опасными. Нужно известить их, что здешние, эфиопские тамплиеры намереваются похитить великую святыню, Ковчег Завета, и доставить ее в Европу. Этого нельзя допустить — могущество ордена станет тогда неодолимым. Он будет диктовать свою волю королям и папам. Орден лучше всего уничтожить. Не будем настаивать, что все происходило именно так. Наш сценарий слишком прямолинеен. История движется более сложными путями. Но совпадения и интриги истории помогают. И наш сценарий помогает разглядеть еще одну возможную ниточку в клубке причин, приведших к разгрому тамплиеров. Кроме того, он удовлетворительно объясняет, почему тамплиерская авантюра с Ковчегом не увенчалась успехом. И что же — исчезли тамплиеры, кончились и поиски Ковчега? Прервалась великая традиция рыцарских поисков святого Грааля? Ничего подобного: Грааль — уже скорее по литературной инерции — продолжали искать еще долгие века (припомним «Дон Кихота»), а судьба тамплиеров и Ковчега так и подмывает меня воскликнуть вслед за Гоголем: «Отыскался след Тарасов!» Мы сказали выше, что орден храмовников был одновременно разгромлен почти во всех европейских странах. Эта оговорка — «почти» — очень важна. Потому что нашлись две страны, где тамплиеры уцелели. И обратите внимание — какие именно страны: Шотландия и Португалия. Вы спросите: а что в них особенного, в этих двух странах? Особенное в них то, что каждая из них в последующие века оказалась активно причастна к путешествиям в Эфиопию. Не куда-нибудь, а именно в Эфиопию. Нет, согласитесь, это явно неспроста… Но если бы только путешествиями в Эфиопию славились эти страны. Так ведь и сами эти путешествия были какими-то особенными, «со значением». Только присмотритесь — и у вас тоже голова пойдет кругом. Самым известным шотландским путешественником в Эфиопию (и, добавим, человеком, который впервые привез в Европу манускрипт «Кебра Нагаст») был некто иной, как упомянутый нами Брюс, первооткрыватель истоков Нила. И кем же был этот Брюс, потомок шотландских королей Брюсов? МАСОНОМ он был, Джеймс Брюс, членом общества вольных каменщиков, старейшая шотландская ложа которого (Кильвиининг) была основана королем Робертом Брюсом… И из кого бы, вы думали, состояла эта ложа? Из потомков шотландских и сумевших бежать из Франции тамплиеров! Если вы помните, именно тамплиеры, по некоторым предположениям, были теми, кто постиг в Иерусалиме тайны древней египетской и еврейской архитектуры и на основе этих тайн создал и распространил по всей Европе каноны средневековой готики. Кому же, как не им, быть создателями ордена вольных каменщиков?! И кому же, как не каменщикам-масонам искать в Эфиопии следы того самого Ковчега, который искали (а по слухам, даже нашли, но снова потеряли) их предшественники-тамплиеры?! Теперь-то мы понимаем, зачем Джеймсу Брюсу, масону и продолжателю тамплиерского поиска, нужна была «Кебра Нагаст»! Что же касается Португалии, то тут изучение продолжения истории тамплиеров вскрывает не менее удивительные тайные пружины вполне известных, казалось бы, событий. Португальский король хоть формально и распустил орден храмовников, но почти сразу же разрешил создать другой орден — Воинство Христово, в который влились уцелевшие португальские тамплиеры и их бежавшие из Испании собратья. Воинство Христово еще долгие века сохраняло большое влияние при лиссабонском дворе, и в начале XV века ее великим магистром был брат тогдашнего короля Генриха. Не исключено, что вы знаете этого Генриха, только под другим именем. В истории путешествий и географических открытий он известен как Генрих-Мореплаватель. Ибо страсть этого человека к морю и морским путешествиям была столь велика, что ради нее он отказался даже от претензий на престол и всю свою жизнь посвятил организации португальских экспедиций вокруг Африки. И что же искали там посылаемые им капитаны? Вы, конечно, уже догадались. Ну, да — царство пресвитера Иоанна, легендарное христианское государство в Эфиопии. Видимо, не из личного каприза или пристрастия к легендам искал принц Генрих эту страну. Иначе не случилось бы так, что человек, родившийся в год смерти принца и совершивший свое великое мореплавание 30 с лишним лет спустя, тоже искал это царство, жадно собирал сведения о нем в каждом африканском порту и только потому не достиг «земли обетованной», что она лежала далеко от берега, в глубинах черного континента. Этот человек вам тоже известен — Васко де Гама, первооткрыватель морского пути из Европы в Индию, совершивший свое плавание в 1497 году (принц Генрих умер в 1460-м). Судите сами, добавляет ли что-нибудь к нашим знаниям то обстоятельство, что, подобно Генриху-Мореплавателю, Васко де Гама тоже был членом братства Воинства Христова… * * *Не слишком ли много совпадений? Все исторические намеки, все упоминания в источниках и глухие отголоски в рыцарских романах, нити многовековых интриг и холодная логика рассуждения — все стягивается к одному и тому же простому утверждению: Ковчег не исчез — он находится в Эфиопии. И теперь, подведя базу под это исходное утверждение Грэма Хэнкока, любознательного английского журналиста и. автора книги «Знак и печать» (где эта гипотеза изложена и обоснована куда более подробно и занимательно), я вынужден поставить последний вопрос: верна ли эта гипотеза? Прежде чем ответить на него, я позволю себе еще сказать, что в 1991 году Грэм Хэнкок, окончательно убедив себя в том, что Ковчег находится в Эфиопии, направился в эту страну снова. В Аксуме он разыскал церковь девы Марии и попросил у хранителя храма разрешения взглянуть на церковную святыню. Ведь, говорят, здесь хранится сам Ковчег Завета, не так ли? Хранитель едва заметно кивнул. — Можно ли увидеть эту реликвию? Такой же еле заметный, но на сей раз отрицательный кивок: — К святыне не разрешено приближаться даже патриарху. — Ну, расскажите хотя бы, как она выглядит! — Об этом запрещено говорить. — Хорошо, ответьте тогда: вот завтра должна состояться самая важная из религиозных церемоний года — вынесут на нее сам Ковчег Завета или это опять будет копия? — Вы увидите это завтра сами. То, что увидел наутро Хэнкок, было еще одной копией пресловутого Ковчега — очень похожей, но, несомненно, копией. Но он увидел и другое: хранитель не пошел вместе с процессией. Хранитель остался в храме, удалился в Святая Святых и там молился за занавеской. «Перед чем он возносил молитвы? — вопрошает в конце своей книги Хэнкок. — Перед чем он молился, если не перед великой реликвией, которая считается такой святой, что ее не хотят выносить даже на самые главные религиозные церемонии? Перед чем еще он мог молиться, если не перед Ковчегом Завета?!» Таков ответ Хэнкока — человека, глубоко увлеченного своим поиском и своей гипотезой. Мы же ответим проще. Не так уж важно, хранится ли в Эфиопии подлинный Ковчег. Может быть, его давно уже нет. Может быть, он исчез в Вавилонии. А, может быть, ждет археологов в глубинах Храмовой горы, как считал покойный главный израильский раввин Шломо Горен. Повторим, это не так уж важно. Важно другое: эта реликвия «легла на сердце» эфиопским евреям (а от них эфиопским христианам), как когда-то русским — Богородица, а не сам Христос. Храмов Богородицы, ее Рождества, Покрова, Успенья и так далее, на Руси куда больше, чем храмов Христа, — наверно, не меньше, чем у эфиопских христиан «табот Моисея», этих «копий Ковчега». И, может, в этом культе Ковчега, возникшем, вероятно, еще у первых эфиопских евреев, было что-то от желания сравняться славой с еврейством Эрец-Исраэль, страны Соломона; а, может, и горечи от ощущения себя «последним сохранившимся (и сохраняющим реликвии) коленом Израилевым» после увода палестинского еврейства в вавилонский плен!.. Как бы то ни было, легенда о первом эфиопском царе Менеликс, сыне Соломона и царицы Савской, похитившем Ковчег из Иерусалимского Храма и доставившем его в Эфиопию, возникла, укрепилась, стала народной и дала начало культу Ковчега и традиции «табот». Этот культ и традиция распространились столь повсеместно и укоренились так глубоко, что даже если Ковчега в Эфиопии нет, она все равно заслуживает названия «Страны Ковчега». И поэтому Хэнкок прав: если искать следы Ковчега — то только в Эфиопии… Однако главное достоинство его книги состоит все-таки не в этом, а в том, что, подобно многим другим, столь же масштабным трудам о «гипотетической истории» (например, Иммануила Великовского), она делает нас свидетелями напряженного интеллектуального поиска. И подлинный ее герой — не утраченный Ковчег Завета, а та настойчивая, ищущая, любознательная мысль, что, словно ткацкий челнок, неутомимо снует между веками и эпохами, людьми и событиями и на наших глазах сшивает их все в единую ткань занимательного рассказа. >ЧАСТЬ 4 БИБЛИЯ И НАУКА >ГЛАВА 1 БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Название этой «интерлюдии» я заимствовал у одного из любимых мною фантастов Джеймса Морроу, а номер поставил свой — потому что он продолжает начатый в предыдущей главе разговор об авторстве ТАНАХа, точнее — Торы. Как мы теперь уже знаем, критическое исследование библейского текста началось уже давно, и к сегодняшнему дню установлено, что авторов у Торы было по меньшей мере четыре. Первый и самый древний из них, написавший основную часть книг Бытия, Исхода и Чисел, обозначается буквой J, так как в его рассказе Б-г всегда именуется Jahweh (в славянской традиции — Ягве); последующие именуются, соответственно, E (поскольку он называет Божественное существо словом Elohim (Элогим); рассказ этого автора содержится в тех же книгах и переплетается в них с рассказом J; далее — P (от английского Priest, что значит «жрец»; считается, что он написал почти всю книгу Левит); и, наконец, D (автор «Второзакония», или, по-гречески, Deuteronomos, откуда английское Deuteronomy). Подозревают, что был еще R, или «Редактор» (который произвел окончательную ревизию всего текста в целом после возвращения евреев из вавилонского плена), а также, возможно, многочисленные другие авторы более мелких разделов текста, но это уже частности, и мы не будем о них говорить. Исследование ТАНАХа все еще не закончено и, наверное, не закончится никогда, потому что книга эта таит в себе бесчисленное множество исторических, литературных и чисто смысловых загадок. Вот буквально на днях в израильской газете «Гаарец» была опубликована беседа с профессором Еврейского университета Менахемом Хараном, который предложил еще одну, совершенно новую гипотезу о том, как возник ТАНАХ в целом. Эта гипотеза основана на десятилетней продолжительности исследования, которое привело Харана к выводу, полностью опровергающему предыдущие толкования. Профессор Харан утверждает, что в еврейский канон (то есть в Тору) были включены не какие-то специально отобранные (из большого множества сохранившихся) книги, а, напротив, буквально все, какие только и сохранились, других якобы попросту не было. «Собиратели канона поистине замели с пола последние крошки, — говорит Харан. — Они включили в канон даже такие крохотки, как книгу пророка Овадии, которая занимает в нем всего одну страничку. После них не осталось ничего, что народная традиция предыдущих столетий считала бы Боговдохновенным». Харан доложил свою гипотезу на недавнем конгрессе библеистов в Лондоне. Он не говорит, как ее там приняли. Он ограничивается туманным: «Во всяком случае, ТАКОГО они никогда не слышали». И это показывает, что в области исследования ТАНАХа еще существует поле для самых смелых гипотез. Об одной из них я как раз и хочу рассказать. Она связана с самым интересным для исследователей (потому что самым древним) текстом канона — текстом J — и с самой интересной для них (потому что самой запутанной) загадкой о времени и месте его написания. Впрочем, эта загадка частично уже решена: среди специалистов царит согласие, что этот текст был написан в X веке до новой эры в Иерусалиме, при дворе царя Соломона. Но, как мы уже поняли из слов профессора Харана, в библеистике всегда есть место другим гипотезам. И та, о которой я намерен сейчас рассказать, идет вразрез с устоявшимся мнением и предлагает совершенно иную трактовку как истории, так и содержания текста J. Нам это особенно интересно, потому что попутно авторы предлагают весьма оригинальное и смелое прочтение древнейшей еврейской истории, способное серьезно поколебать все наши представления. И точно так же они разрушают все наши сложившиеся представления о смысле важнейших эпизодов Торы. Я не хочу этим сказать, что все, что они пишут, истина в последней инстанции; это, конечно, только научная гипотеза. Но очень уж необычная. Авторы этой незаурядной книги — американский историк-библеист Роберт Кут и священник Дэвид Орт. Они сделали следующее: вычленили из общего текста Торы текст, принадлежащий J, заново перевели его на современный английский язык и снабдили пространным комментарием. Тут и появляются неожиданности. Они подстерегают нас с самого начала. С чего вообще начинается Тора? С рассказа о шести днях творения. Так вот, в тексте J этого рассказа не было. Он начинался иначе (я перевожу авторов, а они — вторую главу книги Бытия, стихи 4–7): «В то время, когда Ягве, Господь, создал небо и землю — и прежде, чем появилось хотя бы первое плодовое дерево, и даже злаков еще не было на полях, потому что Ягве, Господь, еще не создал дождь на земле, и не было человека, чтобы обрабатывать эту землю, хотя ручьи уже вышли из земли той и увлажнили всю почву ее, в то время Ягве, Господь (обратите внимание, как старательно автор каждый раз подчеркивает, что Ягве — это Господь, то есть Бог; это нам еще понадобится. — Р.Н.), создал человека из праха земного, вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек превратился в живое существо». Далее следует знакомый рассказ о том, как Господь сотворил всех животных и привел их к Адаму, чтобы он дал им имя, но Адам не нашел среди них «помощника, подобного себе», и тогда Господь сотворил из его ребра Еву и назвал ее «иша» (женщина), потому что она плоть от плоти «иш» (мужчины). Текст продолжается до изгнания из рая: «И сказал Ягве, Господь: человек стал, как один из нас, /…/ и изгнал его из Эдема, чтобы возделывать, землю, из которой он взят». О чем же эта история, спрашивают авторы. И тут же огорошивают нас ответом: «Рассказ J — это, в первую очередь, повествование, призванное разъяснить царское понимание необходимости труда всех его подданных. Этот рассказ является центральным во всем тексте J, и не случайно кульминацией этого текста (в книге Исхода) является определение «Израиля» как всех тех, кто был освобожден из египетского рабства «мощной рукой» Ягве, Господа, — Бога еврейского царства». Это немного напоминает кое-какие знакомые вульгарно-материалистические трактовки религиозных текстов в советской атеистической литературе, не правда ли? Не торопитесь; если бы речь шла об очередном атеистическом произведении, я бы не стал занимать им ваше внимание. Авторы действительно хотят вернуть библейский текст на историческую почву, но идут серьезным научным путем. Свое утверждение они немедленно обосновывают сопоставлением этого текста J с другими, еще более древними ближневосточными сочинениями того же рода. И тут перед нами открывается совершенно нам неизвестный, пожалуй, и поразительно увлекательный (и поучительный) мир ближневосточной мифологии. Оказывается, уже за несколько столетий до текста J (напомним — считается, что он был создан в X веке до н. э.) в Вавилоне уже были записаны два грандиозных, основополагающих мифологических рассказа: «Энума Элиш», легенда о сотворении человека богом Мардуком, и «Атра-Хасис» — сказание о Потопе. За последующие несколько столетий они настолько широко распространились по всему Ближнему Востоку, и пользовались такой огромной популярностью, что наверняка были хорошо знакомы и самому J. Теперь обратим внимание на крайне интересные детали этих рассказов. В «Энума Элиш» описывается, как бог Эа победил восставших богов Апсу и Тиамат и, «познав» свою жену Дамкину, родил бога Мардука. К этому-то Мардуку и являются «боги-рабочйе», которые жалуются на свою трудную работу и тяжкую жизнь; тогда Мардук придумывает создать «луллу» (людей), которые трудились бы вместо богов, причем создать их из того бога, который подстрекал Апсу и Тиамат (помните: «Вот, Адам стал, как один из нас»? Немудрено, если он сделан из той же плоти!). Иными словами, люди созданы из плоти руководителя восстания; поэтому их обязанность работать — это не что иное, как наказание покаранному богу в лице его «потомков». Примерно такую же историю рассказывает «Атра-Хасис»: здесь жалующиеся на тяжкую работу боги приходят к Энлилю, и тот решает сделать людей («шупшикку», или корзину грязи) из глины, а также — опять! — из мяса и крови руководителя жалобщиков. «И пусть в этом мясе останется дух, и пусть скажут ему перед казнью о его судьбе, и дабы он не забыл, пусть дух его останется в них». Иначе говоря, дух покаранного бунтовщика будет напоминать людям о бесплодности всякой попытки отказа от труда; и чем больше будет их труд, и чем сильнее будет в результате «говорить» в них этот дух (то есть стучать от напряжения сердце), тем меньше будет у них соблазн бунтовать и жаловаться. Тот же Энлиль является героем другого рассказа, в котором он, после создания неба и земли, создает соху, а в добавление к ней — человека, ибо «кто-то должен же обрабатывать эту землю этой сохой». А в древнем египетском тексте под любопытным названием «Созданы ли люди так, что они обладают равными возможностями?» (утверждается, кстати, что да) объясняется, что люди созданы со страхом смерти, «дабы не забывали трудиться во имя богов». Здесь, как и во всех других перечисленных выше текстах, в этих «богах», вместо которых должны трудиться простые смертные, легко угадываются правители и знать соответствующих земель. Ведь именно они считались земными воплощениями божества, и построенные ими храмы считались творениями Мардука, Энлиля или Баала. Поэтому и первая же заповедь Ягве, Господа, сообщенная Ною, — «Плодитесь и размножайтесь» (и повторенная затем Аврааму в виде обетования сделать его потомство многочисленным, «как песок морской») — имеет еще и тот практический смысл, что для труда «вместо богов» нужно много людей. Есть, однако, труд и — труд. Из дальнейшего текста J (уже в книге Исхода, в рассказе о египетском рабстве) становится очевидно, что Ягве, Господь (то есть Бог Израиля), категорически выступает только против одного особого вида труда, а именно — «египетского», то есть рабского труда, или барщины, которым — наподобие вавилонских богов — наказали людей боги Египта. Но Ягве, Господь, отнюдь не против труда вообще, напротив: уже в сцене изгнания из райского сада он приговаривает людей к пожизненному труду. Но к какому? К труду свободных земледельцев, а не рабов фараона. Таким образом, Ягве, Господь, оказывается уникальным богом: он расходится со всеми остальными богами региона в определении характера обязательного труда. Поэтому он стоит особняком в региональном пантеоне и вынужден бороться с другими богами за признание, вынужден отвоевывать у них «свой» народ, который будет жить по «Его» и только Его заповедям. В сущности, вся история препирательств Моисея с фараоном и насланных Ягве на египтян «казней египетских» — это и есть история такой войны Ягве, Бога Израиля (о котором фараон презрительно говорит, что «не знает такого бога»), с богами Египта — и его конечного торжества над ними (в виде торжества над фараоном, которому они покровительствуют). Почему же Ягве отвергает рабство и барщину? Потому что в его «понимании» (то есть в понимании еврейских царей, торопливо добавляют авторы) обязательный труд должен быть только таким; каким он сложился в Палестине, а не в каком-нибудь Египте, иными словами — трудом царских земледельцев, которые отдают десятину Б-гу, положенное — царю, а остальным распоряжаются сами. А почему то был именно такой, а не иной труд? Да просто потому, объясняют авторы, что именно такова была в те древние времена структура труда (и общества) на Палестинском нагорье, где и сложилось первое еврейское царство, признавшее Ягве, Господа, своим Б-гом, выведшим народ из рабства «рукою мощною, мышцей простертого». (Кстати, в этой характеристике победоносного Ягве есть и свой насмешливый аспект: обычно обладателями «мощной руки», «сильной руки», «руки, способной пустить сразу десять стрел из одного лука», неизменно именовали себя на своих стелах египетские фараоны, возвеличивая тем самым своих богов; но вот — мышца Ягве оказалась сильнее!) Таким образом, рассказ об Исходе — это страстное возвеличение Ягве, который мощнее всех других богов (прежде всего египетских), и одновременно — это возвеличение силы того царя (и народа), которому покровительствует такой Бог; и одновременно — это идеологическое обоснование власти этого царя и его законов (которые объявляются «заповедями Ягве»), а также обоснование необходимости труда (земледельческого, а не рабского) на этого правителя. Неудивительно, что Кут и Орт (как и еврейская традиция вообще, кстати) считают рассказ об Исходе центральным узлом всех основных мотивов текста J. Удивительней другое — что тотчас после такого признания они объявляют этот «центральный узел» полностью вымышленным! И это ведет нас прямиком к исторической части их гипотезы, не менее оригинальной и дерзкой, чем изложенная выше религиозная. Итак, Кут и Орт призывают нас принять как факт, что рассказ об Исходе в тексте J — вымышленная история. Не было Исхода, не было Моисея, не было завоевания Ханаана и не было двенадцати колен, между которыми была разделена завоеванная земля. Так и хочется спросить: а были ли сами евреи? На это авторы твердо отвечают: были. Но история евреев выглядела иначе, не так, как она излагается в тексте J, столь хорошо знакомом нам по ТАНАХу. Этот текст, говорят Кут и Орт, нужно перечитать под углом зрения того, что известно современной исторической науке. Что же ей известно? Отбирая лишь то, что они считают «надежно установленными фактами» и «разумными гипотезами», авторы рисуют следующую картину. Незадолго до 1000 г. до н. э. на Палестинском нагорье (то есть в нынешних Самарии и Иудее) располагались многочисленные деревни свободных еврейских земледельцев. Между деревнями высились отдельные города (разумеется, города в древнем понимании этого слова, то есть небольшие крепости, окруженные более или менее мощными стенами; Иерусалим принадлежал к их числу). Кстати, многие из этих городов, упоминаемые в истории завоевания Ханаана армиями Йегошуа Бин-Нуна — как, например, Иерихон, — к тому времени уже не были населенными: они, по данным археологии, к тому времени уже были заброшены и безлюдны, так что «завоевать» их евреи никак не могли — там нечего было завоевывать (что, в частности, является одним из аргументов в пользу фантастичности рассказа об Исходе из Египта в Ханаан). Так вот, существовавшие в то время города нагорья были заняты египетскими гарнизонами, поскольку Египет — в ту пору сильнейшая держава Ближнего Востока — контролировал всю Палестину. И, разумеется, нещадно эксплуатировал местное население (что и отразилось в рассказе о «египетском рабстве»). Возможно, имели место народные волнения (истории об этом ничего не известно, но этого нельзя исключить), и можно думать, что в таком случае египтяне очередной раз вторгались в страну, наводили порядок и затем хвастливо запечатлевали сей победный факт на стелах очередного фараона (именно так, по всей видимости, появилось и единственное сохранившееся упоминание такого рода — о побежденном «народе Израиль» на стеле фараона Мернептаха, примерно в 1200 г. до н. э.). Не удивительно, что Египет воспринимался как злейший и сильнейший враг, как постоянная опасность; неудивительно, что «антиегипетский мотив» пронизывает весь текст J, в котором постоянно повторяется-одна и та же сказочная схема: вымышленные еврейские герои (Иосиф, Моисей) побеждают египтян не числом, а уменьем, не силой, а хитростью. (Кстати, не исключено, добавляют авторы, что в рассказе о службе Иосифа у Потифара отразилась реальная история какого-нибудь местного еврейского аристократа, сотрудничавшего с египетским наместником в Палестине.) Была и еще одна группа палестинского населения, которая видела в египтянах постоянную угрозу. То были «бедуинские» (по существу, те же еврейские) пастушеские племена, чьи владения сплошным кольцом окружали нагорье. Собственно, и евреи-земледельцы, утверждают авторы, первоначально были пастухами, а их легендарный «праотец» Авраам — обычным «бедуинским» шейхов, такими же шейхами были и его потомки. Имена типа Авраам, Ицхак, Яаков, — говорят авторы, еще долго сохранялись среди тогдашних пастушеских племен, напоминая об общем происхождении евреев-земледельцев и евреев-пастухов. Постепенно среди тех и других сложилась традиция, возводящая это происхождение к общему предку Аврааму, что и было (полтысячелетия спустя) использовано в тексте J. Автор этого текста, выдающийся писатель-идеолог, искусно соединил земледельческие и пастушеские мифы об Аврааме и его потомках с идеей Ягве — Бога, покровительствующего авраамову роду в его борьбе с Египтом. Кут и Орт приводят ряд примеров такого соединения, из которых я для краткости выберу самый эффектный (он характеризует заодно и текстологические методы этих авторов). Речь идет о посещении Авраама «тремя ангелами», которых тот принимал и угощал под Мамрийским дубом (Бытие, 18:1-15) и «один из которых сказал: Я опять буду у тебя в это же время (в будущем году), и будет сын у Сарры, жены твоей». Эта фраза вызвала у престарелой Сары «внутренний смех», на что «ангел» (то есть Ягве) обиженно вопросил: «Есть ли что трудное для Господа?» Смех Сары, объясняют нам авторы, вызван был тем, что в этот миг она ощутила сексуальное наслаждение, род оргазма, ибо именно в этот миг Ягве «вошел» в нее, и она засмеялась от счастья. Когда же она выразила сомнение, что понесет, Ягве оскорбился: «Что, для Меня это такое чудо, что ли?» В сущности, здесь (куда живее и ярче, чем в Евангелиях) рассказана история непорочного зачатия с добавлением существенной детали: поскольку своим поступком в отношении Сары Ягве нарушил законы бедуинского гостеприимства, он тотчас объявил, что сделал это ради великого дела размножения (не это ли он первым делом заповедал Ною?), а в качестве «компенсации» обещал хозяину произвести от него «великий народ». Такое соединение народных мифов с прославлением Ягве как гаранта величия народа, говорят авторы, позволило J сделать свой текст, а заодно и монотеистическую идею самого Ягве, приемлемым для простого народа и тем самым достичь своей главной идеологической цели. Ибо, по мнению авторов, главная цель J состояла в том, чтобы утвердить в народе культ Ягве, чтобы с помощью этого освятить царскую власть, ее законы и необходимость крестьянского труда на царя и городскую знать. Ибо авторы убеждены, что текст J, хоть и предназначался для «народа», создан был при царском дворе, выражал потребности царя и знати и отражал так называемую «высокую» традицию (этим словом историки обозначают традиции, сформировавшиеся в придворной среде грамотеев-писцов и жрецов-священников в противоположность «низкой» традиции, то есть легендам и сказаниям народных слоев). Текст J, утверждают авторы, — это «высокая традиция» высших слоев, отражающая историю, какой ее видят эти слои, освящающая («сакрализующая») эту историю с помощью ссылок на Божественное покровительство и навязывающая себя простому народу посредством искусного и намеренного включения в состав своей традиции элементов традиции «низкой», знакомой этому народу. Поскольку этот текст, продолжают авторы, сложился спустя добрых 500 лет после описываемых в нем легендарных событий начальной истории народа, трудно думать, что он отражает какие-либо реальные исторические факты. Следовательно, такие древнейшие эпизоды текста, как история Авраама и его потомков, египетское рабство, Исход и завоевание Ханаана правильнее рассматривать не как отражение сохранившейся в народной памяти «истинной» древней истории еврейского народа (что мог помнить неграмотный народ о своей истории спустя 500 лет? Что, к примеру, помнили — и что знали — европейские крестьяне X века о событиях времен падения Римской империи, отдаленных от них на те же 500 лет?), а как аллегорическое отражение каких-то важных для автора, для его целей (то есть, в конечном счете, для царского двора) и действительно реальных событий совсем недавнего прошлого. Иными словами, авторы полагают, что J — под видом истории Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше и Йегошуа Бин-Нуна — на самом деле излагает (в доступной «народу» мифологической форме, используя образы знакомых легендарных героев) историю царствующего правителя, создавшего еврейское государство. Кто же этот царь, кто истинный герой основного библейского текста, этой «книги J»? Иными словами, когда и где эта книга была написана? Это возвращает нас к прерванному историческому рассказу. Кут и Орт развивают свою гипотезу следующим образом. К 1000 г. до н. э., говорят они, власть Египта над Ханааном резко ослабла. (Это действительно подтверждается документами того времени — перепиской египетских наместников в Сирии с фараонами, найденной при раскопках городища Эль-Амарна.) Причиной такого ослабления были, видимо, внутренние трудности Египта. Как бы то ни было, египетские гарнизоны в Палестине оказались отрезанными от своей страны. И тогда, надо думать, крестьянское население Палестинского нагорья воспряло духом. Пастушеские племена Южной Палестины и Синая тоже почувствовали вкус свободы. В сущности, произошло примерно то же, что в нашем веке на Ближнем Востоке, когда отсюда ушли великие державы, — регион впервые за долгие века оказался предоставлен сам себе. Открылось окошко «благоприятных возможностей», и можно думать, что освободившиеся народы не преминули им воспользоваться. Именно поэтому, утверждают авторы, в тогдашней Палестине и смогли произойти два важных события: население нагорья объединилось под властью единого царя (каковым оказался Саул), а среди евреев-пастухов появился свой собственный вождь-объединитель (каковым стал Давид — соперник Саула, бежавший к пастухам от преследований царя). В этой части своей гипотезы Кут и Орт не одиноки и не оригинальны. Другие современные историки тоже признают историчность библейского рассказа о возникновении первого еврейского царства на Палестинском нагорье. Но каждый из них объясняет становление этого царства по-своему. Одни считают, что объединение нагорья произошло насильственным путем — в результате какого-то внешнего завоевания (может быть, тем же Саулом). Другие полагают, что это было результатом уже упоминавшегося крестьянского восстания против местных (и к тому времени ослабленных) египетских гарнизонов (причем кое-кто из сторонников данной гипотезы добавляет, что подняла крестьян на это восстание группа религиозных египетских еретиков-монотеистов, бежавшая из Египта в Палестину). Наконец, третьи утверждают, что царство возникло в результате проникновения в Нагорье кочевников-пастухов из близлежащих степей Негева и Синая. Оригинальность гипотезы Кута и Орта состоит в том, что она сочетает в себе непротиворечивые элементы всех трех вышеупомянутых теорий. Во-первых, она признает факт крестьянских волнений — по мнению авторов, это отразилось в рассказе о том, как «старейшины Израиля» потребовали себе царя (Саула). Во-вторых, она сохраняет и возможность участия каких-то пришельцев-монотеистов в этом воцарении: может быть, говорят Кут и Орт, пророк Самуил, так неохотно помазавший на царство Саула вопреки воле Ягве, и был одним из этих пришлецов, принесших в Палестину культ единого Бога. Но главное в этой этой гипотезе — предположение о том, что решающую роль в объединении всей (и земледельческой, нагорной, и пастушеской, степной) Палестины сыграло именно вторжение пастушеских племен с равнины в горную часть страны, до того управлявшуюся Саулом. Давид, утверждают авторы, как раз и был руководителем этого союза пастушеских племен; библейский же рассказ о «завоевании Ханаана» армиями Йегошуа Бин-Нуна — это всего лишь отражение этого реального завоевания нагорья армией Давида. Таким образом, центральную роль в гипотезе Кута и Орта играет Давид. По их убеждению, этот искусный стратег и прирожденный политик первым осознал и сумел использовать историческое «окошко возможностей», открывшееся в результате ослабления Египта. Потерпев поначалу поражение в борьбе с Саулом за власть над нагорьем, он бежал в южные степи и — посредством серии хитроумных военных и политических маневров — сплотил тамошние пастушеские племена в единый союз, своего рода племенную федерацию — сначала для организации коллективного заслона против возможного возвращения египетских армий (в этом он нашел поддержку филистимлян, осевших к тому времени на побережье), а затем — для вторжения в нагорье и овладения им. Сколотив такую федерацию, Давид возглавил ее и сделал своей столицей Хеврон — главный центр тогдашней пастушеской части Палестины. Здесь он, как следует из танахического рассказа, провел целых семь лет, все это время готовясь к вторжению в нагорье. Достаточно усилившись (и попутно разгромив те пастушеские племена, которые не примкнули к созданной им федерации), Давид, наконец, вторгся в нагорную Палестину, захватил Иерусалим, перенес туда свою столицу и провозгласил себя царем. Земледельцы Палестины были обложены налогом, но зато получили право на свободный труд (которого были лишены под властью египетских наместников в «египетском рабстве») и гарантии защиты от египетских притязаний. А пастушеские племена в благодарность за поддержку получили право беспрепятственного пользования пастбищами нагорья: оно было разделено на 12 районов, каждый из которых был закреплен за тем или иным племенем. Отсюда, говорят авторы, и пошла история «двенадцати колен»: по их мнению, она была придумана задним числом, чтобы оправдать такой «раздел» Палестины. Что же до названий этих уделов — «удел Дана», «удел Иегуды» и так далее, — то они, говорят Кут и Орт, попросту отражают имена тогдашних пастушеских вождей — союзников Давида: ведь и они были такими же евреями, как земледельцы нагорья; поэтому среди них были распространены те же имена. Такова в самых общих чертах та историческая гипотеза, которую предлагают Кут и Орт в своей книге «Первый текст Библии». Гипотеза, надо признать, довольно революционная. Ведь, если вдуматься, авторы утверждают не более, не менее, что вся танахическая история евреев, все ее события, от прихода Авраама в Ханаан и до Моисея и Йегошуа, впервые зафиксированные в тексте J, есть на самом деле не что иное, как продуманная и сознательная аллегория. По глубокому убеждению авторов, неведомый (и, несомненно, гениальный) J попросту описал в своем тексте историю воцарения Давида, спроецировав ее в легендарное еврейское прошлое и «поделив» между легендарными героями. Но отсюда следует, что не правы были все те историки, которые много десятилетий подряд считали, что текст J был создан при дворе Соломона. На самом деле, говорят авторы, он был создан именно при дворе Давида, который первым сумел использовать предоставленную историей короткую передышку для объединения всех еврейских племен — как земледельческих, так и пастушеских — в единое царство (Саул еще правил только в нагорье). Именно Давиду и понадобилась собственная «придворная» история, которая прославила бы его деяния и утвердила бы его власть в сознании подданных. Передышка эта продолжалась всего 60 лет: как мы знаем, к концу царствования Соломона первое объединенное еврейское царство распалось на Иудею и Израиль. Авторы полагают, что это было вызвано тем, что к тому времени Египет снова укрепился, и его «агентура» в Палестине спровоцировала этот раскол, чтобы ослабить и подчинить евреев. Но в эпоху Давида, заключают авторы, евреи успели получить не только собственное национальное государство, но также собственный национальный миф и собственную национальную идеологию — как раз в виде текста J, этой первой версии ТАНАХа, навеки сплотившего евреев если не территориально, то духовно. Этот текст, по мнению Кута и Орта, был создан с осознанной целью укрепления новорожденной монархии и освящения ее родословной и ее претензий посредством культа Ягве. Неслучайно культ этот в тексте J — подчеркнуто «пастушеский», «палаточный», не знающий никакого Храма; во времена Соломона, строителя Ирусалимского Храма, такой пастушеский культ был бы уже немыслим. Текст J сделал главными героями еврейской истории не земледельческих, а пастушеских вождей, этих подлинных хозяев нового государства и его аристократию. Он приписал им задним числом сакральную историю и легендарную генеалогию, возведя их к Аврааму, Ицхаку и Яакову. Традиционные хождения этих пастухов в Египет, их периодическое порабощение египтянами, временные союзы их вождей (Йосефа?) с египетскими наместниками палестинских городов — все это было использовано для создания величественной мифологической эпопеи Исхода. Фигура Давида — законодателя нового царства и создателя новой нации превратилась под пером J в грандиозный образ законодателя Моисея. История завоевания пастухами-кочевниками Палестинского нагорья легла в основу рассказа о завоевании Ханаана кочевыми армиями Йегошуа Бин-Нуна. Раздел между пастушескими вождями пастбищ нагорья стал историей «двенадцати колен». И так далее. Так, говорят авторы, и был создан национальный эпос, национальный миф и национальная религия. И подлинным их создателем был неведомый гениальный писатель давидова двора, именуемый сегодня J. Возможно, поначалу текст J замышлялся в виде всего лишь обычной хвалебной песни, этакого гомеровского эпоса, исполняемого перед лицом тщеславного царя и угодливой знати. Но соединение в этом тексте всех национальных сказаний и легенд, в которых нашла воплощение недавняя и хорошо знакомая тогдашним евреям реальная история становления их первого государства, привело к тому, что этот эпос глубоко запал в народную память и стал «священной книгой» новой нации. Заново и глубоко переосмысленные (как изначально направлявшиеся Господом Ягве) истории еврейских праотцев и «египетского рабства», Моисея и Исхода, скитаний в пустыне и «дарования законов», завоевания Ханаана и «двенадцати колен» — все это стало основой новой веры и содержанием уже не племенной, а национальной истории. И эта основа уцелела даже после распада государства. Так заканчивают свое объяснение происхождения, смысла и судьбы первого текста ТАНАХа американские авторы. Добавим уже от себя: этот эпос вобрал в себя и самые замечательные, чарующие воображение, самые распространенные на всем Ближнем Востоке легенды — о создании человека «по образу и подобию богов», о райском саде и потопе, о Вавилонской башне и т. п. Положенные на этот баснословный, но благодаря давности и распространенности почти достоверный фон, все прочие рассказы J тоже могли быть восприняты как почти достоверные. Поэтому религиозная идея и светская идеология (частично заимствованные из вавилонских и угаритских предисточников), искусно переплетенные с мифом, могли действительно стать в таких условиях общенародными. С другой стороны, все это могло происходить, конечно, и совершенно иначе: текст J мог не иметь таких «скрытых намерений»; он мог действительно отражать пусть и легендарное, но имевшее реальную фактическую основу еврейское прошлое; становление монотеистической религии могло начаться задолго до создания этого текста, а в нем найти лишь свое гениальное воплощение — и так далее; вы можете все это продолжить вместо меня. И тогда гипотезу Кута — Орта придется признать неверной; Но я полагаю, что с ней стоило познакомиться. Уж очень она радикальна и увлекательна. Одно лишь следует помнить, взвешивая степень ее достоверности: она относится именно к тексту J, то есть только к тому, что является содержанием первых книг ТАНАХа. В Торе есть и отдельный рассказ о Сауле и Давиде — это Первая и Вторая книги Царств; но они написаны другими авторами; как считается — уже после Соломона. В тексте же самого J никаких прямых упоминаний о Сауле, Давиде и Соломоне нет, и все, что в него «вложили» Кут и Орт, — это их самостоятельная историческая реконструкция. Таких реконструкций в последние годы появилось немало. Гипотеза Кута и Орта затрагивает небольшой отрезок истории — какое-нибудь столетие. Куда более масштабной — и волнуюшей воображение — является, например, та реконструкция (впрочем, уже в основном, постбиблейских событий), которую предложил недавно Грэм Хэнхок в своей книге «Знак и печать». Впрочем, эта смелая реконструкция заслуживает отдельного рассказа. >ЧАСТЬ 5 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ >ГЛАВА 1 ВЕЛИКИЙ ИЕРИХОН Опустевшая синагога в Иерихоне находится теперь на территории палестинского автономного анклава. Доступ евреям в город временно, запрещен. В один день древний Иерихон, некогда взятый еврейскими войсками, перед которыми, по преданию, пали его стены, превратился в палестинский административный центр. Что называется — росчерком пера. Предание о стенах, павших от рева еврейских военных труб, увековечило имя Иерихона в человеческой памяти. Но для историков это название звучит еще весомее. Иерихон — одна из важнейших вех на пути человечества из древнего каменного века в век бронзовый. Это один из древнейших, а может быть — и самый древний город на Земле. В сокровищнице исторических ценностей, которыми столь богата Земля Израиля, Иерихон — одна из ценнейших. Самому древнему из сохранившихся народов западной цивилизации вполне приличествовал самый древний ее город. Это не говоря уже о собственно еврейских памятниках Иерихона. Хотя бы о тех же Иродовых дворцах. По странной случайности совпало так, что одновременно с этой утратой вышел в свет специальный номер журнала «Сайентифик америкэн», под обложкой которого были собраны все ранее опубликованные в журнале статьи, посвященные древним городам мира. И конечно, открывала этот сборник статья, рассказывающая о раскопках в Иерихоне. Принадлежала она перу Кэтлин Кеньон, дочери бывшего директора Британского музея и знаменитой исследовательнице, которая в середине нашего века впервые открыла миру долгую и славную историю древнего Иерихона. Листая эту по существу мемориальную статью, вглядываясь в фотографии раскопок и найденных предметов, вчитываясь в рассказ автора, невольно ощущаешь, как ты все глубже и глубже опускаешься по ступеням веков в прошлое. Вот уже скрылись из виду гигантские метрополии современности, пустыннее стала Земля, все меньше на ней людей и людских поселений, в сотнях и тысячах километров находятся они друг от друга, разделенные безлюдными и дикими пространствами; вот уже одни только охотничьи племена с их каменными орудиями остались на поверхности планеты, и именно тут, в этой дали туманного прошлого, взгляд натыкается на нечто неожиданное и явно искусственное: мощные каменные стены, взметнувшиеся к небу из пустыни. Иерихон… Человечество не сразу перешло к оседлому образу жизни. Этот переход произошел лишь с окончанием последнего ледникового периода, «каких-нибудь» десять тысяч лет назад, в конце каменного века. Именно тогда в Западной Азии возникли первые оседлые поселения — то, что впоследствии стало называться городами. Значение их в истории цивилизации огромно — недаром англичане подчеркивают, что слово «city» одного корня со словом «цивилизация». Город — это нервный узел любой цивилизации, средоточие ее административных, религиозных, культурных и всех прочих функций, символ ее непрерывности и преемственности. Сегодня две трети человечества живет в городах. Но так было не всегда. Первые деревни сосредоточивали в себе каких-нибудь несколько сот, а то и всего несколько десятков жителей. Первым городом на Земле стало место, население которого впервые в истории перевалило за тысячу. Это и был Иерихон. На приведенной в журнале исторической шкале, протянувшейся от 8000 года до новой эры к 1000 году после ее начала, длинной цепочкой вытянулись самые древние города Земли. Открывает этот список Иерихон. За ним с разрывом в полтысячи лет следует Тель-Абу-Хурейра, что в Сирии. Проходят еще полторы тысячи лет, и появляются Чатал Хююк в Анатолии (современная Турция) и Мергар в нынешнем Пакистане. Только за пять с половиной тысяч лет до нашей эры возникли первые города Месопотамии — знаменитые Ур, Урук и другие, а за ними, с разрывом еще в три с половиной тысячи лет — Иерусалим и Кноссос (в русском написании Кнос) на Крите. Большинство этих городов ныне занесены песками, а Кноссос — вулканическим пеплом. И только в Иерихоне и Иерусалиме все эти нескончаемые тысячи лет-непрерывно продолжают жить люди — до наших дней. Что уж тут говорить о Помпеях или Петре, а тем более о первом русском городе Новгороде, возникшем практически уже в «наши» исторические времена, где-то на рубеже первого тысячелетия новой эры! Младенцы… Как ни странно, еще несколько десятков лет назад такой список немыслимо было себе представить. Историки знали, конечно, что Иерихон существовал еще во времена завоевания евреями Ханаана, но никогда не думали, что его стены уходят в такую седую древность. Да и стен этих давно уже не было. Первых археологов привела в Иерихон вовсе не эта древность (о которой никто не догадывался), а жгучее желание проверить библейскую легенду. Поиски рухнувших от «иерихонского рева» стен начал британский археолог Джон Гарстанг, который прибыл сюда в 1930 году. Именно он первым обратил внимание на древний холм неподалеку от города и пришел к выводу, что именно под этим холмом должны скрываться остатки библейского Иерихона. Холм (или курган) в семитских языках — «тель» — созвучен английскому «teil», что означает также «рассказывать». И раскопанный Гарстангом тель Иерихо действительно рассказал о прошлом города. Нет, археолог не нашел подтверждения библейской легенды. Зато он нашел кое-что куда более важное для исторической науки. Глубоко в раскопе его сотрудники обнаружили бесспорные свидетельства того, что люди жили в этих местах уже в конце каменного века. Иерихон стал сенсацией в мировой археологии. Не удивительно, что вслед за Гарстангом сюда пожаловала следующая археологическая экспедиция, которую возглавляла Кэтлин Кеньон. К тому времени она уже прославилась своим участием в раскопках в Родезии и Англии. В январе 1952 года ее сотрудники первый раз вонзили свои лопаты в землю Иерихонского теля и стали слой за слоем снимать его покровы. Основы современной археологии заложил еще в прошлом веке английский ученый Флиндерс Петри. Он указал, что датировка прошлого может производиться с помощью оставшихся от этого прошлого предметов, т. н. артефактов. В особенности красноречива в этом смысле глиняная посуда. Петри показал, что. каждой стадии истории Востока соответствовала своя особая посуда, виды которой можно классифицировать по эпохам и сопоставить с клинописными и иероглифическими надписями Египта и Месопотамии. Это позволяет в конечном счете датировать все такие эпохи, а с ними и те слои, в которых были обнаружены «говорящие артефакты». Важно только снимать эти слои один за другим, тщательно и терпеливо отделяя эпоху от эпохи. Разумеется, это не очень удобный, а главное — не очень точный метод. Отдельные слои порой идут под наклоном, углубляясь в землю и пересекаясь там с другими слоями. Черепки нередко перемешиваются временем и человеческой рукой. Впоследствии методы Петри были усовершенствованы и дополнены приемами радиографического (радиоуглеродного) определения дат, которые оказались несравненно более точными. Именно с их помощью удалось доказать, что даже Кеньон ошиблась в своей датировке иерихонских руин. Она определила возраст города в 7000 лет, тогда как радиографические методы показали, что он на добрую тысячу лет старше. Ошиблась Кеньон и во многом другом. Тем не менее ей принадлежит несомненная заслуга: она извлекла из небытия доселе практически неведомый древний город и показала его человечеству. Процесс раскопок — это нечто вроде послойной вивисекции прошлого. Снимая слой за слоем, археологи уходят в глубь истории, порой на десятки метров, если в данном месте, как в раскопанной Шлиманом Трое, каждое следующее поселение строилось на развалинах предыдущего. В Иерихоне глубина культурного слоя оказалась чудовищной — до 70 метров! Уже одно это говорило о глубочайшей древности и непрерывной преемственности жизни в этих местах. Оно и не удивительно. В раскаленной Иудейской пустыне первобытные охотники, первыми сменившие кочевой образ жизни на оседлый, могли поселиться только там, где есть вода и подходящая для земледелия почва. Иерихон — оазис среди пустыни, это видно еще и сегодня, когда спускаешься с Иудейских гор и едешь в сторону Мертвого моря. Зеленый пальмовый остров Иерихон кажется маревом среди окружающей каменистой пустыни. Оазис обязан своим существованием многочисленным подземным источникам, среди которых еще в древности выделялся т. н. «Фонтан Элиши». Экспедиция Гарстанга вскрыла неолитические слои только на самом крайнем, северо-западном углу холма. Да и то пришлось для этого рыть глубокую шахту. Кеньон сразу же обнаружила, что артефакты каменного века находятся и на западной оконечности холма, где древние слои подходят намного ближе к поверхности земли и залегают на глубине всего четырех метров. Первое поразительное открытие не заставило себя ждать: оказалось, что площадь поселения уже в каменный век была куда больше, чем думалось. По размеру оно явно превосходило примитивные поселения той эпохи (вроде Чатал-Хююка), которые археологи время от времени раскапывали на Ближнем Востоке. Это означало, что и по количеству жителей Иерихон уже в те времена значительно превосходил обычную деревню. Кеньон оценила его первоначальное население примерно в 2000 человек. Произвести эту оценку ей позволило второе крупное открытие. Доведя раскопки до скального слоя, то есть до максимальной глубины, сотрудники экспедиции вскрыли в этом первом, самом раннем слое остатки глиняных сооружений — те грубые хижины, в которых жили основатели Иерихона. Эти хижины напоминали собой глийяные подобия круглых шатров кочевых охотников. Но эта фаза иерихонских построек оказалась довольно короткой. Уже следующий период (следующий слой) продемонстрировал исследователям огромный прогресс в строительстве и архитектуре. Дома (а их уже можно было без преувеличения назвать не хижинами, а настоящими домами) приобрели прямоугольную форму, стены стали толще и солиднее, в них появились четко прорезанные входы, а внутреннее пространство жилья было разбито на отдельные комнаты, тесно группировавшиеся вокруг общего двора. Но самым интересным было то, что во многих таких домах стены и полы хранили следы штукатурки, что придавало им законченный, даже отчасти современный вид. Это уже были жилища прочно устоявшейся, сложившейся общины. К тому же общины весьма организованной, судя по тому, что все поселение было, по-видимому, обнесено массивной каменной стеной. У иерихонцев каменного века еще не было посуды, и этот вроде бы малозначительный факт показывает, как глубоко ушли археологи в глубь времен, к самому началу оседлой жизни человечества: ведь горшки и миски — это одно из первых изобретений оседлых людей. Несомненно, причиной, по которой бывшие охотники облюбовали и решили укрепить это место, была прежде всего его пригодность для земледельческой жизни. Обилие воды и тропический климат оазиса делали необычайно плодородной его землю, и пришельцы могли рассчитывать, что сумеют добыть себе здесь пропитание. Судя по тому, как расцвел и продолжал расти Иерихон впоследствии, они не обманулись в этих ожиданиях. Но прогресс этих первых поселенцев не ограничивался только областью материальной культуры. Одно из самых поразительных открытий, совершенных экспедицией Кеньон, состояло в обнаружении среди руин каменного века особого помещения, явно служившего ритуальным, то есть религиозным целям. В глубине небольшой комнаты археологи нашли нишу, где возвышался грубо обработанный каменный пьедестал, а рядом с ним — тщательно обработанный кусок вулканического камня, который, судя по виду и месту обнаружения, когда-то был предметом неизвестного нам религиозного культа. Окружавшие камень глиняные фигурки животных свидетельствовали о том, что религия первых иерихонских поселенцев скорее всего представляла собой культ плодородия. По сути, эта находка в Иерихоне позволила историкам воочию увидеть, как зарождались древнейшие религии оседлого человечества и как возникали их первые храмы. Но что еще более поразительно — оказалось, что культура древнейших земледельцев каменного века не исчерпывалась одним лишь культовым поклонением богам плодородия. Кеньон нашла целую галерею портретных масок! Их было семь, и каждая представляла собой высохший череп, на который какой-то неведомый древний художник наложил слой глины, грубо изобразив на нем черты человеческого лица. До сих пор историки искусства знали только о раскрашенных человеческих портретах из знаменитого Фаюмского оазиса в Египте. Теперь перед ними предстали, на несколько тысячелетий более древние, возможно первые в мире, изображения людей, к тому же — людей каменного века. Археологи увидели не просто глиняные или каменные фигурки божков и богинь — перед ними были лица реальных людей, живших семь — восемь тысяч лет назад! Иерихон оказался настоящей «машиной времени». Кто же были эти люди? Почему они удостоились такой почести? Не исключено, что это были портреты почитаемых в поселении предков-основателей вроде римских Ромула и Рема. Но если это так, то значит, искусство живого портрета (а не просто схематического изображения оленей и охотников, как во французских пещерах) возникло уже в седой древности. Уже тогда первобытный Рембрандт вглядывался в лица своих соплеменников, чтобы запечатлеть их для вечности. И видимо, отдавал себе отчет в том, что он творит… Говорят, что искусство особенно расцветает в суровые и опасные эпохи. Судя по толщине каменных стен первого города, иерихонский Рембрандт жил именно в такую эпоху: стены не воздвигаются для защиты от друзей. Иерихонцы одними из первых на Земле перешли к оседлому земледелию; вокруг еще бродили дикие охотничьи племена, и врагов у горожан, надо думать, было предостаточно. Тем не менее первый город просуществовал на удивление долго — об этом свидетельствует толщина культурного слоя, в пределах которого техника изготовления изделий практически не меняется. Жизнь людей в ту пору была короткой, умирали (или погибали) в среднем в возрасте тридцати лет. В городе успело смениться не одно поколение: сложились традиции, устоялись обычаи, проглядывалась в смутной дали непонятного времени какая-то своя легендарная история, о которой рассказывали детям и внукам. Всему этому пришел внезапный конец где-то в начале раннего бронзового века. Палестина, как ее станут в будущем называть, стала тогда местом бурного городского строительства. Как грибы после теплого дождя поднимались вокруг поселения, защищенные стенами, воздвигались дома и жилища, строились храмы и капища; там, где раньше на всю огромную пустынную округу был один Иерихон, слухи о котором наверняка уже обросли сказками и легендами, теперь появилось множество конкурентов. А где города, там цивилизация, а где цивилизация, там войны. К тому времени неолитический Иерихон уже высоко поднимался на своем холме — ведь столько поколений оставляли здесь следы своего пребывания на Земле. Примерно к 3000 году до новой эры (когда настоящие города на всей планете еще можно было пересчитать на пальцах) стены Иерихона окружал холм 20-метровой высоты. Из ворот города в разные стороны разбегались торговые дороги. Об этом можно судить по тому факту, что в слоях этой эпохи уже обнаруживается не только местная посуда, на и черепки глиняных изделий из других мест, подальше к северу, западу и востоку. Сотрудники Кэтлин Кеньон нашли в раскопках и другие признаки цветущей и широкой торговли. Город еще более расширился — видимо, разбогател. Надо полагать, что окрестное население массами тянулось под прикрытие иерихонских стен: ведь город защищал вход в Ханаан со стороны южных и восточных пустынь, откуда непрестанно рвались к этим плодородным землям племена кочевых охотников. С каждым разом они все ближе подступали к городу, а порой даже нападали на него. Судя по раскопкам Кеньон, стены Иерихона разрушались не менее 17 раз! И далёко не всегда виной этому были землетрясения. В 2100 году до н. э. стены были разрушены полностью и до основания. На сей раз виновники известны точно — это были воинственные племена амореев, именно в ту пору захватившие большую часть здешних земель. Они не только разрушили стены Иерихона — они еще вдобавок сожгли город дотла. После слоев с обожженными пламенем остатками стен пошли «пустые» слои — видно, жители бежали из города или были уведены в рабство. Почти двести лет угрюмые и безлюдные руины Иерихона одиноко высились в пустыне. Другие города, помоложе, став жертвой такой катастрофы, уходят в небытие, заносятся песками. Но не таков этот древнейший город. Уже на рубеже 2000 года до н. э. в археологических слоях снова стали появляться остатки жилищ. И опять, как в начале заселения, это грубые, примитивные постройки. Их явно создавали пришельцы, не знавшие навыков городской жизни, ее архитектуры и методов строительства. Видимо, на развалины Иерихона пришли жители других мест, привлеченные древней славой города и его плодородными землями. А к 1900 году до н. э. появляются новые крепостные стены и добротные, просторные дома. В развалинах этих построек археологи нашли бронзовое оружие и украшения из бронзы. Это позволило установить, что новые поселенцы пришли откуда-то с севера, несколькими волнами, причем каждая следующая волна несла с собой всё более высокую культуру бронзового века. Не удивительно, что город стремительно разрастался, и уже через несколько сотен лет периметр городских стен охватил огромную по тем временам площадь — самую большую, которую когда-либо занимал Иерихон. Сами стены тоже были построены по новой системе — вдоль основания их был насыпан вал, для того, видимо, чтобы воспрепятствовать приближению боевых колесниц. Культуру новых жителей Иерихона сохранили их гробницы. Археологи раскопали десятки таких гробниц с уцелевшими в них остатками изделий из дерева, текстиля, плетеных корзин и даже пищи. И снова Иерихон оказался непохожим на других: во всех остальных местах здешней земли такие артефакты давно истлели, а здесь время их совершенно не тронуло. Благодарить за это следует сухой и жаркий климат Иорданской долины. Он — и только он — позволил историкам узнать, как жили люди в Святой Земле в эпоху прихода сюда праотца Авраама. Каждая гробница содержала богатый набор вещей и провизии. Можно думать, что люди того времени верили в загробную жизнь и старались снабдить покойников всем необходимым для продолжения существования на том свете. Предполагалось даже, что они будут есть, сидя за столами, и поэтому в гробницах были обнаружены целые комплекты тогдашней мебели — деревянные столы, стулья и кровати, отделанные с немалым искусством. Деревянные и глиняные горшки и кувшины содержали запасы пищи, а большие, с четырьмя ручками сосуды — питье. На полах были расстелены плетеные матрацы, в деревянных чашках или алебастровых сосудах были приготовлены туалетные принадлежности, в плетеных корзинах навалом лежали деревянные и металлические гребни вперемежку с одеждой. Разумеется, все это сохранилось лишь фрагментарно, но и в таком виде позволяет увидеть, что люди в Иерихоне жили зажиточно. То была уже настоящая и довольно высокая по тем временам цивилизация. Конец ее наступил вместе с концом среднего бронзового века, с началом становления и расширения великих ближневосточных империй. Лежавший на скрещении путей Ханаан оказался, как и сейчас, предметом внимания и интереса великих держав. Около 1560 года до н. э. (Иерусалим уже был тогда столицей племени иевуситов) в страну вторглись египтяне. Иерихон был захвачен, разграблен и сожжен; С этого момента культурный слой снова становится стерильным. Предшественник Кэтлин Кеньон, уже упоминавшийся выше Гарстанг, нашел, правда, на краю иерихонского холма какие-то жалкие остатки невысоких стен и временных жилищ, которые он датировал 1350 годом до новой эры, но можно с почти полной уверенностью утверждать, что к концу этого столетия, то есть ко времени, которым большинство современных историков датирует завоевание Ханаана евреями, не высился вблизи Мертвого моря богатый и сильный город и не было тех стен, которые мог бы сокрушить рев еврейских боевых труб. Предание о рухнувших от трубного гласа стенах Иерихона — всего лишь красивая легенда. Йегошуа бин-Нун не был ни первым, ни последним среди тех полководцев, кто слегка преувеличил свои боевые заслуги, — достаточно глянуть на победные стелы египетских фараонов и ассирийских царей того времени. Впрочем, у бин-Нуна были вполне реальные причины гордиться взятием Иерихона — вступив в этот древний город, он вместе со своим народом вступил в историю. С этого времени первый город на планете продолжил свою жизнь уже как еврейский город. Пока в наши дни не стал палестинским. >ГЛАВА 2 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ А вот еще кое-что о древних строителях, хотя, скорее, из области забавного. Как многим, наверно, известно, по всей территории Британского королевства рассеяно множество древних каменных монументов, состоящих из ряда вертикальных подпорок, поддерживающих поперечную. Они получили название «хедж». Самый знаменитый и интересный из них, Стоунхедж, расположен на равнине Солсбери, что на юго-западе Англии. Историки полагают, что его строительство заняло примерно четыреста лет и закончилось 4800 лет назад. Комплекс Стоунхеджа состоит из наружного кольца П-образных каменных сооружений из песчаника — это вертикально стоящие камни высотой около 4,5 м, которые поддерживают горизонтальные каменные «перекладины». Кроме того, имеется также внутреннее кольцо из камней пониже, которое повторяет форму наружного. Множество разнообразных гипотез высказывалось по поводу назначения этого монумента. Многие ученые считают, что это был храм, в котором в период неолита происходили культовые процессии священников и мистические празднества, а вокруг, в открытом поле, располагались зрители. Возможно также, что это было место для некультовых зрелищных представлений. Так вот, недавно была выдвинута новая, весьма забавная гипотеза, согласно которой дизайн Стоунхеджа основан на женской сексуальной анатомии. Автор гипотезы — доктор Антони Перке, отставной профессор гинекологии и акушерства университета Британской Колумбии в Ванкувере и врач университетской женской больницы. Внимательно рассматривая камни Стоунхеджа, он заметил, что некоторые из них тщательно отполированы, а другие остались необработанными. Это навело его на мысль о связи отполированных камней с профессионально хорошо знакомыми ему особенностями женской кожи. Гладкость женской кожи по сравнению с мужской давно известна и связана с женским гормоном эстрогеном. «Каких же гигантских усилий стоило древним людям шлифовать камни вручную», — подумал доктор Перке и решил проанализировать весь монумент в анатомических терминах женского полового аппарата. Он увидел, что камни внутреннего кольца расположены скорее по эллиптической, яйцеобразной кривой, нежели по кругу. Сравнение ее формы с формой женских половых органов показало неожиданный параллелизм. Дальнейшее изучение монумента выявило другие интересные детали, и в результате у Перкса родилась законченная и оригинальная гипотеза. Согласно, этой гипотезе, наружный каменный круг и невысокий холм в его центре, возможно, имитируют т. н. большие срамные губы (две покрытые волосами кожные складки, которые окаймляют отверстие влагалища и сзади от него срастаются вместе) и лобок, тогда как внутренний круг изображает малые срамные губы (две другие складки, не покрытые волосами, вокруг женского влагалища, у передней точки соединения которых находится клитор). Тогда камень алтаря (или жертвенника) должен соответствовать самому клитору, а пустой геометрический центр, очерченный камнями малого круга, — символ детородного канала. При всей своей кажущейся забавности гипотеза Перкса содержит некое здравое научное зерно. Перкс обращает внимание на тот факт, что, в отличие от других холмов на просторах Англии, в холмах, окружающих Стоунхедж, найдено очень мало захоронений. Он трактует это как подтверждение своей гипотезы: «Я думаю, что это место было символом жизни, а не смерти». По мнению Перкса, комплекс Стоунхеджа был посвящен богине Матери-Земле. Поклонение этой богине было распространено среди ранних кельтов и людей других европейских неолитических культур. В Европе найдены сотни статуэток, так или иначе выражающих идею богини-Матери. Они были созданы в те времена, когда роды сопровождались высочайшей смертностью младенцев, и поэтому вполне возможно, что богине-Матери молились также о выживании новорожденных и вообще о плодородии. Поэтому Стоунхедж, по мнению Перкса, мог служить для таких «церемоний плодородия», которые связывали рождение и выживание человека с рождением и выживанием растений и животных, от которых зависели тогдашние люди. Любопытно, что почти одновременно с Перксом проблемой Стоунхеджа занялся другой ученый, голландский профессор философии Джон Давид Норт. Он выдвинул совершенно иное (и более консервативное) предположение, заявив, что камни Стоунхеджа расположены так, что образуют точную проекцию определенных звезд, а потому следует думать, что Стоунхендж служил астрономической обсерваторией и картой звездного неба. Доктор Перке признает, что монумент, возможно, был связан и со звездным небом, но видит это в ином свете. «В Стоунхедже мы видим на открытой равнине Солсбери небесный свод вместе с Землей. Как будто бы Отец-Солнце встречается с Матерью-Землей на середине пути, в месте, обращенном к будущему». Так что правило «Шерше ля фам», то бишь «Ищите женщину», иногда, как видим, помогает и в поисках разгадок доисторических тайн. Если и не очень убедительных, то весьма увлекательных разгадок. Не оглянуться ли и нам на иные наши древности? >ГЛАВА 3 СЕКСУАЛЬНЫЕ РАБЫ ИШТАР В гипотезе доктора Перке есть и другое рациональное зерно. Древние люди действительно много размышляли о женщинах. Оно и понятно — женщины рожали детей, т. е. были залогом будущего. Может быть, потому и секс играл огромную роль в древней культуре — чему доказательством нижеследующая занимательная история. Она начинается словами (кое-где попорченной) вавилонской рукописи:
Эта пространная эротическая поэма, лишь небольшой отрывок из которой приведен выше, описывает длинную череду сексуальных сношений вавилонской женщины по имени Иштар со 120 юношами ее города. Сей примечательный текст, в котором то и дело повторяется припев: «Вот так милуются девки с парнями в нашем городе!», был обнаружен в собрании клинописных текстов религиозного толка в развалинах главного центра вавилонской религии, города Ниппур, который историки иногда называют «Ватиканом Ново-Вавилонского царства». Глиняная табличка с текстом поэмы была найдена во время раскопок древнего Вавилона в 1880 году одним из пионеров современной археологии Германом Хильпрехтом. Судя по всему, поэма была написана во время царствования знаменитого Хаммурапи, но найденный Хильпрехтом текст, представлял собой более позднюю копию, что свидетельствует о большой популярности данного произведения. Сорок лет царствования Хаммурапи (XVIII век до н. э.) были временем расцвета Вавилонии. В те времена царство это было религиозным, культурным и научным центром всего Ближнего Востока. Именно тогда было создано первое в истории собрание законов, известное под названием «кодекса Хаммурапи». И одновременно то была эпоха бурного расцвета литературного творчества. «Тексты, описывающие сексуальные отношения вавилонян, представляют собой органическую часть этой богатой литературной традиции, — говорит профессор израильского Беэр-Шевского университета Авигдор Гурвиц, посвятивший этому гимну древнего распутства статью в вышедшем недавно в США сборнике «Разгадывая загадки и распутывая узлы». — Секс был такой же законной темой искусства, как в наши дни, когда, например, в кинофильме, не имеющем никакого отношения к порнографии, можно встретить постельные сцены. Так же и в знаменитой вавилонской поэме «Деяния Гильгамеша» имеется эпизод, в котором дикое лесное существо Энкиду семь суток подряд совокупляется с блудницей». По словам проф. Гурвица, вавилонское общество было значительно более терпимым и открытым в отношении секса, чем еврейское или христианское, и вавилоняне свободно обсуждали любые сексуальные проблемы. Секс был также и куда более доступен. Так, например, в городе Ашшур (на территории нынешнего Ирака) существовал храм богини любви Иштар, в развалинах которого были найдены медальоны с изображениями храмовых проституток мужского и женского пола; как полагают исследователи, сношения с ними считались своего рода магическим ритуалом. «Напротив, в еврейских источниках, — продолжает Авигдор Гурвиц, — о сексе, как правило, говорится весьма сдержанно, и всякое описание сексуальных отношений, выходившее за рамки общепринятого, считалось предосудительным». Так, в известном рассказе Книги Судей о Яэли и Сисаре так и не сказано напрямую, сопровождалась ли их встреча половым актом. Впрочем, согласно талмудическому комментарию рава Йоханана, стих «Между ног ее встал на колени, опустился и лежал, между ног ее встал на колени и опустился, там, где встал на колени, лежал, убитый» следует понимать в том смысле, что Сисара успел семь раз овладеть Яэлью, прежде чем она его убила. Подобно древним еврейским авторам, современные ассириологи относятся к проблеме секса весьма консервативно, и, например, в одном из известнейших английских переводов «Деяний Гильгамеша» переводчик Александр Хейдель предпочел перевести слишком скабрезную сцену… по-латински! Возможно, по тем же причинам и эротические гимны, повествующие о вавилонском разврате, оставались неизвестными в течение многих лет (с самого момента их обнаружения), и лишь в самое последнее время они нашли своих переводчиков. Немецкий ассириолог Вольфрам фон Зоден перевел их на немецкий, но при этом ограничился обсуждением лишь грамматических особенностей текста. Тем не менее даже на основании этого анализа фон Зоден пришел к выводу, что найденная глиняная табличка, по всей видимости, представляет собой отрывок более обширного текста — возможно, культового или ритуального характера. Исследование Авигдора Гурвица основывается на переводе фон Зодена, но, в отличие от труда немецкого исследователя, представляет собой первый в ассириологии чисто литературный анализ поэмы. По мнению Гурвица, «этот текст представляет собой одно из древнейших порнографических произведений вавилонской письменности. А то, что текст этот написан по-аккадски — на древнем языке богослужения, — не более чем прием. В поэме масса юмористических моментов и остроумной словесной игры, что свидетельствует об определенной литературной изощренности автора». В процитированном отрывке речь идет о женщине по имени Иштар (судя по всему, вполне обычной, живой женщине, а не одноименной богине), с которой хотят совокупиться юноши города. Один из них предлагает, ей усладить себя. Его товарищ, видимо, сочтя, что это вежливое предложение не будет оценено по достоинству, добавляет перца и предлагает Иштар нечто более грубо-откровенное. Ответ Иштар превосходит все ожидания юношей: она предлагает себя не только им, но и всему городу, и приглашает городских юношей «в тень стены». Речь идет, по-видимому, о том районе, который в древности служил эквивалентом современных «кварталов красных фонарей», ибо и о блуднице Рахав в Библии сказано, что «дом ее вблизи стены и у стены она живет». 120 юношей решают воспользоваться соблазнительным предложением Иштар, и каждый из них совокупляется с ней по «семь раз спереди и семи раз сзади». Но даже эти сотни половых актов не удовлетворяют женского сластолюбия. Юноши изнемогли, но Иштар требует еще. Рассказ кончается тем, что изнуренные юноши все же удовлетворяют ее желание. «Все мужчины хотят послужить этой женщине, но Иштар оказывается сильнее и выносливей своих сексуальных рабов», — отмечает проф. Гурвиц. По его мнению, автор поэмы выражает здесь — быть может, впервые в истории — феминистскую позицию: «Иштар — это высшее воплощение сексуального объекта; она предлагает всем свое тело, но на самом деле никому не подчиняется и никому не принадлежит. Женщина здесь изображена существом высшего ранга, а мужчины — низшими существами, которые служат ей и подчиняются ее воле». Вместе с тем профессор Гурвиц признает, что поскольку мы имеем дело с литературой, всегда существует опасность переноса наших нынешних представлений на древний текст со всеми его очевидными и неизбежными неопределенностями. Что, может быть, и так. >ГЛАВА 4 ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ В АККАДЕ Поскольку мы уже упомянули об аккадском языке, поговорим об Аккаде. Катастрофы, как известно, происходят не только в природе. Вопросительными знаками загадочных катастроф кончаются также страницы человеческой истории, посвященные взлету и упадку многих великих империй прошлого. И эта история — как раз об одной такой загадке, связанной с древним Аккадским царством великого Саргана, и о новейшей гипотезе, предлагающей ее объяснение. Одна из самых популярных книг об истории Древнего Ближнего Востока называется решительно и кратко — «История начинается в Шумере». В пику этому — и со значительно большим правом — наш рассказ можно назвать «История начинается в Аккаде», ибо если Шумер и был самой процветающей частью древней Месопотамии, то все же первыми объединили все города Двуречья, включая шумерские Ур, Лагаш, Урук и другие, именно цари Аккада. Давайте, однако, для начала поставим, как говорится, текст в контекст. Набросаем общие историко-географические контуры происходящего. Итак, место действия — Месопотамия, или Двуречье (долина Тигра и Евфрата); время действия — 3-е тысячелетие до новой эры. Еще должны пройти добрые полтысячи лет, прежде чем древние евреи переселятся в Египет, и почти тысячелетие до того, как они совершат Исход оттуда. Но уже и в. середине 3-го тысячелетия в Египте существует могущественное государство, именуемое сегодня Древним царством; в нынешней Палестине и Сирии там и сям возникают торговые города и земледельческие поселения; на Крите и Эгейских островах развивается культура раннего бронзового века. Свой островок цивилизации существует и в Двуречье. Южная часть страны, или Шумер, с ее Уром, Уруком, Лагашем и другими городами пересечена ирригационными каналами — благодаря им речные воды оплодотворяг ют пахотные земли, на которых дважды в год ячмень приносит 50-кратные урожаи; северная часть, Аккад, славится бескрайними пшеничными полями, среди которых высятся города-государства Вавилон, Киш, Сиппар, Кута, Акшак. В сущности, все это — территория нынешнего Ирака, пограничная с нынешним Ираном, и вот здесь-то и начинается в те времена трехтысячелетняя история великих империй Древнего Ближнего Востока. Перечислим их в порядке появления и смены друг друга: Аккадское царство; Вавилонское царство; Ассирийское царство; Нововавилонское царство; Персидская империя; империя Александра Македонского. На этом фоне со 2-го тысячелетия до н. э. развивается и более знакомая нам история древних евреев. А началось все, как уже было сказано, в Аккаде. В 2360 году до н. э. царь аккадских земель Сарган (позднее прозванный Великим) завоевал не только все города шумеров, но и раздвинул границы созданного этими завоеваниями государства на восток далеко за Персидский залив, в земли Элама; на запад — до берегов Средиземного моря (так что в пределах этих границ оказались Сирия, Ливан и Палестина); на юг — до нынешнего Омана; и на север — до равнин. Анатолии, что в сердце нынешней Турции. Поистине грандиозная получилась империя, территориально, вероятно, самая большая в мире по тем временам. Историкам известно (из надписей и раскопок), что при сыновьях и внуках Саргана (сам он умер в 2305 году до н. э.) созданное им государство процветало и укреплялось. Вдоль северных границ, откуда то и дело пытались прорваться воинственные племена горцев, были воздвигнуты многочисленные могучие крепости; на юге расширялась и совершенствовалась система оросительных каналов; повсюду строились ступенчатые храмы-зиккураты и величественные дворцы для придворной аристократии и бюрократической элиты. Так продолжалось ещё около ста лет после смерти Саргона, а затем произошло что-то непонятное: почти внезапно и одновременно все эти цветущие города, могучие крепости и плодородные поля были заброшены и отданы во власть свирепым песчаным ветрам; люди, населявшие северную часть Аккада, покинули свои жилища и бежали на юг, словно гонимые каким-то непонятным страхом; великое царство в одночасье развалилось и стало добычей варваров, спустившихся с гор. Крушение Аккадского царства было таким основательным, что больше оно уже не возродилось, а первые робкие признаки возрождения Двуречья появились лишь спустя 300 лет, в 1900 году до н. э.! И понадобилось еще целое столетие, прежде чем земли Двуречья снова объединил (на сей раз уже в виде Вавилонского царства) великий завоеватель и законодатель Хаммурапи. Вот это и есть та загадка, которой посвящен наш рассказ. Что вызвало бегство горожан и крестьян Аккада на юг? Что вообще вызвало этот неожиданный, ничем вроде бы не предвещавшийся крах Аккадского царства? И почему все это произошло не просто «очень быстро», а буквально «в одночасье», в течение нескольких считанных лет (сегодня это событие датируется вполне точно — оно произошло около 2200 года до н. э.)? Первая мысль — вторжение каких-нибудь пришлых завоевателей. Но нет, исторические памятники и данные раскопок не подтверждают такой гипотезы. Вторжение с гор действительно произошло, только не до, а после развала империи; иными словами, оно было не причиной этого развала, а его следствием. Мысль вторая — какой-нибудь гигантский природный катаклизм вроде того, который, как сегодня все более уверенно считается, 65 миллионов лет назад уничтожил динозавров. Но нет, не сохранились в истории следы такого катаклизма, а должны были бы обязательно сохраниться, если бы он был столь грандиозных масштабов — ведь Аккадское царство охватывало практически весь Ближний Восток. Надо заметить, что большинство историков — «древнеближневосточников» долгие десятилетия весьма единодушно игнорировали все эти вопросы. Более того — они вообще не видели здесь загадки. По их мнению, развитие Аккада следовало обычному закону развития всех древних империй: они оказывались не способны интегрировать завоеванные ими отдельные города-государства в рамки единого государственного целого; в результате в их основах рано, или поздно обнаруживалась «имперская слабость» и они становились легкой добычей очередных, вторгавшихся извне варваров. В случае Аккада эта схема была сформулирована авторитетнейшим ассириологом Норманом Иоффе из Мичиганского университета, который даже не потрудился хоть как-то ее конкретизировать, заявив без всякого стремления к оригинальности: «Неспособность включить традиционную знать городов-государств в процесс расширения империи усилила центробежные тенденции и тем самым сделала фланги империи чересчур уязвимыми». Понятно, что подобные теории могли держаться лишь до тех пор, пока датировка Аккадской катастрофы была расплывчатой и туманной. Но постепенно в археологии Ближнего Востока стали накапливаться данные, свидетельствовавшие о том, что эта катастрофа была исторически «внезапной» и явно связанной с какими-то природными причинами… На такие причины издавна указывала народная традиция — например, знаменитая древняя поэма «Аккадское проклятие», приписывавшая падение Аккада гневу бога Энлиля, храм которого якобы разрушил последний из аккадских царей, в наказание за что, Энлиль-де наслал на Аккад засуху, голод и вторжение варваров. Разумеется, поэма, да еще древняя, не очень серьезное свидетельство, согласимся. Однако в конце 40-х — начале 50-х годов с аналогичными «стихийно-природными» объяснениями Аккадской катастрофы выступили некоторые серьезные ученые. Например, французский археолог Шеффер высказал предположение, что эта катастрофа была вызвана повсеместными землетрясениями, а британский археолог Мелларт выдвинул гипотезу, что ее основной причиной были затяжные засухи. Однако в те времена большинство специалистов сочли эти объяснения чересчур «фантастическими». Ученые, подобные Иоффе, продолжали считать причиной катастрофы постепенное накопление неблагоприятных социально-политических факторов; другие, как израильский археолог Арлена Розен из университета имени Бен-Гуриона, признавая возможную «частичную роль» экологических причин, тем не менее, основную вину возлагали на «негибкость древних властителей», не сумевших-де «приспособиться к изменившимся условиям»; наконец, третьи, как американский археолог Бутцер, соглашаясь признать за экологическими причинами «весьма значительную» роль, все же объявляли их чем-то вроде последней соломинки, сломавшей спину уже до того перегруженного «имперского верблюда». А меж тем ни одна из этих групп ученых не могла объяснить тот важнейший, к тому времени неоспоримо установленный факт, что в 2200 году до н. э. «что-то» произошло не только в Аккаде, но одновременно чуть ли не на всей территории тогдашнего средиземноморского мира. И раскопки с применением более точных методов датировки, и углубленное изучение новонайденных памятников действительно показали, что практически одновременно с крахом Аккадского царства в Месопотамии произошло и падение Древнего царства в Египте, и массовое и повсеместное обезлюдение городов и поселений Сирии и Палестины, и почти внезапное крушение раннебронзовой крито-эгейской культуры. Тут уже «центростремительными процессами» и «уязвимостью имперских флангов» ничего не объяснишь. Налицо была серия несомненных и весьма масштабных исторических катастроф, практическая одновременность которых требовала каких-то иных, столь же крупномасштабных объяснений. Может быть, историки и археологи по-прежнему продолжали бы держаться за свои излюбленные социально-политические концепции постепенно нараставшего «имперского кризиса», но к этому времени в науке произошло еще одно существенное изменение: стал ощутимо меняться характер представлений о ходе исторических процессов в целом. Прежние представления о постепенном, медленном, «градуальном» характере биологической и исторической эволюции стали все более уступать место новым теориям, подчеркивавшим чрезвычайно важную, порой, возможно, решающую роль «точечных», «одномоментных» событий катастрофического характера. Короче, в науку стал возвращаться «катастрофизм», сформулированный в Начале XIX века Жоржем Кювье, а после Дарвина изгнанный из научного обихода. Важнейшей вехой этого поворота стала выдвинутая в 1980 году отцом и сыном Альварецами гипотеза о столкновении Земли с астероидом (или крупным метеоритом) как главной причине внезапной, массовой и практически одновременной гибели динозавров. Поначалу высмеянная чуть ли не всеми специалистами, эта гипотеза спустя десять лет была блестяще подтверждена обнаружением вполне реальных следов такого столкновения, сохранившихся во многих местах планеты (в частности, следов иридия метеоритного происхождения), а затем и остатков соответствующего кратера на дне Мексиканского залива. Успех Альварецов вдохновил тех молодых историков и археологов, которым давно не давала покоя загадка Аккадской катастрофы и которых не удовлетворяли ее традиционные объяснения, и в 1993 году группа этих ученых (американец Харви Вейсс, француженка Мари-Агнес Курти и другие) выступила в журнале «Сайенс» с оригинальной гипотезой, основанной на совокупности множества новых фактических данных и предлагавшей новое решение давней исторической проблемы Аккада. Те фактические данные, которые легли в основу этой нашумевшей (и открывшей длящийся по сей день яростный спор историков), статьи, были собраны ее авторами в течение почти 15 лет раскопок на холме Тель-Лейлан в Северной Сирии. Здесь, под многовековыми песками, были обнаружены остатки древнего города, который в свое время был одним из торговых и политических центров Аккадского царства. Результаты раскопок Тель-Лейлана во многом перевернули прежние представления специалистов о развитии цивилизации Двуречья. Раньше считалось, что хотя объединителями здешних земель были цари Аккада, но подлинную культуру — земледелия, строительства и т. д. — привнесли; в Аккадское царство жители юга — шумеры (отсюда. и упомянутое в начале этого рассказа название — «История начинается в Шумере»). Теперь выяснилось, что в действительности развитие севера и юга Месопотамии происходило практически одновременно и параллельно. Тель-Лейлан начал стремительно расширяться и застраиваться уже в 2600 году до н. э., задолго до объединения страны под властью Саргона Великого и появления на севере шумеров. К 2400 году до н. э. город увеличился в шесть раз, заняв общую площадь в 20 гектаров. Его жилые кварталы были тщательно распланированы, прямые улицы — пересечены дренажными каналами, в центре высился величественный акрополь. При Саргоне, его детях и внуках этот рост продолжался за счет переселения в Тель-Лейлан жителей окрестных городов. Судя по найденным документам, такие переселения одновременно происходили и в других местах царства; переселенцы направлялись затем на государственные работы по освоению новых земель и прокладку торговых дорог, что способствовало дальнейшему росту процветания страны. Иными словами, вплоть до 2200 года до н. э. ни раскопки, ни документы не содержат и намека на какой бы то ни было «подспудный кризис империи», который якобы стал причиной ее последующего краха. Второе обстоятельство, неопровержимо установленное раскопками в Тель-Лейлане, — несомненная историческая «внезапность» этого краха. Вот только что (в 2250 году до н. э.) были воздвигнуты новые, мощные крепостные стены и переселены в город окрестные жители, а спустя каких-нибудь 40–50 лет Тель-Лейлан уже покинут и занесен песком! Исследователи обнаружили, что песчаные слои, покрывающие рухнувшие городские строения, не содержат ни малейших признаков человеческой деятельности на протяжении всех последующих 300 лет — только около 1900 года до н. э. в этих слоях вновь появляются следы пепла, бытового мусора, а затем и развалины новой имперской крепости. Любопытно также, что первыми на руины аккадского Тель-Лейлана легли слои песка, смешанного с вулканической пылью. Откуда она взялась в этих местах, где уже сотни тысяч лет не было никаких вулканов, непонятно, но еще интереснее, что та же картина была обнаружена и во многих других местах, где молодые исследователи подняли древние песчаные слои. Развалины Тель-Тайя, Хагар-Базара, Тель эль-Хавы и других древних аккадских крепостей тоже оказались засыпаны смесью песка и вулканической пыли, а затем — безжизненными слоями чистого песка толщиной около 20 см. Применяя методы радиоактивной датировки, исследователи установили, что начальный слой песка во всех этих местах относится к 2200-у, а последний — к 1900 году до н. э. Иными словами, все данные свидетельствовали о том, что равнины Северной Месопотамии были покинуты их жителями на целых 300 лет, начиная с 2200 года до н. э. Те же методы датировки, примененные другими археологами к развалинам других великих культур Средиземноморья (в Египте, на Крите и т. д.), показали, что и там крах первых цивилизаций произошел в то же самое время. Более того, обнаружены следы «разрыва исторической непрерывности», а проще говоря — некой загадочной исторической катастрофы, причем в столь отдаленных от Средиземноморья местах, как долина Инда и равнины Кении. И опять в то же самое время — около 2200 года до н. э. Добавим к этому, что результаты недавнего (1996 год) исследования отложений на дне Оманского залива обнаружили и там следы того же катаклизма: слой этих отложений, относящийся к 2300–2200 годам до н. э., оказался впятеро более богат осадками, чем все предыдущие и последующие, и к тому же насыщен все той же вездесущей вулканической пылью. Таким образом, картина катаклизма 2200 года до н. э., первые штрихи которой были прочерчены загадочной «Аккадской катастрофой», постепенно расширилась, охватив почти все известные тогда очаги человеческой цивилизации. Аккадская катастрофа оказалась не только вполне реальным историческим событием, но и одним из многих аналогичных катастрофических событий того же времени. Толчок, полученный исторической мыслью в результате новых исследований молодых западных археологов в покинутых городах Аккада, постепенно привел к становлению совершенно неожиданной концепции крупномасштабного катаклизма, одновременно затронувшего весьма отдаленные друг от друга регионы земного шара. И в этом смысле можно лишь повторить, что вся эта история, действительно, началась в Аккаде. Но что же все-таки было причиной данного катаклизма? Несомненно, главную, так сказать, непосредственную роль в нем сыграло наступление длительного периода устойчивых песчаных бурь и засух, растянувшихся на долгие десятилетия и сделавших невозможной жизнь в городах Северной Месопотамии. Бегство тамошних жителей на юг было, видимо, прямым следствием этих экологических бедствий. Можно думать, что какие-то аналогичные причины привели к произошедшим в те же времена изменениям в течениях Нила и Инда. Все это, вместе взятое, ознаменовало наступление длительного, почти трехвекового периода засух и холодов на огромном пространстве Азии, Северной Африки и Южной Европы. Но исходной причиной катаклизма были, надо думать, еще более масштабные события. Некоторые указания на их возможный характер дают последние результаты, полученные при исследовании отложений на дне Атлантического океана между Гренландией и Исландией. В этих отложениях обнаружены слои того же времени, особенности которых свидетельствуют о резком изменении климата всего северного полушария. Некоторые климатологи высказывают на этом основании гипотезу о связи этого похолодания с неким длительным и устойчивым «эффектом Эль-Ниньо». Ведь и в наше время этот эффект, вызываемый изменениями океанских течений, оказывает существенное влияние на погоду в общепланетарном масштабе. Однако окончательного ответа на вопрос о причинах катаклизма 2200 года до н. э. пока еще нет, и, как выразился один из исследователей, тот, кто этот убедительный и однозначный ответ найдет, может наверняка рассчитывать на Нобелевскую премию. Так что загадка «Аккадской катастрофы» все еще ждет своего решения. >ГЛАВА 5 ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПОТОПУ Перефразируя начало предыдущей истории, можно сказать: катастрофы происходят не только в человеческой истории, куда чаще они происходят в природе. О многих мы знаем, другие остаются предположительными. Об одной из таких «предположительных катастроф» шла речь на конференции Археологического института Соединенных Штатов, состоявшейся в городе Сан-Диего. Главным событием конференции была встреча американских археологов и историков с геологами Вильямом Райаном и Уолтером Питманом — авторами нашумевшей книги «Ноев потоп, или новые научные открытия, связанные с событием, которое изменило мир». Чем же прославились эти геологи, что с ними захотели встретиться специалисты совсем другой профессии, казалось бы, от геологии весьма далекой? Десять лет назад, в 1996 году, Райан и Питман, специалисты по геологии морей, выдвинули дерзкую гипотезу, согласно которой Ноев потоп действительно происходил — только не на всей Земле, а лишь в определенной ее части, в Черном море. Опираясь на результаты своих многолетних исследований подводной периферии этого моря и древних осадков вдоль нее, Райан и Питман пришли к выводу, что примерно 7600 лет тому назад (то есть около 5600 года до н. э.) Черное море весьма быстро и резко изменило свою акваторию. Найденные авторами факты указывали, что площадь моря за какие-нибудь считанные месяцы (максимум — за два года) увеличилась почти на 30 процентов, залив при этом свыше 150 тысяч квадратных километров прибрежных земель. По мнению Райана и Питмана, это произошло в результате внезапного прорыва скалистого перешейка, который до того отделял Черное море от Средиземного. В образовавшийся пролив (ныне мы его называем Босфорским) хлынули средиземноморские воды. Обрушиваясь в более низко лежавший черноморский бассейн, они создали гигантский водопад, по мощности превышавший двадцать Ниагарских водопадов, который в короткое время изменил не только облик самого Черного моря, но и всю культурную географию региона. Спасаясь от быстро наступавшей воды, прибрежные жители вынуждены были покинуть давно освоенные и обжитые берега и в панике рассеяться кто куда. Райан и Питман высказали убеждение, что именно это «великое бегство народов» привело к тому, что-навыки сельского хозяйства, впервые выработанные людьми как раз у берегов благодатного Черного моря, были перенесены, с одной стороны, в Центральную и Западную Европу, а с другой — на Ближний Восток и в Месопотамию. Такое огромное бедствие, такой гигантский природный катаклизм не мог не запечатлеться в памяти перенесших его людей, и вот сказание о потопе, содержащееся как в библейском рассказе о Ноевом ковчеге, так и в предшествовавшем ему месопотамском мифе о Гильгамеше (там роль Ноя играет бессмертный Утнапиштим) как раз и является, по словам авторов, отражением и косвенным свидетельством реальности «черноморского потопа». Впечатляющая гипотеза Райана и Питмана не могла не вызвать споров и дискуссий, и таковые не замедлили последовать. Геологи, ознакомившиеся с доводами коллег, нашли их достаточно убедительными. С гипотезой согласились и некоторые археологи и историки. Так, Альберт Аммерман из университета Колгэйт заметил, что первое появление оседлых поселений и признаков сельского хозяйства в современной Венгрии датируется временем, на 200 лет более поздним по сравнению с предполагаемым «потопом», что вполне согласуется с гипотезой об «исходе» носителей оседлости и агрикультуры с берегов Черного моря. Сами авторы гипотезы, продолжая свои изыскания, обнаружили в донном иле у берегов Черного моря раковины, принадлежащие мелким морским животным, характерным именно для Средиземного моря, причем, судя по радиоактивной датировке, животные эти погибли как раз 7600 лет тому назад. Еще более интересное и отчасти загадочное открытие Райан и Питман сделали вблизи пролива Босфор, в Мраморном море. Они нашли здесь на морском дне странное подводное образование, имеющее характер длинной (почти полукилометровой) дамбы, постепенно поднимающейся на высоту пятиэтажного дома. Если дальнейшее изучение покажет, что дамба имеет искусственный характер, это может быть еще одним свидетельством того, что в древние времена на месте Мраморного моря была обжитая суша, разделявшая Черное и Средиземное моря. Но самые любопытные доказательства в пользу справедливости гипотезы «черноморского потопа» нашел пенсильванский археолог Фредрик Хиберт, в течение нескольких лет изучавший подводное побережье Черного моря вблизи турецкого города Сйноп. В ходе своих исследований он применял подводные эхолокаторы и другие средства дистанционного фотографирования. Недавно на телеэкранах был показан сенсационный научно-документальный фильм, сделанный Хибертом с помощью этих методов. На снимках отчетливо видны наполовину ушедшие в донный ил остатки обработанных камней, образующих нечто вроде древнего жилища, и другие приметы явно существовавшего здесь в древности и позже затопленного поднявшимся морем оседлого человеческого поселения. Ободренные всеми этими доказательствами справедливости своей гипотезы, Райан и Питман собрали их в книгу под вышеупомянутым заглавием. Именно эта книга и послужила предметом споров, развернувшихся вокруг гипотезы «черноморского потопа» на конференции Национального археологического института в Сан-Диего. Дело в том, что, в отличие от немногочисленных энтузиастов вроде Хиберта, большинство историков и археологов и прежде не соглашалось с далеко идущими выводами Райана и Питмана; теперь же, после выхода в свет их обобщающего труда с «новыми научными доказательствами», это большинство и вовсе восприняло идею в штыки. Надо, однако, заметить справедливости ради, что главные возражения историков и археологов вызывает не столько геологическая сторона аргументации авторов, сколько их культурно-исторические выводы. Выступая на конференции в Сан-Диего, английский историк Стефани Далли из Оксфорда указала, что намеченные Райаном и Питманом параллели между их описанием «потопа» и его описанием в ближневосточных мифах крайне сомнительны. Как в истории Гильгамеша, так и в рассказе о Ное говорится, что потоп был вызван дождём, который шел непрерывно в течение длительного времени, так что покрыл «всю землю»; между тем в случае постепенного, пусть даже быстрого подъема уровня моря суша все время должна была быть видна. Весьма странно также, что память о потопе сохранилась почему-то лишь в ближневосточных мифах: если бы он происходил так, как описано у Райана и Питмана, воспоминания о нем должны были отразиться и в легендах Центральной Европы, куда, если верить авторам, ушла значительная часть «беженцев». Но в европейской мифологии следы «потопа» начисто отсутствуют. Поэтому куда более вероятно, что ближневосточные мифы о потопе были все-таки порождены не «черноморским потопом» Райана — Питмана, а теми катастрофическими наводнениями, которые в древности периодически происходили на месопотамских землях в устье Тигра и Евфрата. А если это так, то следует признать, что культурное влияние «черноморского потопа» (предположим, что он имел место) было куда менее значительным, чем это утверждают авторы гипотезы. И, скорее всего, появление сельского хозяйства в Европе вызвано другими миграциями и более сложными культурными процессами. Мнение осторожного большинства подытожил на конференции в Сан-Диего ее председатель, археолог Эндрю Мур, заявив, что «преувеличенные заявления, связывающие затопление Черного моря и Ноев потоп, не нашли поддержки в исторических и культурных фактах». Но энтузиасты не согласились с. этим приговором. По их мнению, проблема потопа по-прежнему остается актуальной. >ГЛАВА 6 ЕЩЕ ОДНА АТЛАНТИДА Актуальной, судя по всему, остается и загадка знаменитой Атлантиды. С тех пор как более 25 веков назад великий Платон в своем диалоге «Тимей» рассказал о затонувшей стране Атлантиде, поиски местонахождения этой легендарной страны никогда не прекращались. Хотя многие ученые считали рассказ Платона попросту отголоском древних мифов, энтузиасты продолжали (и, как мы сейчас увидим, продолжают) выдвигать различные догадки о том, где могла находиться затонувшая держава атлантов. Атлантиду помещали вблизи острова Куба, у побережья Великобритании, на месте нынешних Азорских островов и т. п. Впрочем, сам Платон указал это место вполне однозначно: «Остров, находившийся впереди Геркулесовых Столбов», если пользоваться терминологией Платона (сегодня они называются Гибралтарскими) т. е. западней нынешнего Гибралтарского пролива, в Атлантическом океане. Но так как одновременно он утверждал, что остров этот был «больше Ливии и Азии, вместе взятых, и с него можно было перейти к другим островам и по ним проделать весь путь к противоположному континенту, а с них перебраться», то речь могла идти лишь об обширном архипелаге или даже целом континенте. Однако никакие глубоководные поиски в восточной части Атлантики не показали там наличия архипелага или затонувшего материка. И хотя Атлантиду так и не находили, она постепенно стала для многих своего рода исчезнувшей утопией — страной высочайшей культуры и цивилизации, которой кое-кто приписывал все культурные и технические достижения древнего человечества. В подтверждение ее существования привлекались различные аргументы — от смутных указаний древних источников до общности определенных скал, растений и животных по обе стороны Атлантического океана. Что касается этой общности, то сегодня после утверждения в науке теории дрейфа континентов уже ясно, что общность геологического и животно-растительного мира двух отдаленных материков может объясняться просто тем, что в давние времена Северная Америка и Евразия составляли единый сухопутный массив. Однако в последнее время в качестве доказательства реальности Атлантиды были выдвинуты новые аргументы. Французский историк Жак Коллина-Жерар обратил внимание на тот факт, что, согласно некоторым археологическим данным, во время последнего ледникового периода, около 19 тысяч лет назад, имела место значительная миграция населения тогдашней Европы в Северную Африку — часть древних людей бежала на юг от наступающих на Европу ледников. Такая заметная миграция, по мнению Коллина-Жерара, могла происходить лишь в том случае, если между Европой и Северной Африкой в те времена существовал сухопутный мост, расположенный либо в Средиземном море, либо в прилегающем к нему районе Атлантики, то есть впереди Геркулесовых Столбов, если пользоваться терминологией Платона. Таким мостом могла быть как раз Платонова Атлантида. Эти соображения побудили ученого заняться новыми поисками, и на сей раз эти поиски как будто увенчались неожиданным успехом — вблизи Гибралтарского пролива Коллина-Жерар обнаружил место, подозрительно напоминающее искомую и доселе ускользавшую от внимания всех других исследователей «Атлантиду». Увы, не совсем такую, как описывал Платон, но все же… Место это — находящийся в самой близкой к Гибралтару части Атлантики грязевой остров Спартель, лежащий на глубине около 100 метров ниже уровня моря. К поискам именно в этой точке профессора Коллина-Жерара привели не только литературные источники, но и строго научные рассуждения. Он использовал геологические данные о наиболее вероятной скорости подъема воды в Атлантическом океане после таяния последних европейских ледников, наступившего 11 тысяч лет тому назад. Правда, оказалось, что эта скорость составляла всего два метра в столетие, так что погружение Атлантиды, если она находилась именно здесь, должно было растянуться на столетия, а не произойти в одночасье, в один день, как описывает Платон. Но зато совпадает другое важное обстоятельство. Платон, живший почти две с половиной тысячи лет назад, в рассказе о гибели Атлантиды указывает, что он говорит о событии, которое произошло за 9 тысяч лет до него. Это означает, что Платонова Атлантида затонула примерно 11 тысяч лет назад. А это как раз то время, когда начали подниматься атлантические воды, отмечает Коллина-Жерар. К профессору Коллина-Жерару с энтузиазмом примкнули известные искатели «Титаника» Джордж Тулок и Поль-Анри Наржело. Они встретились с ним на археологической конференции, где профессор делал доклад о своей гипотезе, и были ею впечатлены. Незадолго до этого их подводная экспедиция к этому затонувшему кораблю, не менее легендарному, чем Атлантида, увенчалась триумфальным успехом — были найдены и подняты со дна многочисленные останки, переданные затем в специальный музей. И теперь, услышав о (вероятном) обнаружении Атлантиды, они сочли ее поиск таким же перспективным и стоящим делом, как поиск «Титаника», и предложили Коллина-Жерару свои услуги и свой двухместный батискаф. «Я слушал его на конференции, — рассказывает Наржело, — и, по-моему, я был его единственным слушателем. Но я тогда же подумал: «Это стоящая штука!» Ребенком я много читал об Атлантиде и, разумеется, был увлечен прочитанным, а то, что рассказывал Жак, открывало совершенно новый взгляд на вещи. Район, который он описывал, выглядел точно так, как его описывал Платон, — прямо за Геркулесовыми Столбами. Как только я это увидел, я подумал: «Это оно, Господи!» Я не мог поверить, что никто до сих пор не пришел к тому же выводу». В настоящее время остров Спартель представляет собой грязевую отмель длиной около 8 км и шириной 3,5 км, лежащую в Атлантике примерно в 100 км к западу от Гибралтара, и, как уже сказано, его максимальная глубина составляет около 100 метров ниже уровня океана. Исследователи намереваются в скором будущем произвести там двухнедельную разведку, главная цель которой — выявление каких-то следов древней жизни на острове. «Мы уже обнаружили место, которое могло быть гаванью острова; — утверждает Наржело, — и если это подтвердится, то там же должен был быть и населенный пункт, а может, и центр тамошней цивилизации». Он признает, что в истинной Атлантиде вряд ли существовали величественные храмы и дворцы — ведь речь идет о культуре раннего каменного века, — но собирается искать с помощью подводной фотосъемки пещеры и другие места, где могли бы жить древние люди 11 тысяч лет назад. «Если мы найдем их, то вернемся на более длительный срок для более подробного исследования». Деньги, необходимые для такой разведывательной экспедиции — порядка 250–500 тысяч долларов, — Наржело намерен собрать из частных пожертвований и научных грантов. Что ж, остается пожелать удачи этим искателям очередной Атлантиды. Их успех может принести много интересных сведений для науки. Если же они не обнаружат свою Атлантиду, нам тоже нечего беспокоиться — обязательно объявится следующая. >ГЛАВА 7 ТАК ВСЕ ЖЕ — КОЛОМБО ИЛИ КОЛОННО? Проплывем над (возможной) грязевой Атлантидой и направимся дальше, по пути Колумба. На этом пути тоже много занимательных загадок, и главная из них, конечно, связана с самим Колумбом. На протяжении столетий, прошедших с его смерти (в 1506 году в испанском городе Вальядолиде), сложилась и утвердилась легенда, будто этот великий мореплаватель и первооткрыватель Америки родился в итальянском городе Генуя, в ту пору — независимой и богатой морской державе, обладавшей многочисленными колониями в Средиземном море и спорившей за гегемонию в этом ареале с Венецианской республикой. Генуя охотно эксплуатировала эту легенду, щедро воздавая хвалу своему великому сыну и поминая его везде, где только возможно — от памятника в морской гавани до названия своего главного аэропорта. Туристам показывали увитый плющом «домик Колумба» в пригороде Порта Сопрана, где якобы прошло Колумбово детство, и рассказывали трогательные истории: о том, как он пристрастился к плаваниям, глядя на корабли, возвращавшиеся из дальних плаваний в генуэзскую гавань; как в возрасте 21 года впервые сам отправился в море; как три года спустя участвовал в морском сражении при мысе Сан-Винцент; как был ранен и спасся вплавь, держась за обломок бревна с утонувшего судна, и как чудесным образом был вынесен на побережье Португалии. Существовала, правда, небольшая деталь, которая слегка нарушала стройность и убедительность этого рассказа: в документах тогдашней Генуи практически отсутствовали какие бы то ни было упоминания о семействе «Коломбо» (как, согласно генуэзской легенде, назывался Колумб в Италии), не говоря уже о самом «Кристофоро Коломбо» (как, по той же легенде, должен был именоваться Колумб). Некоторых исследователей это наводило на малопочтительные (по отношению к легенде) предположения, вплоть до того, будто «Христофор Колумб был на самом деле Христофор Коломб, генуэзский еврей», как писал в эпиграфе к своему известному стихотворению Владимир Маяковский. Отсюда было рукой подать до совершенно уж непочтительных гипотез новейших русских авторов, которые вообще отрицают, будто Колумб куда-то плавал и что-то открыл (А. Бушков: «Россия, которой не было», стр. 36–44). Легко понять, до какой степени эти домыслы и предположения оскорбляли слух и вкус исследователей — уроженцев Иберийского полуострова, ревнивая национальная гордость которых уступает разве что их же титаническому национальному самоуважению. Здесь, в Иберии, давно уже считали, что Колумб всецело принадлежит Испании или, на худой конец, Испании и Португалии, месте взятым, что и составляет упомянутый полуостров. Считали, но доказать не могли. И вот сенсация. Профессор Альфонсо Энсенат де Вильялонга из департамента американских исследований в университете города Вальядолида (того самого, где умер наш герой) выступил в газетах с утверждением, что его многолетние исследования неопровержимо свидетельствуют, что Колумб был фактически испанцем. Историки ошиблись в отождествлении генуэзской семьи, к которой он якобы принадлежал. Он родился не в 1451-м, как всегда считали, а в 1446 году. И его семья эмигрировала из Генуи на Иберийский полуостров вскоре после этого, так что называть его итальянцем просто смешно. Он говорил только по-кастильски и по-португальски, а не по-итальянски, и никогда не возвращался в Италию. А как же корабли в генуэзской гавани, средиземноморские плавания, связи с пиратами, служба при дворе герцога Рене, сражение при мысе Сан-Винцент, ранение, чудесное спасение? А никак, говорит профессор Вильялонга. Всего этого просто не было. А если и было, то относилось к другому человеку — какому-то «Коломбо». А наш — испанский великий мореплаватель — должен по справедливости именоваться «Христофор Колон» — и в этом-то вся загвоздка! Как говорится, «Что в имени тебе моем?» А все в нем! И мы сейчас это увидим. Профессор Вильялонга, который последние 10 лет своей 71-летней жизни затратил на изучение ранней биографии Колумба, утверждает, что все прежние исследователи ошибались в своем предположении, будто Колумб родился Христофором Коломбо и только в Испании превратился в Кристобаля Колона. Коломбо, говорит профессор, не мог превратиться в Колона — для этого он должен был звучать по-итальянски Колонно или даже просто Колон. Не случайно многовековые поиски генуэзских документов, проливающих свет на детство и юность «Христофора Коломба», оказались безрезультатны. Нужно было искать документы о семье «Колонно» или что-то в этом роде. И действительно, стоило профессору заняться такими поисками, как он тут же-обнаружил, что в архивах Генуи, Мадрида и Барселоны сохранилось нетривиальное число документов о богатой генуэзской купеческой семье Колонне, проживавшей в Генуе XV века и имевшей тесные связи с правительством Генуэзской республики. Обнаружился также и документ о том, что некий разорившийся купец Доменико Скотто попросился под покровительство рода Колонне и в благодарность за оказанную ему милость изменил свою фамилию на Доменико Колонне. У этого-то Доменико был, как показывают другие документы, сын Христофоро, 1446 года рождения, вместе с которым Доменико и его жена Мария Спинола эмигрировали в 1451 году в Лиссабон, надеясь поправить свои дела в Португалии. Здесь Кристобаль Колон, как стали называть 5-летнего мальчика, был отправлен для изучения латыни в училище португальского (а не итальянского, как ошибочно считалось до сих пор) города Павия, а затем — в мореходную школу, некогда основанную португальским принцем Генрихом Мореплавателем. Свое образование он завершил кратким пребыванием во францисканском монастыре в религиозном португальском центре Эвора (чем, возможно, и объясняется то, почему на свою первую встречу с королевой Изабеллой и королем Фердинандом он явился в рясе францисканского монаха). Свои изыскания профессор Вильялонга изложил в подготовленной к печати книге «Жизнеописание Христофоро Колонне», которая должна, по его мнению, положить конец всем прежним легендам, развеять вековые предрассудки и вернуть Колонне-Колона в испано-португальское лоно. Что же до того, почему великого мореплавателя так долго называли Колумбом, то профессор Вильялонга объясняет, что в некоторых документах имя «Колон» было ошибочно записано как весьма созвучное «Колом», откуда уже было недалеко и до «Колумба». Можно думать, что следующим шагом испанских историков будет требование именовать первооткрывателя Америки только «Колоном» — и никаких «Колумбов». Не исключено, что некоторые пылкие головы потребуют и государство Колумбию переименовать в «Колонию»… Что же до нас, то мы позволим себе остаться при мнении, что историческая истина, конечно, важна, но не до такой же степени, как историческое деяние. Назовите хоть горшком, только в печку не сажайте. И не преувеличивайте значение родословных. Допустим, не был Христофор Колумб ни Христофором Коломбом, ни генуэзским евреем, ни даже итальянцем Христофоро Коломбо — ну так что? Америку все-таки открыл он, а не мы с вами… >ГЛАВА 8 ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ КИТАЙЦЫ Если вы думаете, что открытие профессора Вильялонга исчерпало все загадки, связанные с Колумбом, то глубоко заблуждаетесь. Как мы предупреждали выше, на колумбовом пути есть много проблем. К примеру, в осведомленных кругах давно уже поговаривают, что Америку вообще открыли задолго до Колумба. Одни грешат на исландских викингов, другие на островитян Тихого океана, этих «мореплавателей солнечного восхода», как красиво назвал их некогда некий писатель, третьи — на неведомых уроженцев Древней Африки. Кто бы это ни был, все они уходили на своих парусных кораблях, катамаранах или выдолбленных из бревна лодках в тысячекилометровые плавания и порой, гонимые ветрами и течениями, оказывались совсем не там, куда плыли. Все эти доколумбовы гипотезы одинаковы тем, что их авторы никаких достоверных доказательств представить не могут, так — одни лишь скудные исторические намеки да блеклые следы. Но чем меньше у них доказательств, тем больше свобода и полет их фантазий и тем более они волнуют и разжигают наше воображение. Да и вообще, разве рассказы о неведомых плаваниях неведомых корабелов в поисках неведомых земель в неведомые времена — не один из самых увлекательных жанров историко-географической беллетристики? У меня самого была когда-то замечательная книга, посвященная всем этим гипотетическим плаваниям, книга, которую я регулярно перечитывал, — она называлась «Неведомые земли», автор Хеннинг, четыре объемистых тома в сине-красном твердом переплете, — но я однажды, дурак, этаким широким жестом подарил все эти тома случайному гостю-коллекционеру с радиостанции «Свобода». Он так долго и нудно у меня их выпрашивал за деньги, что я не смог устоять от соблазна шикануть, о чем теперь мучительно жалею. Тем более что гость этот впоследствии оказался советским шпионом на «Свободе» — в прямом и переносном смысле. Недавно в этом замечательном жанре «историй мореплаваний» появилась очередная гипотеза. Автор ее — британский моряк, бывший командир подводной лодки, а также эксперт по навигации Гэйвен Мензис. Свои изыскания он проводил много лет и вот некоторое время назад доложил наконец о результатах этих исследований на очередном заседании Королевского географического общества Великобритании. Сам факт, что его заслушали в столь уважаемом и авторитетном кругу, включавшем ученых-географов и историков, специалистов по картографии, морских офицеров и дипломатов, свидетельствует, что к гипотезе Мензиса и нам стоит отнестись, по крайней мере, с благожелательным вниманием. Чем мы хуже дипломатов? Тем более что гипотеза и впрямь весьма любопытна. Подобно многим другим выступавшим на этом поле до него, Мензис говорит, что все началось со случайного обнаружения им такого факта: уже в 1428 году в распоряжении португальцев имелась карта, на которой (обратите внимание — за 70 лет до Колумба!) были показаны Африка, Австралия, Америка и множество островов — и все это в поразительно точных деталях. Например, на карте явственно виднелись мысы Доброй Надежды (оконечность Африканского материка) и Горна (оконечность Южной Америки), хотя, как известно, португальцы не проплывали там вплоть до конца XV века. По утверждению Мензиса, именно эта карта, попав каким-то образом в Венецию, а из Венеции, в 1428 году, в Португалию, стала предшественницей нескольких аналогичных ей карт, получивших хождение в Европе в конце XV — начале XVI века. На основании 14-летнего изучения вопроса Мензис утверждает, что первые европейские мореплаватели, включая Колумба и Магеллана, имели в своем распоряжении такие карты. По мнению Мензиса — и тут начинается самая интересная и оригинальная часть его гипотезы, — загадочную карту привез в Венецию богатый купец и путешественник, некий Николо де Конти, только что вернувшийся тогда в родной город из Китая. А в Китае, продолжает Мензис, де Конти, видимо, был знаком (не исключено, что в силу личного участия) с географическими открытиями, сделанными во время недавно закончившегося плавания адмирала Чэнг Хе. Дальше следует рассказ. В начале XV века, напоминает Мензис, Китай был крупной морской державой и располагал большим флотом. Командовал этим флотом ближайший доверенный человек императора, его евнух Чэнг Хе. Адмиралу было поручено двинуться во главе могучей эскадры из 100 с лишним судов в плавание на запад! чтобы проложить новые торговые (а возможно, и завоевательные) пути по Индийскому океану, омывающему земли Южного Китая. Корабли Чэнг Хе достигли восточных берегов Африки, говорит Мензис, но не вернулись на родину, а поплыли дальше, обогнули мыс Доброй Надежды и двинулись на запад через весь Атлантический океан. Они добрались до Карибских островов, которые Колумб открыл лишь 70 лет спустя, спустились оттуда вдоль берегов Южной Америки, обогнули мыс Горн, поднялись снова на север, вошли в нынешний Калифорнийский залив, оттуда опять спустились на юг и повернули на запад, в результате чего наткнулись на Австралию, открыв ее чуть ли не за 200 лет до европейцев, и лишь оттуда наконец двинулись на родину, обогнув тем самым весь земной шар почти за 100 лет до Магеллана. Это во всех отношениях выдающееся плавание состоялось, по расчетам Мензиса, с марта 1421 по октябрь 1423 года. В доказательство правильности проложенного им гипотетического маршрута экспедиции Чэнг Хе Мензис указывает на упомянутые выше особенности карт (очертания Южной Африки, Австралии и Калифорнийского залива, мысов Доброй Надежды и Горна, правильные определения широты и долготы этих пунктов земного шара), а также на остатки огромных старинных деревянных кораблей, найденные на берегах некоторых островов Карибского моря и в Австралии, й некоторые китайские предметы того времени, обнаруживаемые в весьма удаленных местах Америки и Африки. Он выражает предположение, что китайские навигаторы определяли свое положение в море, а также широту и долготу посещаемых ими мест как с помощью Полярной звезды (когда их путь проходил в Северном полушарии), так и руководствуясь звездой южного ночного неба — Канопусом. К этому выводу он пришел, реконструировав на своем домащнем компьютере возможную систему небесной навигации, которую могли применять китайские мореплаватели начала XV века. Судя по отчетам газет, сенсационное сообщение Мензиса (подкрепленное семнадцатью страницами документальных доказательств и обещанием привести все остальные доказательства в готовящейся к публикации книге) было встречено со смешанными чувствами. Историческая его часть не нашла оппонентов, географическая и собственно «корабельная» стороны тоже были признаны вполне правдоподобными. Больше всего сомнений вызвали его рассуждения о «секретных» китайских картах, якобы имевшихся у Колумба и Магеллана, а также сообщения о найденных им остатках девяти китайских судов на карибских берегах. Тамошние берега так хорошо обследованы, заявили некоторые оппоненты, что такие остатки были бы наверняка замечены много раньше. Но более всего против гипотезы Мензиса говорил тот факт, что ни одна современная история картографии не упоминает о том, будто Чэнг Хе посещал какие-либо иные земли, кроме берегов Восточной Африки. Стоит, однако, сказать, что, невзирая на эти скептические замечания, издатели, присутствовавшие на заседании, сразу же по окончании прений заторопились в зал, где был назначен аукцион на покупку прав для издания книги Мензиса. Их можно понять — мы ведь тоже живем сейчас в век великих географических открытий, не менее великих, чем во времена Колумба и Магеллана: то кто-то откроет местоположение Рая, то другой, прямо с самолета — остатки Ноева ковчега, то третий — гору Синай в Аравийской пустыне — и жадное до сенсаций человечество хочет обо всем этом узнать — и поскорее, чтобы потолковать на очередной «тусовке». И правильно. Ведь этого даже у Хеннинга не узнаешь… >ГЛАВА 9 ЗАГАДКИ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ Не только Королевское географическое общество интересуется всякими загадками прошлого (см. предыдущий рассказ) — Королевское астрономическое общество, оказывается, тоже их не чурается. Иллюстрацией этого является нижеследующая история, связанная не просто с какой-нибудь обычной загадкой прошлого, а с тайной самой Вифлеемской звезды. Евангелии, рассказывающие о жизни Иисуса Христа, утверждают, что его рождение сопровождалось появлением над Вифлеемом (тогдашним и нынешним Бейт-Лехемом) чудесной звезды. Вот как описывает это событие апостол Матфей: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться Ему… Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и, когда найдете, известите меня… Они, выслушав царя, пошли: и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец». Люди, убежденные в правдивости каждого слова Боговдохновенных книг, вроде Евангелий, разумеется, не нуждаются ни в каких объяснениях этого необычного феномена, поскольку знают, что в мире нет ничего необычного или «чудесного», ибо все в нем — одни только деяния Всевышнего — и ничего больше. Люди, совершенно не верящие во Всевышнего, не верят также в Боговдохновенность каких бы то ни было книг, и поэтому для них загадка Вифлеемской звезды — тоже не загадка, а просто «очередная выдумка мракобесов». Трудность возникает для тех, кто посредине и хотел бы согласовать каждое слово этих книг с представлениями современной науки, или, иначе говоря, дать этим словам некое «научное объяснение». Самую внушительную попытку такого рода предпринял не так давно сэр Патрик Мур, бывший британский королевский астроном, опубликовавший в сентябре 2001 года книгу «Вифлеемская звезда». В ней он последовательно проанализировал все возможные небесные явления, которые могли бы лежать в основании «мифа о Вифлеемской звезде»: вспышка сверхновой, совмещение нескольких планет, прохождение кометы и т. п. — и пришел к оригинальному заключению, что наиболее удачно удовлетворяет всем описанным в Евангелии обстоятельствам явление «падающих звезд», то есть потока метеоров, представляющихся земному наблюдателю вылетающими из одной точки неба, из одного созвездия. Еще до выхода в свет книги сэра Мура та же проблема была рассмотрена в двух других сочинениях. Британский астрофизик Марк Киджер опубликовал книгу «С точки зрения астронома» (1999), в которой предлагал свое объяснение Вифлеемской звезды как редкого сочетания двух явлений — вспышки сверхновой звезды и необычного совмещения планет. Киджер нашел такой момент в древней истории, когда два этих события произошли почти в одно и то же время. В 5-м году до н. э. на небосводе появилась вспыхнувшая новая звезда, а в 6-м и 7-м годах происходили неординарные совмещения нескольких планет. По убеждению Киджера, появление новой звезды сразу вслед за этими необычными совмещениями планет вполне могло показаться древним людям явным предзнаменованием чего-то незаурядного. Тем, кого насторожит кажущееся несовпадение дат, напомним, что, согласно современным представлениям, Христос родился не в нулевом году той эры, которую христиане называют его именем и отсчитывают со дня его рождения. В результате нескольких ошибок в календарных расчетах средневековых христианских богословов нулевой момент нынешнего календаря несколько сместился. Действительная дата рождения Христа приходится на 4-й или даже на 5-й год «до рождества Христова», так что в этом отношении гипотеза Киджера вполне совпадает с историей. Труднее представить себе, чтобы древние волхвы не бросились в Вифлеем уже по первому зову — совмещению планет — и ждали бы целый год, а то и два до появления новой звезды на небосводе. И вот не так давно в «Ежеквартальнике Королевского астрономического общества» (вот оно, это общество!) — в 36-м его томе, на 109-й странице — появляется вдруг статья американского астронома Майкла Мольнара, в которой утверждается, что хотя гипотеза Киджера абсолютно неверна, поскольку никакая новая звезда в то время на небосводе не появлялась, но Вифлеемская звезда все-таки существовала, причем именно в нужное время и в нужном месте. Только она была не совсем звезда, не совсем тогда, а главное — не совсем видима. Точнее — совсем невидима. Тем не менее нечто незаурядное — по крайней мере, с точки зрения тогдашних астрологов (они же — тогдашние астрономы), — несомненно, происходило. И вот это «невидимое» вполне могло породить рассказ о пресловутой «звезде». В таком описании гипотеза Мольнара выглядит, как попытка одной загадкой объяснить другую. На самом деле, однако, никакой новой загадки тут нет. Мольнар попросту произвел расчет движения видимых небесных тел с 10-го по 1-й годы до новой эры и показал, что во второй половине этого промежутка, а именно в марте — апреле 6 года, произошли два астрономических события, которые не могли не взволновать тогдашних астрологов, в просторечии — «волхвов» (то есть мудрецов). Этими событиями были два подряд затмения Юпитера Луной, причем оба раза в одном и том же месте — в юго-западной части неба, в созвездии Овна. Чтобы понять, почему это могло взволновать астрологов-волхвов, нужно иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, астрология, зародившаяся в Древней Вавилонии и распространившаяся оттуда по всей эллинистической, а позднее — Римской империи, была к тому времени весьма развитой областью знания, и тогдашние астрологи умели рассчитывать движения планет с точностью, которая поражает современных астрономов. Во-вторых, их расчеты всегда имели прикладное значение: они лежали в основе предсказаний, к которым и рядовые люди, и венценосные особы вроде римских императоров относились с глубоким уважением и полным доверием. Поскольку планеты, звезды и созвездия связывались с судьбами отдельных людей и даже целых стран, любые незаурядные астрономические события вроде затмений тотчас объявлялись предзнаменованиями или отражениями незаурядных, житейских и политических событий. Подтверждение последнего тезиса приносят не только сочинения древних авторов, но такие неожиданные, казалось бы, источники, как монеты. Римляне традиционно чеканили на монетах некие символы, отражающие те или иные важные события, и эти символы, как правило, были астрологическими. Например, во времена императора Нерона была выпущена монета с изображением барана (знак созвездия Овна), оглядывающегося на полумесяц и звезду. Это должно было напоминать о затмении Луной Венеры, произошедшем 25 апреля 51 года. Римский историк Светоний сохранил для нас предсказание тогдашних астрологов, которые связали это затмение с судьбой Нерона: они предсказали, что он будет свергнут в Риме, но воцарится вновь в Иерусалиме, потому что созвездие Овна считалось тогда астрологическим символом Иудеи (об этом говорится в сочинении александрийского астролога Клавдия Птолемея «Тетрабиблос» («Четверокнижие»): «Если что-нибудь важное должно произойти в Иудее, то знак этому должен появиться в созвездии Овна»). Мольнар, давний любитель древних монет, хорошо знал всю эту символику, и когда, рассматривая монеты 7 года новой эры, найденные в Антиохии (столице римской провинции Сирия), увидел на каждой из них изображение бога Юпитера, а на оборотной стороне — изображение овна, взирающего на звезду, то сразу же понял, что эти монеты должны были быть отчеканены в честь какого-то астрономического и политического события, связанного с Иудеей. Поскольку Юпитер считался у римлян символом императорской власти, событие, видимо, было связано с каким-то очередным достижением императорской политики. Перелистав исторические труды, он нашел, что в 6 году новой эры римляне сместили Иродова сына и наследника Архелая и присоединили Иудею к провинции Сирия. Монеты же, найденные в сирийской столице, датировались следующим годом, и, исследуя движение планет за этот год, Мольнар обнаружил, что в 7 году новой эры Юпитер сначала виднелся вблизи Меркурия, а затем почти рядом с Луной. Видимо, эти сближения и были сочтены небесными знамениями, свидетельствующими о том, что боги одобряют действия римлян в отношении Иудеи. В честь такого совпадения явно стоило отчеканить специальные монеты. Что же касается собственно «Вифлеемской звезды», то догадка о природе этого явления родилась у Мольнара из случайной находки. Он купил старинную римскую монету, относящуюся к 6-му году до н. э., на которой опять увидел изображение барана («овна»), глядящего, обернувшись через плечо, на звезду. Поскольку знак Овна в зодиаке покрывает период с 21 марта по 20 апреля и поскольку вблизи Луны в 6-м году до н. э. находился Юпитер, Мольнар, будучи астрономом, подумал, что стоило посмотреть, что было с Юпитером и Луной в марте — апреле того года. А посмотрев (т. е. рассчитав движение этих светил вспять), обнаружил, что как раз в те дни, 20 марта и повторно 17 апреля 6-го года до н. э. Юпитер претерпел — редкое совпадение! — два лунных затмения подряд — и притом именно тогда, когда был «на востоке», то есть в восточной части неба. Теперь мы уже можем понять ход дальнейших рассуждений американского астронома. Юпитер, как мы уже видели на примере Нерона, был, по представлениям астрологов, связан с судьбами императоров; не случайно римский астролог Фигулус, увидев знак Юпитера в гороскопе будущего императора Августа, предсказал сенату: «Ныне родился вождь мира». В Иудее же издревле существовало другое пророчество, процитированное апостолом Матфеем как раз в приведенном вначале отрывке о Вифлеемской звезде: «Ибо написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля». Всякий грамотный астролог, увидев такое совпадение, должен был немедленно понять, что у евреев родился (или должен вот-вот родиться) кто-то, кто затмит императоров и царей. Астрологов же в древнем мире хватало. И вера в астрологию была распространена невероятно. Как и сегодня, кстати. Но в наши дни эту веру труднее понять. Ведь людям сегодня прекрасно известно, что планет куда больше, чем думали создатели астрологических расчетов (уже после них были открыты Уран, Нептун и Плутон), так что уже хотя бы поэтому такие расчеты выглядят весьма сомнительно. Впрочем, кому хочется верить, тем ничто не помеха. А во времена, о которых идет речь, были — известны пять планет (не считая Земли), которые вместе с Солнцем и Луной образовывали «семь небес» и своим положением относительно «неподвижных» звезд давали астрологам указания на предстоящие события. Порой даже весьма детальные указания, как, например, то, которое приводит великий астроном древности Птолемей: «Если Венера совместится с Марсом и Юпитер будет виден в то же время, а Марс появится в лучах Солнца, то женщины начнут совокупляться со слугами и вообще всяким низкородным сбродом и даже с чужестранцами и бродягами». Так что уж на рождение «иудейского царя» астрологические книги наверняка могли указать. И потому «Волхвы», т. е. тогдашние мудрецы-астрологи, полагает Мольнар, могли истолковать эти незаурядные астрономические события в свойственном им духе. Вычислив предстоящее затмение Юпитера в созвездии Овна, они могли прийти к выводу, что и оно знаменует собой «рождение Вождя», только среди евреев, — того самого «вождя-спасителя», предсказанного еврейскими пророками. Взволнованные столь выдающимся событием, они явились ко двору Ирода, чтобы выяснить, где именно, по еврейскому пророчеству, оно должно произойти. Узнав, что в Вифлееме, они должны были еще больше взволноваться: ведь Вифлеем находится к юго-западу от Иерусалима, то есть как раз в той стороне, где происходили оба юпитерианских затмения. Судя по тому, что второе из этих затмений произошло, согласно Евангелию, как раз в тот момент, когда волхвы от Ирода направились в Вифлеем, их визит в царский дворец имел место именно 17 апреля 6 года до новой эры: говорит же Матфей, что «звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними». На самом деле, утверждает Мольнар, эта «звезда», то есть Юпитер, как раз и не была видна, но волхвы шли так уверенно, будто она их и в самом деле «вела», — ведь они ее «вычислили». А Матфей, не знавший тайн астрологии, конечно, не мог и помыслить, что волхвы шли согласно своим расчетам, и в простоте душевной записал, что их вела чудесная Вифлеемская звезда. Из гипотезы Мольнара вытекает чрезвычайно важное следствие: если Иисус действительно существовал, то родиться он должен был не в 1 году новой эры, названной его именем, а в день затмения Юпитера, то есть 17 апреля 6 года ДО новой эры (дату 20 марта Мольнар отверг, т. к. она чуть-чуть выходила за границы периода созвездия Овна). И этот свой вывод Мольнар подтверждает еще одним дополнительным совпадением: Ирод умер в 4 году до новой эры и незадолго до смерти приказал перебить «всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от ДВУХ лет и ниже, по времени, которое он выведал у волхвов». Почему «от двух лет», а не старше? Потому что «по времени, которое он выведал у волхвов» (то есть по времени вычисленного ими первого затмения Юпитера), Иисусу в 4-м году до новой эры как раз и должно было быть чуть меньше двух лет — но лишь в том случае, если он родился в 6-м году до н. э. Как говорилось выше, историки давно подозревали, что Иисус, если он существовал, родился раньше исчисленной Церковью даты, и вот сейчас Мольнар нашел дополнительное и независимое подтверждение правоты их сомнений. Все это, разумеется, не доказывает реальности существования Иисуса. Ведь, в сущности, Мольнар всего лишь показал, что в 6 году до новой эры произошли два астрономических события, которые МОГЛИ дать составителям Евангелий повод для создания рассказа о Вифлеемской звезде (которую на самом деле никто не видел, потому что попросту не мог увидеть). Но никаких доказательств связи этих астрономических событий с рождением «реального» Христа Мольнар привести не может. Более того, из его же рассуждений следует, что дело скорее всего обстояло с точностью до наоборот: сначала произошли указанные астрономические события а уже затем эти события в общем духе тогдашней астрологической символики и веры в фантастические «пророчества» были привязаны к рассказу о «рождении Спасителя». Так что достоверность этого главного евангелического рассказа по-прежнему остается под сомнением. Но Мольнар и не ставил своей задачей анализ достоверности евангелий. Он попросту хотел предложить вниманию ученых новую гипотезу, объясняющую миф о Вифлеемской звезде. И с этой задачей, следует признать, он справился весьма успешно. На этом, однако, эта занимательная история не закончилась. Гипотеза Мольнара подверглась критике. Сэр Патрик Мур указал, что затмение Луной Юпитера 17 апреля 6-го года до н. э. происходило средь бела дня и не могло быть увидено никем, даже волхвами. А специалисты по истории астрологии усомнились в том, что «волхвы» могли истолковать невидимое затмение как указание на «рождение царя». Мольнар, разумеется, не сдался, стал искать, как бы опровергнуть возражения критиков, и вот недавно объявил, что ему удалось наконец «решающее» подтверждение выдвинутой им гипотезы. По его словам, это подтверждение содержится в книге астролога Матернуса, написанной в 334 году н. э. По словам Мольнара, ему удалось разыскать творение Матернуса «Матесис», в котором черным по белому описано астрологическое явление, включающее затмение Юпитера Луной, и сказано, что это предвещает рождение великого царя. Правда, царь этот не назван по имени, хотя автор — христианин и книга написана спустя три столетия после рождения Иисуса, но, как говорит Мольнар, «в те времена все читатели книги прекрасно понимали, что это замечание относится именно к Иисусу, а указанное астрологическое событие — это знаменитая Вифлеемская звезда». Матернус, по мнению Мольнара, просто не хотел вовлекать христиан в астрологические дебаты, которые только смутили бы их умы и отвлекли от мыслей о самом Иисусе. И вполне возможно, что Мольнар в этом прав. Во всяком случае, одного человека ему уже удалось убедить — Овен (!) Гингрич, историк астрономии из Гарвардского университета, заявил, что гипотеза Мольнара кажется теперь «очень серьезной». Но вот переменил ли свое мнение сэр Патрик Мур, нам пока неизвестно. >ГЛАВА 10 ЕЩЕ ОДНА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ История, которую я намереваюсь рассказать, тоже связана с Евангелиями, но произошла сравнительно давно, в декабре 1993 года, в Иерусалиме. В научных кругах она тогда произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Сегодня, во времена поголовного увлечения «Кодом да Винчи», она звучит особенно актуально, показывая, что Ничего нового Браун не написал, он лишь добросовестно переписал то, что давно было известно, только слегка разбавил это детективной интригой — надо сказать, весьма примитивной. Итак, некий археолог по имени Леон Декур несколько месяцев вел бесплодные раскопки в одном из старинных уголков древней еврейской столицы. В тот декабрьский вечер 1993 года стояла обычная для израильской зимы пасмурная и пронизывающе холодная погода, и Декур отправил рабочих домой пораньше. Сам же он решил еще немного поковыряться в раскопе. Рассеянно разгребая груду земли в углу глубокой ямы, он вдруг заметил, что в пыли блеснуло что-то металлическое. Руки его заработали энергичнее и осмысленнее, бережно расчищая находку, и вот он уже увидел ее целиком. Можно представить себе его восторг: его глазам открылась старинная медная чаша с остатками какого-то темного вещества. В тусклом вечернем свете Декур не мог разобрать, что это за вещество и к какому времени относится чаша. Какое-то время он задумчиво смотрел на нее, и вдруг его пронзила ослепительная догадка. Нет, он не воскликнул, как когда-то Архимед: «Эврика!» Но он воскликнул нечто, не менее знаменитое: «Грааль!» И в этом месте я вынужден остановиться. Даже в наши времена поголовного увлечения романами Брауна далеко не все знают, что такое Грааль, и потому не все могут в полной мере оценить восклицание Декура. Слово «Грааль», или «святой Грааль», произошло от латинского «gradalis», которое, в свою очередь, восходит к древнегреческому «кратер» — сосуд для смешивания вина с водой. Но в старофранцузском сочетание «Святой Грааль» — «Сангреаль» — имеет еще и иной смысл: «истинная кровь». А древнеирландское cryo, из которого тоже выводят слово «Грааль», означает «корзину изобилия». Итак, «Грааль» — это сосуд для вина и одновременно — чаша со святой кровью, да еще и корзина изобилия. Почему у этого слова так много смыслов? А потому, что это непростое слово. Оно связано со старинной христианской легендой, даже с несколькими сразу. Согласно рассказам о жизни и смерти Иисуса Христа, составляющим содержание т. н. Евангелий (по-гречески — «Благая весть»), свой последний вечер перед арестом, судом и казнью Иисус провел в Гефсиманском саду, где вместе с учениками (апостолами) отмечал великий еврейский праздник Песах (христианской Пасхи тогда еще не было, поскольку Иисус был еще жив и до появления христианства было еще далеко). Евангелия утверждают, что, подняв чашу с пасхальным вином и кусочек мацы, Иисус произнес, указывая на вино: «Се кровь моя», а затем, указывая на мацу: «А се плоть моя». Закончив вечерю, он вышел в сад, где его вскоре и схватили римские легионеры. Выданный Пилатом Синедриону, Иисус был признан смутьяном и бунтовщиком и осужден на смертную казнь. В духе римских обычаев он был распят на кресте. Далее легенда утверждает, будто некто Иосиф Аримафейский снял его тело с этого креста и бережно собрал кровь Иисуса в ту самую чашу, из которой Иисус пил вино на своей «тайной вечере». Таким образом, пророчество Иисуса исполнилось: в чаше оказалась Христова кровь. А дальше, если верить легенде, было вот что. С этой святой кровью Иосиф Аримафейский отправился проповедовать христианство европейским варварам. Так чаша оказалась в Европе. Вскоре, повествует легенда, она обнаружила свои чудодейственные свойства. Чудеса сыпались из нее как из рога изобилия: слепые, прикоснувшись к чаше, становились зрячими, увечные — здоровыми, бесплодные женщины — беременными. Вся эта история и чудесные свойства чаши привели к тому, что она получила собственное имя — «Сангреаль», или попросту «Грааль» (говорят еще — чаша святого Грааля). Позже Грааль затерялся или был спрятан — в каком-то из монастырей, и это положило начало длительным поискам чаши, каковыми рыцари занимались все средние века — в свободное от крестовых походов время. История этих поисков легла в основу знаменитых средневековых романов — «Персиваль» Кретьена де Труа и «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, главным героем которых является один из рыцарей «Круглого стола» короля Артура по, имени Парсиваль (франц. Персиваль, нем. Парциваль или Парсифаль); в XIX веке еще один небезызвестный человек, по имени Рихард Вагаер, написал по мотивам этих романов оперы «Лоэнгрин» и «Парсифаль» (о сыне Парсифаля). Теперь, надеюсь, вы уже понимаете, что побудило Леона Декура издать свой восторженный возглас. Еще бы — ведь он нашел древнюю винную чашу именно в том городе, где происходила «тайная вечеря», и вдобавок неподалеку от того самого Гефсиманского сада, где она происходила! А кроме того, ко дну чаши прилипло темное вещество, которое весьма походило на засохшую человеческую кровь. Как было не предположить, что это именно та самая чаша святого Грааля, с которой связано столько легенд и столько веков бесплодных поисков?! А если это действительно так, то громадные последствия столь сенсационного открытия сразу становятся очевидны — ведь в результате в руках историков впервые в истории могло оказаться прямое доказательство реального существования Иисуса Христа! (Вопрос о том, каким образом чаша вернулась из Европы в Иерусалим, Декура почему-то не заинтересовал.) Какой-нибудь другой археолог, возможно, воздержался бы от столь скоропалительного вывода. Он бы поначалу исследовал находку, определил ее возраст и лишь потом вынес суждение. Но дело в том, что Декур давно, напряженно и страстно желал найти следы существования Иисуса. За 15 лет до этого он уже потряс однажды весь научный и околонаучный мир сообщением, будто ему удалось найти пергамент с «оригиналом» знаменитой «Нагорной проповеди» Христа — той самой, что начинается словами «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Декур действительно нашел тогда какую-то древнюю рукопись, свет в тот раз тоже был вечерний и тусклый, рукопись была в плохом состоянии, исследователь был необыкновенно возбужден находкой — ничего удивительного, что ему почудилось, будто он нашел именно то, что искал. Но в тот раз предположение Декура быстро опровергли: пергамент оказался намного моложе Иисусовых времен. И вот теперь, через 15 лет, в руках Декура оказалась загадочная чаша — как было не подумать первым делом о святом Граале? В кругах археологов Декур вообще-то считался хорошим ученым: его послужной список содержал всего лишь один случай излишней поспешности — тот самый, с «Нагорной проповедью». Поэтому его сообщение о небывалой находке было опубликовано в серьезном научном журнале. Разумеется, археологический мир отнесся к этой новой сенсации с должной осторожностью, но зато мир околонаучный был необычайно взволнован публикацией. Слухи о необычайной находке в Иерусалиме передавались из уст в уста. А вскоре последовала еще одна сенсация: анализ вещества, налипшего на дне найденной Декуром чаши, подтвердил, что это действительно остатки человеческой крови, к тому же самой универсальной группы, «ноль плюс», пригодной для переливания всем без исключения людям. Что дало Декуру повод в очередной раз воскликнуть: «А чего иного вы ожидали от крови Иисуса?!» Увы, больше о загадочной чаше мир ничего не услышал. То ли ее придирчивое изучение показало, что она тоже «не того времени», то ли обнаружилось еще что-то неприятное, но разговоры о ней прекратились. Ясно, что Декур опять поторопился со своей сенсационной гипотезой. Верно учит нас знаменитое правило, именуемое «бритвой Оккама», — не следует громоздить гипотезы без надлежащей надобности. Вся сенсация Декура была основана на том, что в какой-то старинной чаше были найдены остатки чьей-то крови. Стоит ли выдвигать для объяснения этой находки столь монументальные гипотезы, если те же факты могут быть объяснены куда более просто и прозаически? Мало ли чья это может быть чаша, мало ли чья кровь… Разумеется, верующие и склонные к мистике люди такими прозаическими объяснениями не удовлетворятся. И действительно — известие о находке «чаши святого Грааля» возбудило эти круги самым неимоверным образом. Некоторые из самых возбужденных — видимо, под впечатлением нашумевшей картины «Юрский парк», где рассказывается о «воскрешении» динозавров по остаткам их хромосом, — тут же предложили применить ту же (на самом деле — еще не существующую) «методику» для воскрешения… Иисуса Христа. Они призвали ученых выделить из остатков крови, найденной в декуровской чаше, «хромосомы Иисуса» и из них «вырастить», а затем «оживить» его тело. К чести самого Леона Декура, надо сказать, что даже на пике славы он категорически отверг всякую возможность, да и желательность искусственного воссоздания основоположника христианства. Тем не менее и он тоже какое-то время (пока сенсация не умерла) уговаривал биологов попытаться выделить из остатков найденной в чаше крови хромосомы ее древнего хозяина. Декура, как он заявил тогда, больше всего интересовало, будут ли эти хромосомы похожи на человеческие. Лично он был убежден, что они окажутся принципиально иными. А какими же? — наверняка удивитесь вы. Ясно, какими, отвечает Декур. Божественными. Иисус ведь, согласно Евангелиям, был «Сыном Божьим»! И родился он, как утверждают Евангелия, от «непорочного зачатия» Девы Марии. Как же должен современный человек понимать легенду о таком зачатии?. — спрашивал Декур. И сам себе отвечал: ее следует понимать как рассказ об искусственном оплодотворении девушки Мириам с помощью «Божественного сперматозоида». «Не может же, в самом деле, разумный человек поверить в россказни древних греков, будто боги совокуплялись с людьми в виде быков или лебедей», — убежденно заявлял Декур. Действительно, не может. Но и в «Божественный сперматозоид», доставленный в Мириамнино лоно в клювике усердного голубка, — тоже не может. На то он и современный человек, худо-бедно разбирающийся в технике искусственного оплодотворения. Почему же Леон Декур — тоже вполне современный человек — так энергично настаивал на проверке древней легенды? Наверно, хотел в модном сегодня духе сочетать науку с верой, — как Леду с лебедем. Но, как видите, не получилось. История, как видите, действительно интересна — уже хотя бы тем, что напомнила нам о знаменитой чаше Грааля. Ведь легенды, связанные с этой чашей, далеко не исчерпываются тем, что я вам по необходимости коротко здесь рассказал. С той же чашей связана, например, и еще одна сенсационная гипотеза: будто она на самом деле представляет собой не что иное, как исчезнувший Ковчег Завета! История Ковчега тоже окружена многочисленными легендами, на сей раз — еврейскими, и вот несколько лет назад английский журналист Грэм Хэнкок опубликовал толстую книгу под названием «Знак и печать», в которой заявил, что Ковчег и Грааль — это одно и то же, и вдобавок — что ему в результате многолетних поисков удалось наконец найти этот знаменитый Ковчег, но уже не в Иерусалиме, а… в Эфиопии. Поэтому я лучше продолжу еще одним очерком на библейскую тему. >ГЛАВА 11 БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ БИБЛЕЙСКИХ СЕНСАЦИЙ Перефразируя известный афоризм, можно сказать, что патриотизм — это не только прибежище негодяев, это еще и прибежище фальсификаторов. Желание подтвердить героический характер своей древней истории обуревает многих патриотов и зачастую толкает их к бессознательной и даже весьма сознательной фальсификации или к жадному потреблению такой фальсификации, сочиненной другими. Спрос, как известно, порождает предложение, и вот уже некто Петухов (фамилия и библиография хранятся в Интернете) сочиняет новую историю государства российского, начиная с появления славного народа россов, каковое состоялось 40 тысяч лет тому назад. Нет, вы не ослышались — 40 тысяч. И вот уже некто Фоменко сотоварищи (см. тот же Интернет) извещает «урби ет орби», что вся древняя, средневековая и новая история человечества, есть не что иное, как история великой империи россов, простиравшейся на всю индоевропейскую ойкумену. И вот уже некто Бушков… впрочем, несть числа этим лжеутешителям патриотических вожделений, этим отечественным баснописцам, этим лукавым и небескорыстным сказителям-исказителям, и многотомные подвиги их на ниве занимательного фальсификаторства еще долго будут развлекать наших детей и недорослей. Нельзя, однако, не признать, что все эти попытки создать узко отечественную присыпку от патриотического зуда, как правило, грубы и топорны. То ли дело — фальсификация библейско-евангельская, ставящая своей целью подтвердить реальное существование царя Соломона или Иисуса Христа! Такие сенсации не ограничиваются пределами отечества, для них воистину несть ни эллина, ни иудея, и захватывающе интересны они не для сотен тысяч или даже миллионов, а для сотен миллионов людей. Да что там «интересны»! С чудной, волнующей силой играют они на струнах глубочайших верований этих сотен миллионов. А за веру люди, как известно, шли и на костер. А посему человек, избравший профессией подделку такого рода древностей, в буквальном смысле играет с огнем. И бывает, что огонь его и лизнет. Как в случае, который побудил нас к написанию сего очерка. Мы имеем в виду суд над Одедом Голаном. Фальсификаторов всегда было достаточно — хотя бы потому, что всегда доставало недалеких патриотов всякого толка, готовых ухватиться за любую желанную подделку. Каждая эпоха знала своих знаменитых фальсификаторов, об их бесславных деяниях написаны увлекательные тома, и вполне может оказаться, что Одед Голан будет когда-нибудь причислен к их списку. Надо думать, израильская полиция, предъявившая ему не так давно свои обвинения, и израильское Управление древностей, давно точившее на Голана клык, именно такого мнения. Обвинительное заключение перечисляет несколько выдающихся подделок, которые Голан выбросил за последние годы на мировой рынок. Все они вызывали международную сенсацию, заставляя сердца вышеупомянутых сотен миллионов людей учащенно забиться в радостном предвкушении, а руки сотен специалистов — тотчас схватиться за перья. Да и как не схватиться? Ведь вот уже много лет историки и археологи сетуют, что у них нет или почти нет никаких документальных или археологических свидетельств существования сильного Иудейского царства с Соломоновым храмом в Иерусалиме, с развитой культурой и письменностью. И вдруг — пожалуйста: Одед Голан предлагает Израильскому музею обломок древней каменной плитки с вырезанной на ней надписью, в которой сообщается о перестройке иудейским царем Иоашем Соломонова храма в 812 году до н. э. И эта надпись разом снимает несколько дамокловых вопросительных знаков, томительно нависших над библейской историей: напрямую подтверждает существование первого храма; косвенно подтверждает историческую верность библейских списков иудейских царей и других спорных деталей библейских рассказов и попутно демонстрирует явное существование в Иудее ивритской письменности и письменных исторических источников уже в то древнее время, а также убеждает историков-специалистов во многом другом, в чем они сомневались, но не знали, у кого спросить. О таких подарках судьбы говорят, что если бы их не было, их надо было бы придумать. Подумать только — одним (несколькими) ударом (ударами) резца по камню решен многовековой спор об исторической достоверности библейского рассказа! Посрамлены скептики. Укреплены в вере патриоты. Обогащена наука. Так и хочется добавить: «Поднято ярости масс — 3». Тем более что поначалу несколько специалистов высказались в том смысле, что находка заслуживает самого серьезного отношения. В смысле — не фальсификация. Как минимум 50 % шансов, что нет. Лишь потом, задним числом, выяснилось, что правильные 50 % относятся к камню — вот он действительно был древний. А надпись, как вся контрабанда в Одессе, была изготовлена если не на Большой Арнаутской, то где-нибудь в таком же месте в сегодняшнем Иерусалиме. Не будем описывать детали этого разоблачения — надо думать, вскоре появятся книги, посвященные этой поистине детективной истории. В них будут и детали второго «подарка судьбы», изготовленного, Голаном. На этот раз его адресатом стали не евреи, а христиане. Хитроумно проведя за нос Управление древностей и высмеяв при этом тупую бюрократическую неповоротливость его правил (то-то оно наточило на него клык), Голан сумел переправить на Запад — причем на специальную выставку — некий древний ларец для хранения костей с очередной сенсационной надписью, извещавшей, что ларец этот был в свое время (а по времени он — первого века н. э.) предназначен для хранения костей «Якова, брата Иисуса». Сами понимаете. Некоторые западные христианские специалисты так ухватились за этот ларец (по-научному он называется оссуарий), что не хотят признать его фальшивость даже теперь, когда она доказана вне всяких сомнений. Оно и понятно: трудно расставаться — мелькнула высокая надежда и исчезла, как Жар-птица. Хотя, если вдуматься, разве вера требует «научных» доказательств? Это не оксюморон? Сказал же Тертуллиан: «Верую, потому что абсурдно». Вот это понятно. Настоящая вера не требует даже чудес. А если требует, то вот вам, пожалуйста, адрес — «Одед Голан и компания, Ltd, изготовление и продажа желанных подтверждений религиозных и исторических преданий». Ltd означает «ограниченная ответственность», но в данном случае это звучит насмешливо. Судя по всему, ответственность Голана не ограниченная, а полная. В конце минувшего года его группе (в которую входит еще пара израильских торговцев древностями и один палестинец) предъявлено в Иерусалимском окружном суде формальное обвинение в том, что эти несколько людей, вступив в преступный сговор, на протяжении двух десятилетий производили и успешно распространяли по всему миру сфальсифицированные артефакты (так называют в археологии материальные предметы, изготовленные в прошлом), заработав на этом миллионы долларов. За эти годы Голан (по его собственным словам) стал самым крупным в мире коллекционером израильско-иорданских древностей, а его коллеги — самыми крупными торговцами этими древностями. Разумеется, сами обвиняемые свою вину отрицают, их друзья, естественно, в нее не верят, наши патриоты, понятно, негодуют, а нам остается сказать, что в эти самые дни выяснилось (совпало!), что и знаменитый гранат из слоновой кости, гордость Израильского музея, крохотная древняя вещица, которая 16 лет. считалась единственным (до появления «надписи Иоаша») бесспорным подтверждением реальности Соломонова храма, — этот гранат тоже, увы, является подделкой. Конечно, это уже другая история, и к Голану она отношения не имеет. Но она имеет прямое отношение к тому, как бесславно рушатся одна за другой библейские сенсации. >ГЛАВА 12 РОНГО-РОНГО И ВСПЯТЬ К ШУМЕРАМ Существует множество фундаментальнейших для жизни вещей, о происхождении которых мы ничего или почти ничего не знаем. К ним относится лук, весло, лодка, таран (о котором некоторые историки думают, что это и был Троянский конь). К ним относится и письменность. Вот сию секунду, подняв руку, я нанес на экран компьютера, с помощью его внутренних механизмов, некие значки. Спустя несколько дней или недель эти значки, преобразованные с помощью типографских механизмов в несколько иные значки будут перенесены на газетный лист. В конце концов эта газета ляжет на ваш стол. Вы раскроете ее и поймете, что я хотел вам сказать. Разве это не чудо? Кто ж его придумал? Если не имя человека, то по крайней мере имя народа, первым придумавшего письменность, можно назвать? Расскажем по этому поводу занятную историю, которая имеет прямое отношение к загадке возникновения письменности. Пару лет назад высокоуважаемый журнал «Nature» впервые за много-много лет вдруг отвел пару-другую страниц обзору двух в высшей степени экзотических научных изданий — «Журнала Полинезийского общества» и «Рапа-Нуи журнала». Причиной столь неожиданного внимания была публикация в этих изданиях двух статей молодого новозеландского лингвиста Стивена Фишера, посвященных одной из самых запутанных загадок знаменитого острова Пасха — загадке так называемого ронго-ронго. Ронго-ронго — это деревянные таблички, на которых нанесены довольно примитивные картинки, изображающие преимущественно птиц, рыболовные крючки, человечков с хвостами и без, деревья, палки и прочее в том же роде. Вообще-то такими рисунками впору заниматься детишкам, но в данном случае перед нами явно недетское усилие. Картинки расположены в определенном линейном порядке, каждая линия образует строку, каждая табличка содержит несколько таких строчек, и каждый символ повторяется в ней множество раз. Так и хочется сказать, что перед нами очевидная попытка выразить, сообщить или передать некую информацию, иными словами — попытка письма. Что-то вроде письма в рисунках. Об острове Пасха написано много. Тур Хейердал (тот, что с «Кон-Тики»), да и не он один, посвятил ему и его знаменитым статуям (еще одна островная загадка) специальную книгу. Этот затерявшийся в Тихом океане остров был открыт европейцами в 1722 году. Однако долгие десятилетия подряд ни один из европейцев, побывавших на острове, ни звуком не обмолвился о существовании там табличек ронго-ронго. И вдруг в 1864 году некий миссионер сообщил, что видел такие таблички, причем не одну-две, а буквально в каждой хижине. Вскоре это стало подтверждаться другими сообщениями, и кое-кто из наблюдателей утверждал даже, что эти деревянные таблички хранятся в особых хижинах как нечто сакральное и охраняются запретами — табу. У исследователей, занявшихся изучением ронго-ронго, сложилось впечатление, что это довольно позднее явление, вызванное к жизни скорее всего первыми письменными объявлениями испанских властей острова о его аннексии Испанией. Эти испанские листовки были. вручены вождям и жрецам местных племен, чтобы те «расписались в извещении». Вожди и жрецы «расписались» оттисками пальцев. Дело было примерно в 1770 году, но семена были посеяны, желание обрести такую же, как у белых пришельцев, способность выразить свои мысли значками, видимо, запало в души островитян, и не прошло и ста лет, как это желание воплотилось в загадочные деревянные таблички с их примитивными письменами-рисунками. С тех пор прошло сто с лишним лет, и из всего множества таких табличек во всем мире сохранилось лишь 25, рассеянных по разным национальным музеям. На этих 25 табличках имеется в общей сложности 14 тысяч рисунков. После того как в 1862 году правительство Перу вывезло с острова последних вождей и жрецов, не осталось ни одного островитянина, который умел бы читать ронго-ронго. Усилия немецкого лингвиста Томаса Бартеля, занявшегося уже в середине нашего века расшифровкой загадочной письменности, привели лишь к подтверждению того, что это действительно письменность, скорее всего — рудиментарная, зачаточная письменность, значки-картинки которой изображают как конкретные объекты (птиц, людей и т. д.), так и некие идеи, но не алфавитные знаки, звуки или слоги. Прочесть написанное ни Бартелю, ни другим исследователям не удалось. И вот теперь, через полвека после Бартеля, Стивен Фишер, пройдя путем Шамполиона, добился желанного успеха. Таким образом, письменность ронго-ронго, возможно самая молодая, самая недавняя из созданных человечеством письменностей, наконец-то расшифрована. Таблички острова Пасха прочитаны, как тот роман, о котором говорил классик. И что же они содержали? Об этом чуть позже. Давайте сначала вдумаемся, какой вывод для истории письменности как таковой можно извлечь из истории письменности ронго-ронго. Прежде всего можно думать, что возникновение этой письменности должно в определенной степени повторять процесс возникновения всякой другой, более древней письменности, а может быть, и всякой письменности вообще. Несомненно, письменность рождалась из потребности сберечь некую важную информацию (вспомним, что таблички ронго-ронго держали в специальных хранилищах («библиотеках»)? — были они защищены сакральным табу). Но уже изначально у них была и вторая, не менее важная функция — передать информацию другим людям. Об этом выразительно свидетельствует древняя шумерская легенда, найденная среди памятников шумерской письменности и рассказывающая о том, как эта письменность была создана («изобретена», если угодно). Легенда говорит, что однажды к царю Урука прибыл гонец, настолько измученный дальним путешествием, что был уже неспособен даже говорить. Царю же было необходимо послать его снова в путь. Как сделать, чтобы он мог передать нужную информацию? Хитроумный царь, говорит легенда, взял глиняную табличку и начертал на ней слова послания, так что отныне гонцу не нужно было их произносить. Очаровательная легенда, в наивности своей даже не задумывающаяся над тем, как же получатели этого первого в истории письменного послания прочтут неизвестные им знаки, выцарапанные царем Урука в глине таблички. Ведь письменность, как и речь, процесс двусторонний: и отправитель, и получатель должны предварительно «сговориться» об общем значении применяемых символов (знать, понимать или выучить это значение). Главное, однако, даже не в этом. Легенда не рассказывает о том, как именно царь придумал свои знаки. И тут история ронго-ронго, кажется, может нам помочь. Из нее явно следует, что придуманные островитянами знаки были изображениями, или, как говорят, пиктограммами (от «пиктос» — рисовать). Это рисуночное письмо не воспроизводило звуки какого-либо реального языка, известного только его носителям, а имело общий характер: носители иного языка тоже могли, в принципе, понять эти рисунки (но только в принципе — как мы видели, понять написанное удалось только после почти столетних усилий). Если создание ронго-ронго повторяло историю создания письменности вообще (как развитие эмбриона повторяет историю развития вида), то, может быть, и всякая письменность начиналась с пиктограмм? Давно известно, что люди рисовали с незапамятных времен, — в пещерах Франции и Испании найдены замечательные реалистические изображения бизонов, мамонтов и людей в процессе охоты. Не могло ли быть так, что эти рисунки, постепенно упрощаясь, стали основой каких-то значков, постепенно все более абстрактных и в конце концов сложившихся в письменность? Это действительно одна из гипотез, выдвинутых исследователями, изучающими становление письма. И ее разделяют многие из них, но не все. Другие исследователи указывают, что среди древнейших письменностей — Месопотамии, Египта, Китая, Индии и некоторых других регионов — очень мало образцов рисуночного письма. Даже китайские и египетские иероглифы не очень походят на изображения реальных объектов, хотя некоторые из них такие объекты напоминают. Что же, например, до шумерской клинописи или критского «линейного письма», то угадать в их значках рисунки людей или животных никак не удается. Поэтому скептики выдвинули другую гипотезу. Первой ее предложила — почти 20 лет тому назад — американская лингвистка д-р Дениза Шмандт-Бессерат из Техасского университета. Сегодня ее предположение кажется многим более правдоподобным, чем «пиктографическая теория». На недавнем симпозиуме специалистов по истории письма, проходившем в Пенсильванском университете, представители обеих теорий яростно оспаривали аргументы друг друга и в конце концов согласились, что имеющегося материала еще недостаточно, чтобы решить, какая из этих теорий верна. Чтобы понять гипотезу Шмандт-Бессерат, лучше всего начать… с гомеровской «Илиады». Там есть огромная, как считают, более ранняя вставка, в которой перечисляются корабли, посланные различными греческими городами для участия в походе на Трою. Список этот так огромен, однообразен и скучен, что даже такой ценитель классики, как Мандельштам, признавался: «Я список кораблей прочел до середины…» Специалистам, однако, этот список дает благодатный материал для размышлений. Дело в том, что, расшифровав шумерскую письменность и критское «линейное письмо», — исследователи с немалым удивлением обнаружили, что значительная часть всех этих текстов тоже представляет собой «списки», «перечни», «каталоги» и тому подобное. Так, среди 150 тысяч критских текстов такие «списки» составляют около трех четвертей. Что же там перечисляется? В основном вещи, товары, утварь, драгоценности, мешки зерна и животные, доставленные в царскую казну для уплаты налогов, и тому подобные хозяйственные объекты. Перед нами — явная бюрократическая отчетность. И это не удивительно. Мощные (для своего времени) державы вроде критской, шумерской, микенской, древнеегипетской и других не могли бы существовать без налаженной (и обслуживаемой армией чиновников) экономики. Кто-то должен был кормить двор правителя, армию, жрецов, самих чиновников; правители покоряли другие страны и возвращались с рабами и материальной добычей — ее тоже нужно было скрупулезно подсчитать и отметить; другие цари присылали подарки, и эти дары тоже подлежали тщательной регистрации; в каждом таком реестре указывалось число и характер вещей, пленников, драгоценностей и всего прочего, а также отмечалось (для памяти) место их хранения и так далее. Эта огромная, неутомимая, каждодневная бюрократическая работа тенью сопровождала всю политическую и хозяйственную жизнь страны, ее царей и ее народа. Как же она велась в отсутствие письменности? Можно представить себе, говорит Шмандт-Бессерат, что поначалу для обозначения каждого вида предметов использовались камешки или черепки определенного вида: скажем, для мешков зерна — округлые камешки, для стрел и копий — продолговатые и т. п. Число камешков соответствовало числу предметов данного вида. Камешки хранили в специальных глиняных сосудах. Чтобы знать, что находится в каждом сосуде, на нем снаружи оттискивали один из вложенных в него камешков или черепков. Следы таких черепков, оттиснутые в глине, и были предшественниками первых письменных знаков. Действительно, сосуды с такими оттисками в превеликом множестве найдены в раскопках древних месопотамских городов — Ура, Урука и других. Дальнейшее развитие уже нетрудно представить: какой-то неведомый месопотамский гений сообразил, что оттиск можно делать просто палочкой («стилом») во влажной глине и даже просто на специальной глиняной табличке; другой придумал особые оттиски-значки для обозначения тех или иных мест хранения; третий догадался, что таким же способом можно обозначать не только предметы и места их хранения, но и некоторые простейшие, основные понятия, и так далее. Сначала все эти значки были достоянием одних лишь чиновников и понятны только им одним. Но им можно было обучиться и обучить других. И других учили. Тому есть замечательное доказательство. Среди прочих клинописных и «линейных» древних «реестров» были обнаружены такие, которые были специально предназначены для обучения будущих чиновников, для заучивания наизусть — ради обретения навыков записи и чтения новых «списков». Надо думать, что жрецы и придворная знать тоже постепенно приобщались к новинке. Впрочем, в тех же первых памятниках шумерской письменности есть указания на то, что цари и правители, как правило, писать и читать не умели — за них это делали специально обученные писцы и чтецы. Эти специалисты были совершенно необходимы при дворе: древние державы, как опять же обнаруживается в памятниках их письменности, вели огромную дипломатическую переписку. В одной только столице Хеттской империи 2-го тысячелетия до н. э. были обнаружены десятки писем хеттских царей к фараонам Египта, правителям стран Малой Азии, царям Ассирии и даже вождям древнегреческих городов. (Надо полагать, что все это не сами послания, а их копии, на всякий случай хранившиеся в царском архиве.) Итак, перед нами две гипотезы, по-разному объясняющие происхождение письменности: одна видит ее начало в рисунках, другая — в оттисках, с помощью которых регистрировались объекты в «реестрах» и «списках». В чем, однако, сошлись все специалисты на упомянутом выше симпозиуме, так это в убеждении, что первые варианты письменности не отражали какого-либо определенного языка — лишь на более позднем этапе некоторые из них перешли к обозначению значками звуков родной речи. Как сказал д-р Питер Дамеров, «каким бы ни был исходный импульс для создания письменности, с момента ее появления она быстро приобретает достаточную независимость и гибкость, чтобы адаптировать свои кодовые знаки для передачи специфических особенностей своего языка». Впрочем, «быстро» — это примерно полтысячи лет: именно такой срок отделяет первые клинописные значки на черепках из Урука от поздней клинописи, представляющей запись шумерской речи. Таким образом, шумерские клинописные знаки постепенно стали знаками шумерского языка, древнеегипетские иероглифы были приспособлены для передачи понятий древнеегипетской культуры, хеттские письмена — для транскрипции хеттской фонетики и так далее. Но где же начался этот процесс? Мы уже знаем, где и когда было изобретено последнее по счету письмо — на острове Пасха, в конце XVIII — начале XIX века. А где и когда возникла первая письменность? Вокруг этого вопроса тоже идут ожесточенные лингвистические споры. До недавних пор считалось, что самые древние значки-письмена появились в Шумере примерно за 3200–3300 лет до н. э. — не случайно известная книга об этой первой месопотамской цивилизации называется «История начинается в Шумере». Но на пенсильванском симпозиуме было сообщено, что новейшие методы радиоуглеродного датирования позволяют думать, что некоторые древнеегипетские иероглифы, обнаруженные на обломках костей и на глиняных сосудах, были нацарапаны за 3500 лет до н. э. Теперь и в этом вопросе будут существовать две теории — египетского и шумерского происхождения письменности. Все другие древние системы письма появились явно позже, но опять-таки «вскоре»: уже в начале 3-го тысячелетия до н. э. письменность становится весьма распространенной — она встречается, например, у эламитов Южного Ирана; затем она появляется в долине Инда (в нынешнем Пакистане) и в Западной Индии, в Сирии, на Крите («линейное письмо») и в Анатолии (империя хеттов). В конце 2-го тысячелетия до н. э. письменность появляется в Китае, а в начале 1-го — в Центральной Америке (государство майя). Эта последовательность заставляет некоторых исследователей думать, что письменность не столько изобреталась в каждом месте отдельно, сколько распространялась, видоизменяясь в ходе этого процесса. Однако другие специалисты считают, что каждая из этих древнейших систем письма была автохтонной, т. е. придуманной независимо от других. (Ситуация тут отчасти напоминает знаменитый спор палеоантропологов: появился вид гомо сапиенс на каждом континенте независимо или возник в Африке и оттуда распространился по планете?) Думается, что и для решения этого спора пока нет достаточного материала. Неслучайно чуть не каждое новое открытие весьма круто меняет представления лингвистов. Раньше, к примеру, считалось, что письменность проникла в долину Инда из Месопотамии. Теперь, на том же симпозиуме, было сообщено об открытии в Индии еще более древних письменных знаков; относящихся к 3300 г. до н. э. и отдаленно похожих на знаки более поздней индусской письменности следующего тысячелетия. Если это открытие подтвердится, оно может означать, что письменность в Индии возникла независимо от Шумера. О Китае раньше вообще не спорили: древняя китайская письменность считалась автохтонной, возникшей на основе изображений на бронзовых изделиях («рисуночное письмо») и на костях для гадания («черепковая письменность»). Но, выступая на пенсильванском симпозиуме, один из специалистов заявил, что ему удалось обнаружить 22 знака финикийской письменности на глиняной посуде и одеяниях мумий, найденных в пустыне Западного Китая. При этом мумифицированные тела имеют характерные признаки людей кавказской расы, а их одеяния — западные приметы, так что можно думать, что эти (а может быть, и более восточные) места Китая посещались людьми из Месопотамии уже во 2-м тысячелетии до н. э. Они могли занести сюда и свою письменность. Известно ведь уже, что повозки и бронзовая металлургия проникли в Китай именно с запада. Таково состояние научных знаний о возникновении письменности на нынешний день. А что же, кстати, с письменностью ронго-ронго? Мы ведь обещали рассказать, что прочел на этих табличках Стивен Фишер, и даже намекнули, что он воспользовался для этого методом Шамполиона. Пришло время для обещанного рассказа. Напомним, что Шамполиону удалось прочесть древнеегипетские иероглифы благодаря находке т. н. Розеттского камня, на котором один и тот же текст был записан и на известном ему греческом языке, и с помощью иероглифов. В случае Фишера роль Розеттского камня сыграла двухкилограммовая табличка ронго-ронго метровой длины, хранившаяся в музее Сантьяго и покрытая множеством строк текста, в которых отдельные куски были отделены друг от друга вертикальными линиями (ни в одной другой табличке таких линий не было). В поисках закономерностей текста Фишер обратил внимание на то, что знак, следовавший за каждой линией раздела, обязательно сопровождался примитивным рисунком фаллического характера (т. е. упрощенным изображением мужского члена). Каждый третий знак после первого (4-й, 7-й и т. д.) тоже сопровождался таким фаллическим символом, т. е. текст как бы распадался на триады типа X-У-Z. Вспомнив, что в рассказах миссионеров, посещавших остров Пасха в прошлом веке, фигурировала некая «Песня Творения», начальные слова которой звучали как «Атуа Мата Рири», а вся песня в целом означала: «Бог Мата Рири («грозноокий») совокупился со сладким лимоном, и так родилось дерево Попоро». Фишер предположил, что найденные им «триады» можно понимать следующим образом: некий X (знак которого сопровождается фаллическим символом) совокупился с У, и это привело к возникновению Z. Иными словами, каждая триада — это предельно лаконичный рассказ о сотворении какого-то объекта рееального мира, а весь текст таблички в целом — своего рода островитянская «Книга Творения». Благодаря этому ключу, ему удалось расшифровать и тексты на других сохранившихся табличках. В итоге он показал, что ронго-ронго были не просто мнемоническим средством вроде известного «узелкового письма», а настоящей письменностью, с помощью которой жрецы острова за период с 1780 по 1865 год сумели записать (а может, и досочинить) мифологию островитян. Интересно, что эта письменность оказалась далеко не чисто пиктографической: ее знаки (хотя отнюдь не все) действительно были упрощенными изображениями физических объектов, но, например, фаллические символы оказались своего рода «семантическими суффиксами», т. е. были предназначены дать наглядное визуальное представление о некоем действии, которое один такой объект совершал над другим… Такие вот картинки…. >ГЛАВА 13 «НЕГРАМОТНАЯ» КУЛЬТУРА В дополнение к вышерассказанному — еще одна история с письменностью, которая не совсем письменность. Всем известно, что древнейшие цивилизации складывались вдоль больших рек. Придумано даже название — «гидравлическая цивилизация», т. е. такая, которая складывалась в борьбе с постоянной угрозой наводнений. Индия не была исключением. Как открыли английские ученые еще в 1870-е годы, древнейшая цивилизация на этом субконтиненте тоже сложилась вокруг реки — вокруг реки Инд. Систематические раскопки, начавшиеся здесь в 1920-е годы, вскрыли большие города, многочисленные здания, сложную систему водопроводных и канализационных труб. Одна только Хараппа, судя по числу жилых зданий, насчитывала 50 тысяч жителей — и это за 2500–2000 лет до нашей эры. Территория этой цивилизации составляла 1 млн кв. км. Понятно, что для современных индийских националистов эта древнейшая цивилизация Инда — предмет величайшей гордости, прямой предшественник культуры Вед и всей нынешней Индии. Своей монументальностью она нисколько не уступала знаменитым, одновременным С ней древним цивилизациям Египта и Мессопотамии. С одним отличием, о котором — сначала потихоньку, чтобы не разъярить этих гордых националистов, а теперь уже во всеуслышание — заговорили с недавних пор некоторые ученые. Если они правы, эти учёные, то древнейшая и великая цивилизация Инда была… безграмотной. От Древнего Египта остались иероглифы, надписи, целая литература. От цивилизаций Древней Мессопотамии сохранилась клинопись, целые библиотеки глиняных табличек. А вот от цивилизации Инда остались лишь многочисленные изображения каких-то непонятных, объединенных в небольшие группы значков, нарисованных в основном на маленьких табличках или печатях. Древнейшие из этих значков датируются примерно 3200-м годом до н. э., т. е. почти тем же временем, что и первые иероглифы и клинопись. Спустя 800 лет эти значки достигают наибольшего разнообразия, а еще спустя 700 лет они исчезают совсем, вместе со своей цивилизацией. И что странно — почти все эти таблички содержат очень малое число значков (или символов?) индийский археолог Рао насчитывает их не более 20-ти, хотя более «патриотически» настроенные ученые утверждают, что разных знаков чуть ли не 700. В последнем случае они, скорее всего, должны были бы быть иероглифами, но этому противоречит тот факт, что большинство этих значков больше похожи на обычные рисунки — изображения рыбы, например, или дерева. Если же отбросить рисуночные значки, мы вернемся к выводу Рао, что «собственно знаков» всего 20, и тогда их можно было бы считать, вслед за финским лингвистом Парполой, знаками фонетического письма, но тут в наши споры вмешивается главный герой всей этой истории, американский «возмутитель спокойствия» Стив Фармер, и портит всю картину своим сенсационным утверждением, что это никакой не алфавит, а просто… Впрочем, давайте по порядку. Фармер, процдя путь от армейского радиста «на подслушке» до профессора на кафедре сравнительной культурологии, в свое время написал глубокую работу по истории Древнего Китая и недавно занялся историей древнего бассейна Инда. В своей последней итоговой статье о пресловутых «знаках древней индийской культуры» он еретически заявил, что никакие это не письмена, а что-то вроде тех геральдических символов, которые имели такое широкое хождение в средневековой Европе. Разумеется, это утверждение было не с потолка взято. Вместе с другими лингвистами-единомышленниками Фармер произвел тщательный анализ всех сохранившихся табличек и определил, что среднее число знаков на них составляет 4,6 (самая длинная «надпись» содержит 17 знаков и лишь меньше одного процента надписей длиннее 10 знаков). Такие короткие «тексты» не встречаются ни в одной из известных ученым письменностей мира. Далее, в отличие от букв, которые в текстах на любом языке повторяются довольно часто (например, в английских текстах почти 12 % знаков — это буква «е»), в «надписях» из долины Инда такие повторы практически не встречаются. Наоборот, добрая половина знаков вообще встречается только один раз, три четверти знаков встречаются всего пять и менее раз. Такое впечатление, пишет Фармер, что «некоторые знаки изобретались специально для данного текста и забывались после нескольких использований». Все это привело Фармера к выводу, что индийские знаки были, скорее, магическими символами — вроде креста у христиан — или геральдическими изображениями, обозначавшими отдельные кланы, сосуществовавшие (и, возможно, враждовавшие) внутри этой загадочной цивилизации. Разумеется, гипотеза Фармера взбесила многих. Националисты попроще стали посылать ему письма с угрозами, а ученые коллеги принялись раздраженно опровергать все его утверждения, заявляя, что он фальсифицировал все свои данные. Что, как признает большинство специалистов, попросту неправда. Доводы Фармера слишком обоснованны, чтобы отмахнуться от них, и не случайно многие специалисты из «умеренных» уже сдвинулись от прежней единодушной веры в древнюю индийскую письменность к более скромному утверждению, что на загадочных табличках изображены имена принцев, богов, названия городов и т. п., но несвязные «рассказы», как было в Древнем Египте или Шумере. Вместе с Фармером (или вслед за ним) они сходятся в том, что эти символы играли какую-то важную социальную роль, объединяя все территории древней цивилизации Инда и придавая им ощущение общей принадлежности к одной культуре (напомним, что по территории эта цивилизация была примерно как вся нынешняя Западная Европа!). Как. говорит Фармер, отсутствие письменности отнюдь не унижает индийскую цивилизацию. «Большая городская цивилизация могут держаться вместе и без письменности», даже если это была многоплеменная и многоклановая культура. «Бесстрашный еретик» настолько уверен в своей правоте, что недавно учредил даже специальную премию размером в 10000 долларов для человека, который представит надпись длиной в 50 символов, с повторяющимися по законам языка значками и сопроводит находку прочтением ее текста. «Я ничем не рискую, — уверенно заявил он газетам. — Мне все-равно никогда не придется выписывать этот чек». >ГЛАВА 14 В ПОИСКАХ ТАЙНОГО ЗНАНИЯ Под конец вернемся от древней лингвистики опять к древней истории. В ней все еще появляются новости и открытия. Одно из таких открытий произошло в исторических масштабах не так уж давно, и поэтому его можно смело зачислить в новости. Во всяком случае, в древние новости. Открытие это совершил простой арабский пастух. Случайно заглянув в заброшенную пещеру, он обнаружил там глиняный кувшин метровой высоты и, разбив его мотыгой, увидел какие-то древние свитки. Он забрал их с собой, а уже от него они каким-то образом попали на арабский черный рынок, перекочевали в руки охочих до древностей зарубежных туристов и в конце концов оказались в распоряжении ученых, где им и было самое место. Ибо свитки эти содержали неведомые доселе и переворачивающие многие наши представления тексты, родившиеся в кругу загадочной религиозной общины, что существовала в этих местах в те времена, когда ближневосточную землю топтали сапоги римских легионеров, а отчаявшиеся в неволе люди слагали учение о приходе избавителя-Спасителя. Вы, конечно, подумали, что я пересказываю историю Кумранских свитков. И вы ошиблись. Я хочу рассказать совершенно иную, хотя и не менее увлекательную историю, которая как две капли воды похожа на историю кумранской находки, — с той лишь разницей, что в данном случае свитки были найдены в пещере на горе Джабаль аль-Тариф, вблизи города Наг-Хаммади, что в среднем течении Нила, между знаменитыми египетскими городами Асьютом и Луксором. О кумранских свитках знает каждый образованный человек. О свитках Наг-Хаммади знает далеко не каждый. Между тем по своему значению они, пожалуй, не уступят свиткам Мертвого моря. Свитков Наг-Хаммади насчитывается тринадцать. В них содержится пятьдесят два текста, созданных, по мнению специалистов, в первом-втором веках нашей эры. Тексты эти представляют собой раннехристианские апокрифы, то есть сочинения, не вошедшие в утвержденный церковью христианский канон — «Новый Завет». А громадное историческое значение этих текстов состоит в том, что в сумме они образуют наиболее полную и впервые представшую перед исследователями библиотеку т. н. «гностических» сочинений, до того известных лишь по пересказам христианских критиков гностицизма. Вообразите себе, что вы находитесь в зале суда, где все время выступают только свидетели обвинения. И вдруг происходит взрыв! Впервые за два тысячелетия в зале появляется сам обвиняемый. В зале шум и смятение, судья грохочет молотком по столу, приставы выводят непотребно беснующихся обвинителей. И обвиняемый начинает сам рассказывать о себе. Я сознательно принял столь высокопарный тон, чтобы подчеркнуть всю огромность и небывалость случившегося. Находка в Наг-Хаммади не просто очередное археологическое открытие. Это переворот в наших представлениях о гностицизме. А стало быть, обо всей истории раннего христианства. Более того — о религиозной истории в целом. Ибо гностицизм — это одна из величайших и распространеннейших религий древнего мира. Но куда важнее и, несомненно, куда интереснее, что это одно из самых влиятельных и заметных явлений нашей с вами эпохи, той, в которой мы живем и блуждаем сейчас. Достаточно сказать, что следы гностических доктрин обнаруживаются в учениях таких современных мыслителей, как Хайдеггер и Юнг, а в своей вульгаризованной форме они были усвоены мистическими вдохновителями Гитлера из «Общества Туле» и создателями многих современных оккультных сект и мистических культов на Западе. И если когда-то исследователь гностицизма Ганс Йонас говорил о «Великой гностической революции» древности, то сегодня мы можем назвать наше собственное время эпохой столь же масштабной «гностической контрреволюции». Теперь уж вы наверняка впали в тяжелую задумчивость. Если гностицизм столь могуч и вездесущ, то почему мы о нем ничего не знаем? Если его следы обнаруживаются буквально повсюду, то, ради Бога, покажите нам их. И поскорее! Может быть, мы — тоже гностики, только сами не знаем, как мольеровский герой Журден не знал, что всю жизнь говорил прозой! А не знаем мы о гностицизме (точнее, почти ничего не знали до находки в Наг-Хаммади) по той простой причине, что христианская церковь усиленно над этим поработала. В свое время, на рубеже I–II веков, учение гностиков настолько успешно соперничало с ортодоксальным христианством, что, по мнению некоторых ученых, имело шансы его победить. Гностикам не хватило организованности. Они никогда не пытались создать формальную церковную организацию. Более того, они были принципиально против нее. Гностицизм, как мы увидим, — это вызывающе индивидуалистическая доктрина. И пока гностики размышляли о причине несовершенства земной юдоли и способах ее преодоления, христиане создавали свои епископаты. И первые же епископы на первое место в списке своих неотложных задач поставили беспощадную борьбу с конкурентами. Уже в 180 году епископ Ириней опубликовал пятитомное (!) сочинение, озаглавленное «Сокрушение и уничтожение ложного учения, так называемый «гнозис», которое изрыгает хулу на Господа нашего Иисуса, — дабы не дать другим впасть в эту бездну гордыни и богохульства». С еретиками христианство всегда расправлялось круто. Гностицизму грозило полное исчезновение из человеческой памяти. К счастью, Ириней с группой товарищей перестарались. В их сочинениях эти еретики цитировались так обильно, что вдумчивые люди из одних этих цитат могли составить представление о гностических доктринах. А историки религии XIX–XX веков разбирались в древнем гностицизме уже весьма неплохо. Находка в Наг-Хаммади позволила им сделать следующий огромный шаг в развитии и обобщении этих представлений. Что же так раздражало христианских ортодоксов в гностическом учении? Возьмем, к примеру, один из текстов наг-хаммадийских свитков, апокриф, который называется «Евангелие от Фомы» (в «Новом завете» вы его, разумеется, не найдете). Начинается оно так: «Здесь содержатся тайные слова, сказанные живым Иисусом и записанные его братом-близнецом Иудой Фомой». Тут даже самый поверхностно знакомый с христианством человек содрогнется. Оказывается, у Иисуса был брат-близнец! Оказывается, Иисус поведал ему какое-то «тайное знание»! Раз «тайное» — значит, не то, которое содержится в канонических Евангелиях. Что же это за знание? Намеки на эту тайну рассеяны по наг-хаммадийским свиткам в превеликом множестве. К примеру, в тексте «Свидетельство истины» рассказывается совершенно сенсационная история Змия, который, оказывается, первым пытался принести людям свет «тайного знания», но встретил яростное сопротивление «так называемого Бога», пригрозившего Адаму и Еве смертью, если они вкусят от злополучного яблока. А в тексте с поразительным названием «Громыхающий идеальный разум» некая загадочная «Высшая богиня» выражается о себе таким дзэн-буддистским слогом: «Я та, которую чтут и поносят, я шлюха и святая, я мать и девственница, я первая и последняя, я непостижимое молчание и я же невыразимый звук моего имени». Гностики были решительно неортодоксальны и в толковании самого Иисуса, и в объяснении его миссии на земле. У ортодоксов Иисус отделен от сынов человеческих уже тем, что он «Сын Божий», а у гностиков Бог и человеческое Я — одно и то же: «Познай, кто это такой внутри тебя говорит — моя мысль, моя душа, мое тело, и ты обнаружишь Бога в самом себе», — говорит гностический автор Моноимус. У ортодоксов Иисус говорит в основном о «первородном грехе», который он пришел «искупить», а у гностиков он занят прежде всего развенчанием иллюзий, которые скрывают от людей «истинное положение вещей в мире», «истинное знание». И говорит Иисус Фоме: «Кто пьет из кипящего источника истины, из которого пью и Я, тот становится Мною, и Я становлюсь им». Не потому ли Фома и назван его братом-близнецом? Сквозная тема всех гностических текстов — поиск тайного знания, по-гречески — «гнозиса». Отсюда и название. Какие-то загадочные, словно нарочито созданные кем-то иллюзии скрывают от людей истинную природу мира и самого Бога, и то, что люди принимают (а ортодоксальные христиане выдают) за истину, ей на самом деле противоположно. Может, и сам Бог подложный? Да и существует ли Он вообще? Один из гностических авторов говорит о «Несуществующем Боге». Не в том смысле, что Его нет, а в том, что Он не существует в принятом толковании этого слова, не может быть определен в обычных терминах, разве что в отрицательных: Он не то, и не то, и не то. Эту мысль позднее подхватили у гностиков такие знаменитые средневековые мистики, как Николай Кузанский и Якоб Беме. А уже у них — кое-какие мистики нашего времени. Точно так же, как Юнг заимствовал у них убеждение в наличии у божества женской ипостаси, а Хайдеггер — некоторые представления о природе человеческого бытия, вошедшие — уже через хайдеггеровские сочинения — в основы современного экзистенциализма. О том, что заимствовал у гностиков фашизм, популярно рассказано в переведенной (много лет назад) на русский язык книге Бержье и Пауэлла «Утро магов», а более научно — в недавно вышедшей (по-английски) книге «Гностические корни нацизма». Любопытно, что почти так же называется более давняя книга известного французского историка Алана Беансона, только у него — «Гностические корни ленинизма»! Гностические корни, несомненно, есть, как я уже говорил, и у более мелких духовных течений эпохи, но они все еще ждут своих исследователей. Гностики, в общем-то, всего лишь передали эстафету. Они и сами многое заимствовали. Внимательный читатель наверняка заметил; что разговоры об «истине, скрывающейся за покровом иллюзий», очень напоминают индийские рассуждения о «покрове Майи», скрывающем от людей высшую истину бытия, то, «каково оно есть на самом деле», а сами «иллюзии» очень похожи на платоновские «тени вещей», которые носятся на стене Пещеры, где томится человеческий разум, принимая эти тени за те абсолютные «идеи», из которых, по Платону, слагается истинная реальность. Не случайно Адольф Гарнак, один из первых исследователей гностицизма, когда-то назвал гностиков «распоясавшимися платонистами», а британский историк Гонзе возвел зарождение гностических идей к влиянию буддистских проповедников, которые активно миссионерствовали в Александрии в I–II веках н. э. С другой стороны, Мориц Фридландер доказывал, что многое в учении гностиков восходит к «еретическим» идеям иудаизма того же времени. У гностиков, действительно, был жестокий спор с иудаизмом, может быть, даже более жестокий, чем с христианской ортодоксией, и такой беспощадно страстный, какой бывает только между очень близкими родственниками. Гностики отвергали «претензии» иудаизма на абсолютную истину с той же яростью, что и претензии первохристиан; но они же впоследствии возместили иудаизму «убытки», вдохновив его на создание гаонической мистики (как позднее, видимо, одарили создателя ислама мистической идеей «цепи пророков», а сам ислам вдохновили на создание суфизма и исмаилизма; но об этом — в следующей части нашей книга). Но, может, дело обстояло наоборот, — еврейская мистика предшествовала гностицизму? К этому следовало бы вернуться, но мы сейчас ограничимся тем, что передадим слово арбитру, который лично мне представляется наиболее глубоким из всех, — уже упоминавшемуся ранее Гансу Йонасу. В своем классическом произведении «Гнозис и дух позднеантичной эпохи» он набрасывает грандиозную картину того, как в недрах созданного Александром Македонским эллинистического мира постепенно и исподволь на протяжении нескольких столетий вызревал поразительный и уникальный сплав многочисленных восточных и западных религиозных и мистических учений и культов и как затем эта духовная магма, вырвавшись из ближневосточных недр, хлынула на Запад в грандиозном контрнаступлении, в котором Восток взял реванш за предшествующее — политическое отступление перед Западом. (Отметим, что под Западом Йонас подразумевал Грецию, а под Востоком — то, что мы и сегодня так называем.) Так вот, подыскивая слова для определения центрального ядра этого гигантского духовного процесса, наложившего неизгладимый отпечаток на всю последующую историю западной цивилизации, Йонас долго выбирает между различными возможностями — «временный триумф иудаизма», «победа иудеохристианства» и т. п., — пока не приходит к тому главному, что, на его взгляд, объединяло и пронизывало все эти разнородные составляющие. Это было, говорит он, «вторжение гностицизма». При таком подходе становится понятным, почему гностицизм обнаруживает такое глубокое сходство со столькими и столь разнородными учениями и доктринами древности, начиная с мистики иудаизма и платоновской философии и кончая отголосками буддизма. Становится понятным и то, почему гностицизм, как утверждает Йонас, оказался главной и сквозной идеей позднеантичной эпохи и почему сумел оказать столь мощное влияние на духовное развитие человечества, что это влияние ощущается и в наши дни, — ведь он объединял в себе множество различных влияний и тем самым, как сказали бы химики, имел множество «свободных валентностей», которые позволили ему объединяться с самыми разными мистическими идеями позднейших времен и оплодотворять их своим влиянием. Примерно так же (но в куда меньшем масштабе) вторгся (уже в нашу эпоху) в духовную жизнь России марксизм с его щупальцами свободно-валентных идей, только и ждущих, к кому бы присосаться — то ли к символизму, то ли к богоискательству, то ли к рабочему движению. О гностицизме можно рассказывать долго. На этом закончим наше повествование. >ЧАСТЬ 6 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА >ГЛАВА 1 А БЫЛА ЛИ ОНА ВООБЩЕ?
История насмешлива. Отодвигая события в прошлое, она делает их сомнительными (порой незаслуженно сомнительными) для потомков. При этом, будучи одинаково равнодушной ко всему в себе, она и в этом вопросе не знает исключений. «Я слышал сомнения в реальности Трои», — писал Байрон после посещения Гиссарлыкского холма. И предрекал, улыбаясь: «Со временем усомнятся и в Риме». Подлинность Древнего Рима пока еще несомненна, но реальность Троянской войны в последние столетия действительно стала — предметом бурных споров. Не то было раньше. «Для античности, — говорят Гиндин и Цымбурский, — Троянская война была несомненным фактом… О ней напоминали родословные, идущие от ее героев, названия основанных ими городов, гавани, где были стоянки их кораблей». Эти родословные и названия были известны всем. Великий Вергилий в своей поэме «Энеида» писал, что когда уцелевший троянец Эней в своих странствиях навстречу судьбе (ему было якобы предназначено основать Рим, который возродит троянскую славу) добрался до далекого Карфагена, что на другом от Трои конце Средиземного моря, и попытался поведать тамошней царице Дидоне, откуда он родом, оказалось, что Дидона и сама уже может рассказать ему историю осады и гибели Трои и ее героев. Как объясняет В. Топоров в своей книге «Эней — человек судьбы», Вергилию, писавшему в I веке до н. э., представлялось очевидным, что в Энеевы времена о падении Трои должен был знать каждый средиземноморец, коль скоро это было реальное событие, потрясшее весь средиземноморский мир. Свидетельств такой безусловной веры многих поколений (от Гомера к Вергилию и далее до средневековых) в историческую реальность Троянской войны несчетное множество; вот одно из них, возможно, самое яркое. В «Илиаде», рассказывая о главных героях Троянского похода, Гомер среди прочих повествует бб Аяксе — царе Локриды, что находилась в срединной Греции неподалеку от Дельф с их оракулом. Гомер называет этого Аякса «малым», чтобы отличить от другого, «большого», или «великого», Аякса Теламонида:
Помимо отличного метания копья, Аякс Локридский отличался, видимо, еще и необузданно диким нравом — после взятия Трои он ворвался в храм Афины, где пророчица Кассандра, ища спасения, прильнула к статуе богини, и, увидев несчастную девицу, воспылал к ней нечистым желанием; а поскольку ему никак не удавалось оторвать руки Кассандры от статуи, он схватил ее за волосы и потащил прочь вместе с каменным изваянием. Этим поступком, осквернившим алтарь Афины, Аякс Локридский вызвал понятную и вечную ненависть богини, и вот, как сообщают древнегреческие памятники, жители Локриды даже в IV веке до н. э., т. е. спустя тысячу лет (!) после описанных Гомером событий, были настолько убеждены в реальности этого давнего проступка своего давнего царя, что продолжали замаливать его вину перед Афиной и отвращать ее гнев, ежегодно отправляя двух своих девушек (из самых аристократических семей) в отстроенную к тому времени Трою, дабы они служили там хранительницами восстановленного храма оскорбленной богини. Правда, некоторые скептики издавна утверждали, что обвинение Аякса в попытке изнасиловать Кассандру было облыжным и его якобы придумал в каких-то своих целях хитроумный и коварный Одиссей. Но если даже локридцы поверили наговорам Одиссея, все равно, они и в этом случае, в конечном счете, поверили Гомеру. Нет, бесспорно, сомнения в исторической достоверности гомеровского рассказа не приходили тоща в голову почти никому — разве что Анаксагору, который, видите ли, требовал доказательств этой достоверности; но на то Анаксагор и был философ. Всем прочим людям, нефилософам, доказательства казались излишни, ибо, как писал древнегреческий историк V века до н. э. Фукидид, «в правдивости гомеровского рассказа не приходится сомневаться», поскольку за нее ручаются «великие поэты и всеобщая традиция» («поэты» здесь во множественном числе, потому что, кроме гомеровских, существовали и несколько менее пространных поэм о Троянской войне, совместно известных как «Эпический цикл» и дошедших до нас в записях VI века до н. э.). «Ручательство» это становилось тем более убедительным, что поэты и традиция взаимно удостоверяли подлинность своих свидетельств: например, «Эпический цикл» утверждал, что Афина наложила на Локриду тысячелетнее проклятие и, согласно традициям самих локридцев, им суждено было посылать своих девушек в. Трою тоже на протяжении тысячи лет, так что они покончили с этим тягостным обычаем лишь в 264 г. до н. э., тем самым заодно засвидетельствовав, что, согласно их традиции, падение Трои произошло в 1264 г. до н. э. Кстати говоря, хотя вера в реальность этого события не умалялась с веками, но сама его дата постепенно уходила в туман и уже в древности стала предметом ожесточенных споров. Так, великий древнегреческий историк Геродот (484–424 гг. до н. э.) путем сопоставления генеалогий царских семей, сохранившихся в различных греческих традициях, пришел к выводу, что поход на Трою состоялся в 1260 г. до н. э., чем, в сущности, научно подтвердил «традиционную» датировку. С другой стороны, двумя столетиями спустя географ и астроном Эратосфен (276–194 гг. до н. э.), использовав те же данные, что Геродот, но подойдя к ним с большей придирчивостью, заключил, что Троянская война началась на сто лет позже, в 1164 году до н. э. (Многие ученые до сих пор считают это наиболее авторитетной датировкой.) Самой древней из называвшихся дат Троянской войны был 1334 год до н. э., самой поздней — 1135-й, а вот некий безымянный резчик, живший как раз между Геродотом и Эратосфеном, в начале III века до н. э. высек на мраморном памятнике в Фаросеи такую (уже неизвестно откуда взятую) дату того же события: 5 июня 1200 года до н. э. — то есть с точностью не только до месяца, но даже до дня! Во всем этом важна, конечно, не сама дата и даже не то, что разные даты отличались друг от друга, — куда важнее поразительная готовность каждого автора назвать точную дату, ибо такая готовность, несомненно, проистекала из абсолютной веры в реальность описанных Гомером событий. Нам, современникам, трудно разделить эту наивную уверенность — прежде всего потому, что, как нам сегодня уже известно, догомеровская (а скорее всего, и гомеровская) Греция еще не знала письменности (а точнее, знала, но утратила, как выяснилось позже, причем еще в XII веке до н. э., задолго до времен Гомера); поэтому народные предания (то, что Фукидид называл «всеобщей традицией») никем и никак не могли быть записаны. Незаписанная же «народная память» — весьма ненадежный свидетель. Как писал знаменитый историк Иосиф Флавий, «хотя часто говорят, будто древние греки были первыми, кто стал заниматься прошлым на более или менее точный научный манер, на самом деле, очевидно, что так называемые варвары сохранили историю лучше, чем греки… Дело в том, что греки поздно усвоили алфавит, и он дался им с трудом… так что во всей греческой литературе нет сочинений, относительно которых существовала бы уверенность, что они древнее Гомера. Однако время Гомера было явно намного позже Троянской войны, и даже он оставил свои поэмы незаписанными…» Действительно, тот же Геродот считал, что Гомер жил за 400 лет до него, а это соответствует, как легко посчитать, IX веку до н. э., и хотя некоторые другие историки порой отодвигали время его жизни чуть ли не в XII век до н. э., т. е. делали его прямым современником воспетой им войны, большинство современных ученых склоняется скорее к точке зрения Геродота. Это большинство поддерживает и утверждение Иосифа Флавия о сравнительно позднем возникновении греческой письменности; правда, некоторые пылкие умы в прошлом выдвигали предположения, будто эта письменность была создана уже за столетие до гомеровских поэм или же, в крайнем случае, одновременно с ними (именно для их записывания), а то и самим Гомером (для той же цели), но сегодня это событие единодушно относят примерно к тому же моменту, что и первые общегреческие Олимпийские игры, а они состоялись в 776 г. до н. э. Это мнение достаточно обосновано: самые ранние из обнаруженных на сей день надписей, исполненных несомненно греческим алфавитом, датируются 770 годом до н. э. С другой стороны, сегодня существует и вполне надежное основание считать, что Троянская война, если она происходила, вряд ли могла произойти позже середины XI века до н. э., ибо во второй половине этого века, как свидетельствует археология, союз древнегреческих государств, возглавлявшийся Микенами, уже не существовал — он распался под натиском каких-то пришельцев с севера, а еще через несколько десятилетий рухнули и сами Микены. Стало быть, позже, скажем, 1150 года до н. э. возможность организации того коллективного, общегреческого похода под водительством Микен, какой описан в «Илиаде», стала весьма сомнительной. Таким образом, между Гомером и — описываемыми им событиями зияет временной разрыв протяженностью в 300–400 лет. И тут возникает первый из серии вопросов, в совокупности образующих загадку Троянской войны: могла ли устная традиция сохранить и перенести через такой провал достоверные воспоминания о столь давнем прошлом? Но этот вопрос тут же осложняется еще одним. Допустим все же, что устная традиция сумела сохранить верность далекому прошлому. Но вот незадача: исследования современных филологов убедительно показали, что гомеровские поэмы, которые были вершиной и завершением этого многовекового устного творчества, представляют собой не столько точную (пусть и гениальную) фиксацию «преданий старины глубокой», а скорее — весьма индивидуализированное художественное преображение этих фольклорных материалов. Но можно ли в таком случае говорить об их исторической достоверности? Можно ли говорить об исторической реальности неких событий на основании текста, хоть и рассказывающего об этих событиях, но созданного по законам поэтического творчества? Иными словами, насколько надежны свидетельства гомеровских поэм? Обратимся к Гомеру. >ГЛАВА 2 ГОМЕР И ЕГО ПОЭМЫ Что мы знаем о Гомере? Что он был автором двух пространных, изложенных гекзаметром поэм «Илиада» и «Одиссея», в которых повествуется о десятилетней войне греков (в этих поэмах они именуются более древним названием «ахейцы») против троянцев, жителей города Троя, что существовал когда-то на западном берегу малоазиатского (ныне Турецкого) полуострова. Однако современная историко-филологическая наука утверждает, что самым первым источником всех знаний и представлений об этой войне был не Гомер, а предшествовавшая ему древнегреческая народная традиция — эпические сказания, изустно передававшиеся сказителями-певцами («аэдами») из поколения в поколение задолго до Гомера. Сами эти сказания до нас не дошли, но, начиная с V века до н. э. (т. е. уже много позже Гомера) их тексты, сохранившиеся в неполном и разрозненном виде, были собраны различными греческими авторами — Аполлонием с Родоса, Аполлодором из Афин, Квинтом из Смирны, Арктиносом из Милета и другими — в виде нескольких коротких поэм, повествовавших об отдельных эпизодах Троянской войны, не фигурирующих в «Илиаде» и «Одиссее». Так, «Киприя» Арктиноса Милетского излагала предысторию этой войны; «Малая Илиада» Квинта Смирнского заполняла промежуток между «Илиадой» и «Одиссеей», рассказывая о дальнейших событиях осады Трои — от смерти Гектора и до взятия города (гибель Ахилла; смерть Париса; изготовление «Троянского коня»); во «Взятии Трои» того же Арктиноса рассказывалось о падении троянской крепости, ее разграблении и судьбах ее жителей — царя Приама, его жены Гекубы, дочери Кассандры, вдовы Гектора Андромахи и Елены Прекрасной; поэма «Возвращения» была посвящена истории возвращения греческих героев на родину и судьбам некоторых из них. Следует заметить, что, не будь этих поэм, мы бы не знали сегодня множества знаменитых и красочных деталей, которые ныне у всех на слуху, — ни рассказа о «суде Париса» и похищении им прекрасной Елены (с чего, собственно; и началась вся Троянская распря), ни истории смерти Ахилла, пораженного стрелою в пятку — единственное уязвимое место на его теле, ли многих других; ибо, как уже сказано, ни одной из этих историй нет ни в «Илиаде», ни в «Одиссее». Тем не менее, несмотря на эту неполноту, именно «Илиада» и «Одиссея» являются самым главным и самым авторитетным источником наших сведений о Троянской войне. Объясняется это, прежде всего тем, что эти поэмы уже в древности обрели-статус величайшего произведения греческой культуры. Древние греки считали их чем-то, далеко выходящим за чисто литературные рамки: они учили и воспитывали на них своих детей, почитали как непреложный кодекс нравственности и зачастую даже руководствовались ими в своей практической деятельности. Влияние этих поэм на европейскую культуру последующих веков тоже было огромно. По их образцу было создано величайшее произведение римской литературы — поэма Вергилия «Энеида»; позднее они вошли в литературный кодекс византийской империи, где стали предметом углубленного изучения и комментирования; а еще позже, проникнув из Византии в Италию, оказали глубокое влияние на культуру Ренессанса. В Новое время, обретя благодаря многочисленным переводам даже более широкую популярность, чем Данте или Шекспир, они стали одной из важнейших основ всего классического образования многих поколений европейцев. Не удивительно, что отношение к этим великим поэмам приобретало порой настолько благоговейный характер, что их подчас даже отказывались признавать творением отдельного, пусть и гениального, человека — один немецкий филолог XVIII века выдвинул в свое время фантастическое предположение, что обе они, и «Илиада» и «Одиссея», были созданы посредством спонтанного «творческого выдоха» всего древнегреческого народа как целого. Достоверно известно, однако, что сами древние греки упорно приписывали создание обеих поэм одному конкретному человеку — слепому певцу Гомеру — и даже придумали этому человеку развернутую биографию, согласно которой он родился на острове Хиос в Эгейском море, много странствовал по Малой Азии, Египту и самой Греции и оставил потомков — так называемых гомеридов, взявших на себя задачу сохранения и распространения его поэзии. Еще более детальную (и более фантастичную) биографию Гомера придумал Геродот, который приписал ему несколько поколений предков и великое множество путешествий. Из всего этого единственно достоверным является то, что в более поздние века на острове Хиос действительно существовала гильдия или «школа» поэтов, именовавших себя «гомеридами» и исполнявших преимущественно произведения Гомера, которого они считали своим земляком. Какую позицию в этих спорах занимает современная филологическая наука? Она считает достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал эпический поэт по имени Гомер и что именно он сыграл ведущую роль в окончательном формировании «Илиады» и «Одиссеи» (составные части которых, возможно, существовали уже до него в виде устных поэм). Почему это «достаточно вероятно», станет ясно чуть далее. Пока же заметим вслед за специалистами, что, поскольку некоторые языковые приметы гомеровских поэм близки к особенностям ионийского диалекта древнегреческого языка, который был в ходу у жителей островов восточной части Эгейского моря, то и предание о хиосском происхождении Гомера могло иметь под собой реальную основу, поскольку Хиос относится к Ионическим островам. Многие специфические детали «Илиады» свидетельствуют, что ее автор был хорошо знаком с географическими и климатическими особенностями Хиоса, Родоса и других островов, а также близкого к ним малоазийского побережья. Он, например, упоминает о птицах, гнездящихся в устье реки у малоазийского города Эфес, о виде на горы, открывающемся с Троянской равнины, о северо-западных ветрах, преобладающих на Хиосе, и т. п. Таких восточноэгейских примет много меньше в «Одиссее», что, в частности, побудило Аристотеля высказать предположение, что эта поэма была написана Гомером в глубокой старости, а других исследователей — даже утверждать, будто она вообще приналежит иному автору (к тому же она совершенно отлична по жанру). Тем не менее современная филология и здесь пришла к выводу, что, при всех сомнениях, «Одиссея» была как минимум вдохновлена Гомером, а то и создана им самим. Однако время создания обеих поэм представляется сегодня несколько иным, чем в древности: определенные детали текста побуждают отнести «Илиаду» к концу IX, «Одиссею» — скорее даже к середине VIII века до н. э. А это означает, что они существенно моложе древних поэм «Эпического цикла». Тем не менее «Илиаду» и «Одиссею» нельзя противопоставлять этим поэмам. Как показал в 30-е годы нашего века американский филолог Малькольм Пэрри, поэтика «Илиады» и «Одиссеи» — это все же поэтика устного эпического творчества, и в этом смысле их создатель был прямым продолжателем традиции пред-. шествовавших ему эпических сказителей. Не случайно Гомер и сам применяет для определения поэта тот же термин «аэд», который в древности характеризовал этих певцов-сказителей. Но он. был весьма особым их продолжателем. В своих поэмах он далеко превзошел всех безвестных предшественников. Как показало изучение еще сохранившихся (на Балканском полуострове и в других странах) традиций устного эпического творчества, для поэтов-певцов и сказителей характерно создание сравнительно небольших «песен» (т. е. коротких поэм), каждая из которых содержит часто всего один законченный эпизод и исполняется (при подходящем случае и в подходящей обстановке) в один прием. Это опять же подтверждает сам Гомер, пересказывая в «Одиссее» две такие. законченные песни: одну — о любовном романе между богом Аресом и богиней Афродитой, другую — о придуманном Одиссеем «Троянском коне», — каждая из которых занимает примерно по 100 строк поэмы. Примеры таких же коротких поэм сохранились и в «Эпическом цикле». Так вот, по утверждению специалистов-филологов, главное и величайшее новаторство Гомера состояло в резком переходе от этих коротких песен к качественно новому поэтическому жанру — к монументальной эпической поэме, включающей десятки песен и многие тысячи строк (в одной «Илиаде» их более 16 тысяч). Это новаторство Гомера можно уподобить разве что столь же революционному прорыву последующих времен — изобретению романа как совершенно новой формы повествования. Громадность материала, который становился при этом доступен, широта возникавшей отсюда картины событий, их историческая и психологическая глубина не могли не произвести огромного впечатления на слушателей, привыкших доселе исключительно к коротким рассказам. Можно думать, что слушатели Гомера были столь же потрясены, когда этот неведомый им прежде слепой певец из вечера в вечер несколько дней подряд исполнял перед ними свое монументальное творение. Сам размах этого исполнения предполагал совершенно исключительные творческие качества нового певца, и не удивительно, что имя Гомера с такой силой врезалось в память народа. Не удивительно также, что устная эпическая традиция, достигнув в поэмах Гомера своего высшего, развития, достигла в них и своего естественного завершения: после Гомера петь «по-старому» стало практически невозможным. Произносившийся самим Гомером текст, скорее всего, был нестабильным и несколько менялся от выступления к выступлению. Это не удивительно, ведь, греки в те времена еще не знали письменности, ее широкое распространение началось, мы говорили об этом, лишь во второй половине VIII века до н. э. Но так как слушатели Гомера не обладали его памятью и способностями и в то же время хотели знать его «божественные» (как они их называли) поэмы от слова до слова, то можно думать, что уже с началом распространения греческой письменности начались попытки записи этих поЗм и постепенного приведения этих записей к одному стабильному («каноническому») варианту. Согласно некоторым древнегреческим источникам, уже в середине VI века до н. э., при афинском правителе-тиране Писистрате, «Илиада» зачитывалась по его приказу перед толпами, собиравшимися на площади около построенного тираном величественного храма богини Афины. Поскольку она именно «зачитывалась», то была, надо думать, уже записана, и итальянский философ Нового времени Джамбатиста Вико (1668–1744) даже предположил, что именно по приказу Писистрата поэмы Гомера и были записаны в первый раз и притом в окончательном, «канонизированном» виде, дабы предотвратить дальнейшую порчу этого «национального достояния» при устной передаче. Нам никогда не удастся узнать, так это или не так, потому что первый дошедший до нас (имеющийся в распоряжении ученых) список гомеровских поэм восходит всего лишь к X веку нашей эры — это копия византийского издания 860 года (оригинал его погиб), тщательно отредактированного и снабженного всеми накопившимися за столетия комментариями; копия эта хранится ныне в соборе св. Марка в Венеции и именуется «Венетус А». Каков же этот дошедший до нас текст? О чем он, собственно, рассказывает? Как выглядит в его передаче интересующая нас Троянская война? Оказывается, ее начало лежит за пределами этого текста. Только из поэм «Эпического цикла» (в передаче более поздних авторов) можно узнать, что война началась из-за спора трех богинь — Афины, Афродиты и Геры — за обладание яблоком с надписью «прекраснейшей», которое подбросила им богиня раздора Эрида (Эрис). Зевс велел отвести спорящих богинь в Троаду, к тамошнему принцу Парису-Александру, сыну троянского царя Приама, чтобы тот их рассудил, и Парис отдал яблоко Афродите, обещавшей ему любовь Елены Прекрасной, жены одного из греческих царей Менелая (этим «судом Париса» объясняется, кстати, почему в ходе последующей войны Афродита помогает троянцам, а Гера и Афина — грекам). Далее выясняется, что Парис, вдохновленный обещанием Афродиты, отправился в Спарту, во владения Менелая, и, пользуясь его отсутствием, соблазнил и похитил Елену, а затем привез ее в Трою, где его сестра, пророчица Кассандра, тотчас возвестила, что поступок Париса обрекает город на войну и гибель; Кассандре, однако, никто не поверил, ибо когда-то бог Аполлон, оскорбленный ее отказом ему отдаться, наплевал ей в уста — как раз для того, чтобы никто ей не верил. Однако пророчество Кассандры, увы, оказалось вещим. Опозоренный Менелай обратился к своему могущественному брату — микенскому царю Агамемнону — с просьбой помочь ему отвоевать Елену и отомстить, за унижение. Агамемнон, в свою очередь, обратился к царям других греческих городов, призывая их объединиться для похода на Трою, и его призыв нашел благожелательный отклик. В итоге в составе греческого воинства оказались все великие герои тогдашней Греции — прежде всего, разумеется, Ахилл, но также и Диомед, Филоктет, Одиссей, оба Аякса, «большой» и «малый», и многие-многие другие. (Их поименование вместе с перечнем приведенных каждым из них боевых кораблей и воинов составляет содержание т. н. «списка кораблей», помещенного Гомером в конце второй песни «Илиады». Вспомним у Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины…»). Главой похода был избран Агамемнон — как самый могущественный из всех. Начало похода обернулось для греков неудачно: Аполлон послал им некое знамение, которое прорицатели истолковали как намек, что война будет продолжаться 10 лет. Затем греческие войска по ошибке высадились много южнее Трои, потерпели позорное поражение в битве с тамошними царями, а на обратном пути вдобавок еще попали в бурю и с трудом добрались домой. Все это оттянуло подлинное начало войны (по одним источникам — на несколько месяцев, по другим — на добрых 9 лет), но, как бы то ни было, герои снова собрались и двинулись на Трою, на сей раз, предварительно принеся в жертву — чтобы задобрить богов — дочь Агамемнона Ифигению; этот эпизод позднее стал сюжетом многих трагедий. Высадившись на Троянской равнине, греки долго стояли у неприступных стен Трои, то и дело сходясь с троянцами в рукопашных схватках, где удача попеременно склонялась то на одну, то на другую сторону. Но вот в начале десятого года осады события обрели драматический оборот. Произошла бурная ссора между Агамемноном и Ахиллом: оскорбленный тем, что микенский царь отнял у него пленницу Брисеиду, гордый Ахилл, этот главный герой похода, отказался участвовать в сражениях и укрылся в своем шатре. Узнав об этом, троянцы вышли из города, навязали грекам бой и стали теснить их к гавани, где стояли на якорях греческие корабли. Греки в панике обратились за помощью к Ахиллу, но тот снова отказался выйти в поле, хотя и согласился послать туда своего побратима Патрокла. Но когда главный герой троянцев Гектор (еще один сын; царя Приама) убил Патрокла, обуянный жаждой мести Ахилл бросился наконец в бой и, в свою очередь, убил Гектора. Он устроил торжественное сожжение трупа Патрокла и намеревался уже предать позорному погребению останки Гектора, но прибывший в его шатер престарелый царь Приам воззвал к его состраданию и к чувству воинской чести и в конце концов буквально вымолил у него труп своего сына. «Илиада» начинается со слов: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» — то есть с эпизода ссоры Ахилла с Агамемноном, а кончается сценой сожжения останков Гектора в стенах Трои. Иными словами, ее действие занимает несколько считанных дней. О завершении войны (как и о ее начале), а также о дальнейших судьбах ее героев мы знаем все из тех же внегомеровских источников (в переложении главным образом Аполлодора и Аполлония), которые рассказывают о гибели Ахилла, сраженного стрелой Париса, о гибели самого Париса, о взятии Трои с помощью Одиссеева «Троянского коня» и расправе с уцелевшими сыновьями и дочерьми Приама (Кассандра становится наложницей Агамемнона, Андромаха — Неоптолема, Поликсену приносят в жертву на могиле Ахилла). Из тех же источников (а не только из «Одиссеи») становится известно, что во время возвращения героев из-под Трои многие из них погибли в буре, насланной богами в отместку за насилие, совершенное Аяксом Локридским над Кассандрой, — Менелай и Одиссей были унесены ветрами в дальние страны, где многие годы странствовали в поисках пути на родину; Агамемнон по возвращении в Микены погиб от рук собственной жены и ее любовника. Так что в целом Троянскому походу суждено было стать, как оказалось, последним великим совместным деянием древних греков и как бы ознаменовать собой завершение их древнейшей «героической эпохи»{8}. Наш пересказ может породить впечатление, что «Илиада» — это, в сущности, не столько рассказ о Троянской войне как таковой, сколько рассказ об одном ее небольшом эпизоде — о «гневе Ахилла», о том, как обиженный Ахилл сначала укрылся в своем шатре, не желая сражаться под началом Агамемнона, а потом силою обстоятельств был как бы «вытолкнут» снова на сцену боя, в центр событий. Это так и не так. С одной стороны, в центре «Илиады» действительно находится некий интересный, яркий и по-своему увлекательный эпизод, который в прошлом, до Гомера, вполне мог бы стать (а может быть, и был) сюжетом отдельной небольшой эпической песни. С другой стороны, по мере знакомства с тем, как излагает Гомер этот эпизод, становится все более ясно, что у него он служит скорее рамкой повествования, неким организующим стержнем, позволяющим исподволь и как бы вполне естественно вплести в рассказ события многих предшествующих лет войны, другие ее яркие эпизоды, впечатляющие характеристики ее главных героев и их взаимоотношений, а попутно и многое, многое другое — о людях, о. городах, о странах, о плаваниях, о богах, о пирах, о битвах и так далее, и так далее, иными словами — сделать из незамысловатого эпизода то художественное целое, что, собственно, и составляет литературу. «Гнев Ахилла», таким образом, оказывается мощным художественным средством, дающим автору возможность воссоздать гигантскую эпопею микенско-троянских времен. Типичная литература, этакая «Война и мир» трехтысячелетней давности или, если переиначить Белинского, «энциклопедия всей героической эпохи». И тут, после долгого отступления, мы возвращаемся наконец к обещанному разъяснению, почему современные специалисты считают достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал некий конкретный человек по имени Гомер, который был автором этой гениальной эпопеи. Специалисты-филологи говорят, что эта эпопея никак не могла быть продуктом некоего «коллективного устного творчества» — уже хотя бы потому, что ее продуманная «выстроенность», ее сюжетная и композиционная «организованность», ее «литературность», наконец, — все это неоспоримо свидетельствует об индивидуальном замысле. Почерк индивидуального гения безошибочно виден в том, с какой поразительной композиционной стройностью, как необыкновенно гармонично организован в «Илиаде» весь ее огромный материал, с какой продуманностью он расположен относительно объединяющей его сквозной сюжетной оси, как изобретательно поддерживается при этом его драматичная напряженность с помощью искусно вплетенных в сюжет многочисленных «отступлений в прошлое», играющих роль своего рода «сюжетных задержек», которые последовательно нагнетают у слушателей нетерпеливое ожидание триумфальной развязки (этот древний прием отлично знаком всем зрителям современных кинотриллеров и читателям современных детективов). В конце концов, ожидания, как мы уже знаем, разрешаются благополучно: Ахилл появляется из своего шатра, и «Илиада», как и положено триллеру, завершается своего рода мстительным хэппи-эндом — поражением троянцев и смертью Гектора. Патриотические слушатели Гомера, несомненно, жаждали этого возмездия. Может быть, они даже рукоплескали ему. Тем более что рассказ о последующей гибели самого Ахилла был расчетливо, иначе не скажешь, вынесен автором за скобки всей этой симфонической «романной» структуры. Однако, строго говоря, поэма не кончается на мстительной ноте. Подлинный конец «Илиады» — это плач Приама над убитым Гектором, плач, который смягчает даже сурового Ахилла, плач, в котором горькая и трагическая изнанка войны совсем по-иному высвечивает ее героическую красоту, незадолго до того воспетую тем же Гомером. Так что, в конечном счете, «Илиада» все-таки не завершается стандартным хэппи-эндом и не оборачивается банальным триллером. Пафос гомеровской поэмы куда шире и грандиозней, говорят специалисты. Созданная спустя столетия после конца «героической эпохи», она не просто отображала ее трагический закат: противопоставив его описанной перед тем с той же художественной силой картине величественного расцвета ахейской державы, объединенной под руководством могущественных Микен, она одновременно должна была заронить в душу слушателей тоску по этому былому величию, а заодно и по былому и утраченному единству. Может быть, высокий авторитет Гомера у потомков как раз и был вызван тем, что его рассказ позволял им предчувствовать и предвидеть новое единство вслед за «темными веками», отделявшими героическую эпоху от уже начинавшегося «ренессанса»? Таковы, говоря вкратце, основные выводы современной науки касательно личности Гомера. Однако, ограничившись этими выводами, мы, пожалуй, не приблизимся к ответу на вопрос, в какой степени можно доверять свидетельствам Гомера. Напротив, кое у кого сомнения в достоверности гомеровского рассказа, возможно, даже усилятся. В самом деле, скажет иной скептик, если даже современные специалисты подтверждают, что этот рассказ был сочинен, т. е. представляет собой художественный вымысел некоего автора, и вдобавок был подчинен не только художественным, но отчасти даже идеологически-патриотическим задачам, то можно ли ожидать, что такой рассказ будет исторически правдивым? А может быть, это всего лишь приятная для греческого слуха легенда? Знаем же мы, к примеру, такой, тоже авторский, поэтический роман — знаменитую «Песнь о Роланде», в которой гибель обыкновенного франкского рыцаря, павшего в засаде, которую устроили ограбленные им баски, преображена в героический национальный эпос о «великой битве» христиан… с маврами. Сомнения эти вполне естественны. Чтобы развеять их, нужно выяснить, как отвечает современная филология на вопрос о соотношении преображающего вымысла Гомера с реальной правдой греческой истории. Обратимся к филологии. >ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМА ГОМЕРА Вопрос о соотношении гомеровских поэм с исторической реальностью находится в центре так называемой «проблемы Гомера», споры вокруг которой продолжаются в филологической науке уже добрых полтораста лет. Мы уже говорили в предыдущей главе, что, по одной из версий, первый полный письменный текст этих поэм появился только во времена афинского тирана Писистрата (560–529 гг. до н. э.). Эта «Писистратова версия», выдвинутая итальянским философом XVIII века Джамбатиста Вико, была у него связана с весьма решительным утверждением, будто никакого Гомера на самом деле не было, а прозвище это (одни толкуют его как «слепой», другие — как «заложник») в действительности означало весь коллектив «аэдов», сказителей древних преданий, устно передававших разрозненные части будущей «Илиады» вплоть до писистратовых времен, когда она только и обрела благодаря записи вид единой поэмы. Хотя против этой гипотезы выступали уже многие современники Вико (Гете, например, Даже написал целый трактат, доказывая принадлежность «Илиады» одному автору), она возымела большое влияние, и первые серьезные филологические исследования, посвященные «проблеме Гомера», ставили своей главной целью разъять гомеровский текст на более мелкие куски, якобы принадлежащие различным более ранним устным сказаниям. Такой подход, рассказывают Л. Гиндин и В. Цымбурский в упоминавшемся мною (во вступлении) филолого-лингвистическом исследовании «Гомер и история Восточного Средиземноморья», основывался на господствовавшем поначалу в филологии XX века априорном представлении об устном народном эпосе как о совокупности «окаменевших» текстов, которые после своего создания передавались неизменными от певца к певцу и могли лишь «состыковываться» в готовом виде в более крупные поэмы. Считалось также, что сюжеты этих малых «первичных» текстов должны были быть крайне простыми, а поскольку Гомер начинает «Илиаду» с обещания рассказать о «гневе Ахилла» и затем то и дело нарушает это обещание многочисленными сюжетными отступлениями — в сущности, перебивает сюжет другими короткими рассказами, — такое построение казалось как раз подтверждением того, что «Илиада» является механической смесью «простых» первичных текстов. Был, дескать, в глубокой древности простенький рассказ об Ахилле и Агамемноне, построенный на традиционной формуле «обида — примирение», характерной для многих эпических сюжетов, и к этому рассказу постепенно присоединялись другие, побочные. Эта теория продержалась до 20-30-х годов нашего века. Затем, однако, в результате углубленного изучения эпических традиций, сохранившихся у некоторых балканских и азиатских народов, было выявлено, что от певца к певцу передаются не столько готовые тексты, сколько, скорее, «формульные конструкции» — набор традиционных сюжетов, канонизированных образов и ситуаций, словесно-ритмических формул и тому подобных «готовых наборов», с помощью которых каждый сказитель создает всякий раз заново рассказываемую им историю. Когда эта закономерность была проверена на материале поэм Гомера, оказалось, что и он самым широчайшим образом пользовался таким приемом. Один из исследователей подсчитал, что в некоторых частях его поэм — например, в зачинах и окончаниях речей героев или в характеристиках действующих лиц, — «формулы», от простейших до самых сложных, занимают около 90 процентов текста! Так, уже в первой песне «Илиады» предводитель. Троянского похода, микенский царь Агамемнон, именуется то «пространно-властительным», то «могучим», то «гордым могуществом», то «повелителем мужей»; а пройдя по всем 24 песням поэмы, можно обнаружить, что буквально для каждого из важнейших ее героев заготовлен набор из десятка и более таких характеристик, чередующихся в самом разнообразном порядке. Как ни странно, именно эта «формульность» гомеровской поэтики позволила М. Пэрри и А. Лорду выдвинуть утверждение, что Гомер был «индивидуальным автором внутри коллективной традиции». Это утверждение может показаться противоречивым, однако в действительности оно вполне логично. В самом деле, в том смысле, что некое эпическое сказание, каждый раз импровизируется данным певцом заново, оно действительно является его индивидуальным творчеством; но в том плане, что певец всякий раз использует общий набор элементов, присущий данной культуре и знакомый ее носителям, его произведение, несомненно, принадлежит к коллективному творчеству. Иными словами, Гомер, по мнению Лорда и Пэрри, был гениальным реализатором коллективного эпического канона. Такой точке зрения противостоял В. Шадевальдт, который в конце 30-х годов предложил изучать каждый эпизод. «Илиады» с точки зрения его функций в составе поэмы как целого и показал, используя этот подход, что гомеровская «Илиада» отличается от обычного эпоса наличием строго организованного единства. Ни один из ее эпизодов нельзя изъять, не нарушив общей связности поэмы. Композиция «Илиады» оказалась продуманной и структурно, и эстетически, а это возможно только в том случае, если текст всецело является авторским, то есть ближе к тексту, скажем, Вергилия, чем к песням неграмотных устных сказителей; это не просто реализация эпического канона, а творческое переосмысление его. Однако ведь и авторский текст может быть совершенно различным: грубо говоря, одни авторы создают близкие к подлинной истории романы-хроники, другие расшивают по исторической канве самые фантастические узоры. Что же создавал в этом смысле Гомер? Для суждения о соответствии гомеровских поэм исторической реальности войны ответ на этот вопрос имеет решающее значение. Здесь тоже имели место (и частично до сих пор продолжаются) ожесточенные споры: одни ученые — вроде Д. Пэйджа («История и «Илиада» Гомера», 1959) или Майкла Вуда («В поисках Троянской войны», 1986) — увлеченно утверждали, что «Илиаду» следует считать весьма или даже вполне надежным историческим источником, находя доказательства этого в данных современной археологии и лингвистики; другие, как влиятельный Майкл Финли («Троянская война», 1964), выражали изрядный скепсис в отношении историзма Гомера, находя в его творчестве многие черты сказки и мифа (достаточно вспомнить, что боги играют в «Илиаде» почти такую же роль, что земные герои, да и многие из этих героев описываются как дети богов). Но большинство филологов-гомероведов занимает в этом вопросе срединную позицию, которая совмещает оба указанных взгляда. С одной стороны, говорят эти филологи, эпос, в том числе и гомеровский, бесспорно содержит много мифических и сказочных элементов, поскольку он вырастает, ведет свое начало из мифа и сказки. Тем не менее эпос все-таки отличен от мифа. Как объяснял, например, замечательный российский исследователь мифопоэтики Е. Мелетинский, миф рассказывает о временах «создания» мира и всех его существующих форм, тогда как эпос занимается прежде всего «ключевыми», «героическими» периодами народной истории — вспомним былины о Владимире Красное Солнышко, героизирующие историю Киевской Руси, или, скажем, «Песню о Нибелунгах», отражающую становление раннегерманского общества в том же духе героических сказаний. Во всех этих классических памятниках мировой литературы прошлое народа воплощается по одному и тому же «эпическому канону» — в героических образах и великих деяниях. Все подобные произведения, как правило, монументальны по размаху, и все они, как показывают исследования, представляют собой заключительную стадию развития эпоса — стадию перехода к индивидуальному творчеству. Таким же было, как мы уже знаем, и творчество Гомера. Что же можно сказать об историзме такого эпоса? Этот историзм представляется несомненным (ведь и древний Киев с князем Владимиром, и раннегерманское племенное общество, и другие коллективные герои национальных эпосов различных народов существовали вполне реально), но он весьма специфичен. Эту специфичность блестяще вскрывает характеристика, предложенная крупнейшим специалистом по древним религиям Мирчей Элиаде: «Память об исторических событиях и о подлинных персонажах меняется по истечении двух-трех столетий таким образом, чтобы их можно было подвести под шаблон архаического способа мышления, неспособного к восприятию индивидуального и удерживающего в памяти лишь образцовое, то. есть сводящего события к категориям, а личности — к архетипам». Иными словами, в эпической поэзии появление, былинных, сказочных, мифологических черт попросту неизбежно, но это нисколько не противоречит ее сущностной историчности, поскольку, с другой стороны, в ней непременно должны содержаться и некоторые подлинные, фактические приметы былой истории, которые устный эпос не мог не увлечь с собой в своем развитии, как те зерна, вокруг которых только и могли кристаллизоваться его «архетипы». Эти «зерна» невозможно извлечь средствами одного лишь филологического анализа тут требуется помощь археологии и лингвистики. Мы еще обратимся к показаниям этих наук по вопросу о Троянской войне, здесь же ограничимся лишь несколькими частными примерами, подтверждающими наличие несомненных отголосков исторической реальности в эпических поэмах Гомера. Так, средства современного лингвистического анализа, основывающегося на том, что известно сегодня о диалектах Древней Греции, позволили обнаружить в гомеровском тексте прямые заимствования из языка, на котором говорили за полтысячи лет до Гомера, в древних Микенах. Немецкий исследователь Рейх заметил, что часто встречающаяся в «Илиаде» поэтическая «формула», которую можно перевести как «сила Гераклова», не укладывается в размер гекзаметра, которым написана поэма, но если написать имя Геракла так, как оно, судя по лингвистическим данным, произносилось в Древних Микенах, это противоречие немедленно исчезает. Можно думать поэтому, что данная «формула» сложилась еще в микенскую эпоху и дошла до Гомера неизменной, несмотря на изменившееся произношение. Другое яркое свидетельство в пользу исторической достоверности «Илиады» приводит И. Вуд в своей книге «В поисках троянской войны». Речь идет о так называемом «списке кораблей» во 2-й песне «Илиады». Этот список представляет собой в действительности перечень 164 греческих городов, которые послали свои корабли с воинами для участия в общем походе на Трою. Его отличие от общего стиля «Илиады», неуместность в той части текста, где он находится, и определенные расхождения с остальным текстом поэмы настолько бросаются в глаза специалистам-языковедам, что некоторые исследователи уже давно заподозрили здесь инородную вставку, а Д. Пэйдж даже выдвинул увлекательную гипотезу, что это — подлинный документ времен Микен, своего рода воинская диспозиция, отражающая расположение участников похода во время сражения. Действительно, такие длинные, однообразные списки имен, названий, предметов и т. п. были весьма характерны для древности, для периода возникновения первых, еще пиктографических (т. е. рисуночных) письменностей (полагают, что эти письменности и возникли-то из-за необходимости составлять такие списки). Но в «списке кораблей» есть и другая любопытная деталь, глубокая историчность которой выявилась лишь в наше время благодаря новейшим данным археологии. Здесь упоминаются некоторые подвластные Микенам города, многие из которых во времена Гомера уже не существовали, превратившись в руины, — например, «ветреный Эниспе» или «песчаный Пилос». Как мог Гомер знать о самом существовании этих городов, не говоря уже об этих их особенностях? А между тем раскопки Шлимана и других археологов подтвердили все эти детали. Об историзме Гомера столь же убедительно свидетельствуют и его характеристики Трои. Если бы эпос не содержал крупиц исторической реальности, Гомер никак не мог бы узнать о слабости троянских стен в одном определенном их месте — ведь эти стены давно были погребены под вековыми отложениями. Между тем раскопки Дорпфельда показали наличие такой «слабины» именно в том месте, о котором говорит «Илиада»! Правдивыми оказались и гомеровские описания военного снаряжения, упоминаемые в описании сражений под стенами Трои. Некоторые нестандартные детали этих описаний, вызывавшие недоверие историков, — например, шлем Гектора, украшенный полоской «медвежьих зубов», или «подобный башне» щит большого Аякса, — были впоследствии найдены на изображениях микенского времени, обнаруженных в ходе раскопок Шлимана, Эванса и др. Наличие и обилие всех этих реальных свидетельств далекого прошлого вынудило даже такого убежденного скептика, как М. Финли, признать, что «Илиада» во многом верно воссоздает картину жизни Древней Греции времен расцвета Микен и Трои. Подытоживая, можно сказать, что историко-филологический анализ гомеровских поэм, проведенный учеными XX века, несомненно, приблизил науку к решению загадки Троянской войны. Он показал, что «Илиада» правдиво отражает определенные исторические реалии далекого прошлого, а потому и описываемую в «Илиаде» Троянскую войну тоже может считать более или менее правдивым отражением исторической реальности. Требовать более решительного утверждения попросту нельзя. Филологический анализ не может доказать, что такая война действительно имела место. Как мы уже видели, славные войны и героические походы — одна из обязательных примет любого эпоса («категория архаического сознания», по определению Мирча Элиаде): такое сознание всегда мыслит прошлое в категориях славных войн и великих походов, независимо от того, происходили они в действительности и были ли они славными и великими. Поэтому реальность отдельных деталей — условие, хотя и необходимое, но еще недостаточное для убедительного вывода о том, что они некогда воевали друг с другом. Филологический анализ подводит к выводу о правдоподобии такой войны, но не дает и не может дать однозначных доказательств ее исторической реальности. Такие доказательства могут скрываться только в развалинах древних городов или в текстах древних рукописей. Обратимся поэтому к этим свидетелям истории — к памятникам и документам. >ГЛАВА 4 ТРОЯ И МИКЕНЫ Историко-филологический «суд над Гомером» не помог нам вынести однозначный вердикт касательно исторической подлинности или вымышленности описанной им в «Илиаде» Троянской войны. Реальность этого события может быть подтверждена или опровергнута только археологическими и лингвистическими изысканиями. Но любой археолог, который и впрямь вознамерился бы проверить правдивость гомеровского рассказа, тотчас оказался бы перед трудностью, которую выразительно охарактеризовал английский историк и писатель Майкл Вуд в своей книге «Поиски Троянской войны»: «В определенном смысле проблема историчности Троянской войны не очень изменилась со времен Фукидида, — пишет Вуд. — Гомер и мифы рассказывают нам некую историю; называемые ими места все еще существуют: некоторые из них демонстрируют явные признаки былой могущественности; другие столь же явно свидетельствуют о своей полной незначительности. Если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, как считал Фукидид, то как это доказать? Если вдуматься, Гомер рассказывает историю, в которую на первый взгляд, зная школьную историю Греции, действительно трудно поверить. Он утверждает, будто в XIV–XIII веках до н. э., т. е. чуть ли не за тысячу лет до той «классической эпохи», которую мы, собственно, и привыкли считать «Древней Грецией», здесь уже существовала могущественная цивилизация, охватывавшая почти всю территорию этой страны, включавшая в себя разбросанные по ней многочисленные города-царства во главе с Микенами и способная одновременно выставить в поход сотни боевых кораблей и тысячи воинов, как описывается в «Илиаде». В это трудно поверить еще и потому, что упоминаемые Гомером центры этой цивилизации: те же «богатые золотом» Микены, «крепкостенный Тиринф», «пыльный Πилос», «обильный стадами Орхоменос» и другие — уже в Гомеровы времена представляли собой крохотные, нищие городки, а то и просто груды развалин, да и вся греческая земля была не более чем полупустынным, нищим, безрадостным и необжитым пространством, где лишь предстояло спустя столетия подняться городам и крепостям, дворцам и храмам классической эпохи. Разумеется, Месопотамия или, скажем, Палестина тоже выглядели, еще и в XIX веке, пустынными, нищими и безрадостными, хотя, как мы знаем, за тысячи лет до того здесь действительно сменяли одна другую великие культуры. Но о тех культурах хотя бы свидетельствовали письменные памятники далекого славного прошлого, а единственным «доказательством» существования гомеровской «героической эпохи» был только рассказ самого Гомера да мифы и легенды весьма сказочного, скажем мягко, характера». Отыскать письменные памятники гомеровской «микенской цивилизации», изображенной в «Илиаде», нечего было и думать — еще и в начале XX века считалось, что письменность в Греции появилась не раньше, а то и позже Гомера, в VIII веке до н. э., то есть спустя добрых четыре-пять столетий после пресловутой Троянской войны. Стало быть, археолог, ищущий следы этой войны, мог уповать лишь на раскопки в тех местах, которые Гомер упоминал в связи с походом на Трою, — прежде всего, понятно, на раскопки самой «Приамовой» Трои и «Агамемноновых» Микен, но также, если повезет, — Орхоменоса, Тиринфа, Пилоса и многих других, что перечислены в пространном «списке кораблей» во второй главе «Илиады». Поскольку почти все эти города, как уже сказано, в виде развалин сохранились до нашего времени, обнаружить их местоположение не составляло особого труда. Вот как выглядел по состоянию на вторую половину XIX века примерный инвентарный список этого «гомеровского наследия». Открывала список, разумеется, Троя. Со времен Гомера ее приблизительное местоположение было известно всегда. Практически не было такой эпохи, когда бы современники не могли уверенно указать, где находится этот знаменитый город (что, кстати, в немалой степени подкрепляло их веру в правдивость гомеровского рассказа). С гомеровских времен и вплоть до эпохи Александра Македонского, то есть на протяжении пяти с лишним столетий, в Малой Азии, вблизи пролива Дарданеллы, существовал город, именовавшийся «Эллинской Троей», или «Новым Илионом», с величественным храмом Афины и протяженными стенами, которые, по преданию, включали в себя и останки стен Древней Трои. Чуть позже, примерно в 300 году до н. э., полководец Александра Лизимах построил южнее этой крепости новый город, назвав его Александрией Троянской; этот город (во всяком случае, его развалины) просуществовал до римских времен. Через шесть столетий после Лизимаха римский император Константин (тот, что сделал христианство официальной религией империи) построил на месте бывшей «Эллинской Трои» еще один город, который впоследствии получил название «Византийской Трои». Эта очередная Троя, в свою очередь, просуществовала несколько столетий. Ее развалины видны были даже тысячу с лишним лет спустя, во времена султана Бехмета (взявшего Константинополь). За эти тысячелетия (а от Гомера до Бехмета прошло как-никак две тысячи триста лет) Троя благодаря гомеровским поэмам превратилась в место настоящего паломничества — не было, кажется, такой исторически важной персоны, от Александра Македонского в 334 году до н. э. и до лорда Байрона в 1810 году н. э., кто не почел бы своим долгом лично приобщиться к древней славе этого места и произнести какие-нибудь подобающие ситуации слова. Александр Македонский, как утверждали его верноподданные биографы, нашел здесь (под алтарем храма Афины) меч «самого Ахилла», с которым отправился затем на завоевание Азии; Юлий Цезарь поклялся восстановить Трою и сделать ее столицей Римской империи; Константин Великий повторил эту клятву (что не помешало ему впоследствии перенести свою столицу на берега Босфора, в стратегически более важный Константинополь); и еще спустя тысячу с лишним лет упомянутый выше турецкий султан Бехмет, поставив ногу на указанную ему переводчиками «могилу Аякса», провозгласил, что, взяв Константинополь, он-де всего лишь отомстил грекам за разрушение Трои! Словом, Троя — как город, как населенное место — была несомненной исторической реальностью — уже с времен «классической» Греции и вплоть до недавней современности. Печальный факт, однако, состоял в том, что уже к началу XVII века развалины последней по счету Трои тоже были полностью погребены землей. Как писал тогдашний английский автор, «даже руины были уничтожены». Одной из причин тому было беспощадное время, другой — усердно помогавшие ему небольшие, но частые землетрясения, по сей день весьма характерные для этих малоазийских мест. В результате ТОЧНОЕ знание местонахождения «Приамовой Трои» было утрачено. Ее европейским искателям (а любителей искать ее всегда хватало) приходилось руководствоваться разве что указаниями «Илиады» и некоторых греческих мифров. Мифы эти, при всей их сказочности, содержали важные детали. Так, в одном из них (записанном в V веке до н. э. Аполлодором Афинским) рассказывалась «предыстория» гомеровской Трои. Жил будто бы некогда некий Илус, который заложил на западном берегу Малой Азии город Илион, он же Троя, окруженный мощными стенами и нависавший над самым проливом Дарданеллы, ведущим в Черное море и в Колхиду (от Дарданелл, надо думать, и название жителей Трои, которых Гомер зачастую именует «дарданцами»; впрочем, вполне возможно, что и наоборот: от жителей пошло современное название пролива). Илус якобы оставил свое Троянское царство сыну Лаомедонту, а тот, видимо, чем-то раздосадовал греков-ахейцев, потому что миф рассказывает далее, что великий Геракл, прервав, по разным «объективным причинам», свое участие в походе аргонавтов, решил навести порядок на берегах Дарданелл и предпринял поход против Трои. Поход оказался удачным для греческого героя и сокрушительным для Трои: Геракл сжег город, разрушил его стены, убил в рукопашной схватке царя Лаомедонта и посадил вместо него молодого Приама — того самого, которого в рассказе Гомера мы встречаем уже почтенным старцем с пятьюдесятью сыновьями, и двенадцатью дочерьми во дворце. Судя по этой детали, поход Геракла состоялся примерно за 2–3 поколения до Троянской войны (это значит: в XIV или, может быть, даже в XV веке до н. э.). Если довериться этому сказанию, из него можно извлечь весьма любопытные выводы. Самым важным в местоположении Трои было то, что она прикрывала — проход в Дарданеллы. Троянцы, таким образом, владели ключами к Черному морю. Это обстоятельство было крайне существенным. Поскольку греки издавна вели торговлю с народами на черноморских берегах (не случайно аргонавты искали золотое руно именно в Колхиде), свобода судоходства через Дарданеллы была для них, надо думать, весьма небезразлична; троянцы же эту свободу, видимо, пытались ограничить — в свою, разумеется, пользу. Это позволяет думать, что сказание о походе Геракла на Трою является одним из отголосков этой давней и длительной «борьбы за проливы» между греками и троянцами. Комментируя это сказание, Р. Грейвз («Греческие мифы», 1955, гл. 137) замечает, что «Лаомедонт, видимо, препятствовал греческим торговым экспедиция в Черное море, и приструнить его можно было, только разрушив город, владевший Дарданеллами». Не был ли, в таком случае, и следующий поход греков на Трою — тот, что описан Гомером, — еще одной такой «карательной экспедицией»? Как бы то ни было, всего сказанного еще недостаточно, чтобы найти, где в точности располагалась древняя Троя. Но, к счастью, есть ведь рассказ Гомера, а рассказ Гомера, надо сказать, в любом своем месте изобилует живыми, точными и зримыми деталями. И там, где Гомер описывает Трою, тоже так и видишь — могучие стены на высоком холме над равниной и две извивающиеся по ней реки (Скамандр и Симиос, ныне турецкие Медерес и Думрек Су), по которым корабли греков поднимаются почти к самым стенам;.так и слышишь вой бешеных ветров, бушующих над осажденным городом; так и ощущаешь жар, идущий от одного из бьющих под стенами источников, и ледяной холод, идущий от другого… — но здесь, пожалуй, лучше передать слово самому Гомеру (песнь 22-я, строки 145–153, сцена погони Ахилла за Гектором): «Мимо холма и смоковницы, Как он писал, этот слепой гений, три тысячи лет назад, вы только вслушайтесь: «…хладный, как град, как снег; как в кристалл превращенная влага»! Вернемся, однако, к скучной прозе. А скучная проза жизни состоит в том, что ни одно из этих поэтических указаний Гомера, увы, не помогает, оказывается, обнаружению Древней Трои. Злые колючие ветры никогда не прекращаются на всей равнине бывшего Скамандра (на это непрерывно жаловался потом в своих письмах с раскопок Генрих Шлиман); эта равнина действительно изобилует ключами, но двух таких, где. температура воды разнилась бы так сильно, как указывается в «Илиаде», ни одному искателю «Приамовой Трои», несмотря на все усилия, найти не удалось; а что касается кораблей, поднимавшихся по реке к самой крепости, то за прошедшие тысячелетия воды в этих местах отступили так далеко от прежних берегов, что ни один холм на равнине Скамандра (Мендереса) сегодня не имеет прямого выхода к морю. (Это, между прочим, было еще одной причиной упадка и разрушения последней по счету, «византийской», Трои.) Иными словами, стоя на Троянской равнине и оглядываясь кругом, можно сказать только, что Древняя Троя погребена, по-видимому, где-то в толще какого-то из многочисленных окрестных холмов, да вот беда — неизвестно какого. Иное дело Микены. Здесь в точном местонахождении древнего города не приходилось сомневаться. Даже в наше время стоит выйти из автобуса, приволокшего тебя по извивам дорог из далеких и шумных Афин в тишину курчавых гор Арголиды, как нетерпеливому взгляду тотчас открываются (точно такие, как представлял) — зубцы древних стен, охватывающие заросшую вершину крутого холма, а в тех стенах — знаменитые Львиные ворота, на удивление невысокий проход, охраняемый двумя вставшими на задние лапы безголовыми каменными львами. Знаменитое, древнее, почти «знакомое» место — только разве что неожиданно невзрачное и стесненное, как на нынешний туристский вкус. Только размах соседствующей с развалинами громадной пещеры, именуемой «гробницей Атридов», один лишь и способен, пожалуй, примирить ворчливого туриста с потерей целого дня в утомительной поездке. Почти в таком же жалком виде «Агамемноновы» Микены находились уже в гомеровские времена: древнегреческий историк Фукидид, описывая (в V веке до н. э.) город под таким названием (тогда это еще был город, а не сегодняшние развалины), называл его «небольшим», сообщая, что на битву под Фермопилами тогдашние Микены выставили всего 40 человек! Впрочем, уже через несколько столетий и этот жалкий городок исчез, превратившись в развалины, и уже во II веке н. э. историк Павсаний с удивлением размышлял: неужто эти руины и есть великая столица Агамемнона? Почти две тысячи лет спустя, в 1876 году, Шлиман увидел руины Микен в точности такими, какими их описывал Павсаний. То же самое можно сказать и о других древних «царских столицах», упоминаемых Гомером. В тех же местах, на Пелопонесском полуострове (это, кто не помнит, юго-западная оконечность материковой Греции), вплоть до наших времен поближе к морскому побережью были видные уцелевшие остатки поистине циклопических укреплений гомеровского «крепкостенного Тиринфа». А в срединной Греции, вблизи Афин, можно было увидеть развалины некогда «богатого стадами» Орхоменоса. Несколько хуже обстояли дела с «песчаным Пилосом», еще одним центром воспетой Гомером «микенской цивилизации». Хотя город с таким названием существует и сейчас, на западном берегу Пелопонесса, но недаром у греков издавна была в ходу поговорка: «После Пилоса был еще один Пилос, а рядом еще один»; города с таким названием сменяли в этих местах друг друга неоднократно, так что найти погребенные в земле руины самого древнего из них, гомеровского, тоже было непросто. Шлиман, во всяком случае, ошибся, начал искать Пилос. не там, ничего, естественно, не нашел и в досаде прекратил раскопки. Только перед самой Второй мировой войной Карлу Блегену удалось отыскать «настоящий» древний Пилос. Проведя эту беглую «инвентаризацию руин», мы можем лишь, кажется, воскликнуть вслед за другими скептиками: «Да действительно ли существовала, и притом уже в той баснословной, покрытой мраком забвения древности, то бишь в XIV–XIII веках до н. э., — та могущественная «микенская цивилизация», которую изобразил Гомер в своей «Илиаде»? Да неужто уже в те «варварские», по греческим меркам, времена этот невзрачный ныне городок Микены был столь могуществен и влиятелен, что мог организовать общегреческий — многолюдный, многокорабельный и многолетний — поход против Трои?» Пыльная скудность всех этих развалин способна, скорее, убедить лишь в обратном. Как я уже заметил, мы не окажемся одиноки в своем скептицизме. Этот вопрос задавал себе еще Фукидид, удивленный неприглядностью современных ему Микен, и из его текста видно, как он буквально заставлял себя поверить в правоту Гомера: «Верно, Микены. — небольшой город, и многие города того периода выглядят сегодня не очень внушительно, но мы… не имеем права судить города по их внешнему виду, а не по их реальному могуществу.» Весь вопрос, однако, как раз и заключался в том, существовало ли в описанные Гомером времена это «реальное могущество». И здесь нам остается лишь вернуться к уже процитированным словам Майкла Вуда: «В определенном смысле проблема… не очень изменилась со времен Фукидида — если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, то как это доказать?» Специалисту, историку, ученому и впрямь очень трудно найти это зерно. Он знает, что когда-то, примерно за две тысячи лет до нашей эры, Греческий полуостров заселили дикие племена, пришедшие откуда-то из глубин Малой Азии или Балкан; что и после этого здешние земли раз за разом становились добычей очередных завоевателей-варваров, последними из которых были вторгшиеся с севера (примерно в 1100 году до н. э., много позже предполагаемых времен Троянской войны) племена дорийцев; что затем в истории Древней Греции наступил многовековой провал, который ее собственные (более поздние) летописцы назвали «Темными веками»; и что из этого своего беспамятства Греция вышла на свет истории лишь в начале VIII века до. н. э. — скудно заселенной, бедной, безграмотной страной, самый великий тогдашний поэт которой, Гесиод, сочинял свою (ныне знаменитую) философско-мифологическую поэму «Теогония», в изнеможении бредя за буйволом, медленно тащившим железный плуг по нищей борозде. Величие того, что мы сейчас называем «Древней Грецией», лежало далеко впереди Гомера и Гесиода, и какой же грамотный историк решился бы (без всяких тому фактических подтверждений, на основании одних лишь поэм Гомера) всерьез утверждать, что еще большее величие Греции лежало далеко позади, за бездной «Темных веков», еще до вторжения дорийцев, в некой «героической эпохе» некой «микенской цивилизации»? Уже тогда разговоры о «великих исчезнувших цивилизациях» (о которых к тому же зачастую и по сей день утверждается, будто они намного превосходили цивилизации современности) вызывали у всякого серьезного ученого определенную интеллектуальную неловкость. Не случайно ведь педантичный немецкий историк XIX века Г. Гроте начал свою «Историю Греции» лишь с Олимпиады 776 года до н. э., с первого греческого события, о котором есть надежные письменные свидетельства: «Все предшествующие времена, — писал он, — это область поэзии и легенд». К счастью для науки, за поиски Трои и Микен взялся любитель-дилетант, который не был серьезным ученым и потому верил в правдивость этих «легенд». Этим смельчаком, как всем сегодня известно, был Генрих Шлиман. >ГЛАВА 5 ШЛИМАН: ОТКРЫТИЕ МИКЕНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Существуют, две биографии Генриха Шлимана. Согласно первой из них, любящий отец (протестантский пастор) подарил семилетнему сыну толстую книгу «Всеобщая история», содержавшую пересказ «Илиады», и тем самым навсегда заронил в маленького Генриха мечту отыскать описанную Гомером Трою. Дальнейшее общеизвестно: разбогатев на деловых операциях, Шлиман решил осуществить свою детскую мечту, сменил сюртук бизнесмена на блузу археолога, отыскал, согласно указаниям Гомера, в которые он свято верил, старинный холм, в толще которого скрывались остатки древней Трои, и — раз-два! — обнаружил там ее развалины. Затем он примерно тем же способом (раз-два!) нашел в развалинах Микен гробницу древнего царя Агамемнона, руководившего, согласно Гомеру, походом греков на Трою, и тут уж его слава стала поистине всемирной, но в это время он как-то неожиданно умер — упал прямо на улице и в одночасье скончался. Лет его жизни, как говорилось в старину, было 68 — с 1822-го по 1890-й. Существует вторая биография Шлимана, не столь — лубочная, как первая. Шлиман, несомненно, заслужил звание «отца археологии», как некогда Геродот — «отца истории», но это не отменяет того факта, что его методы раскопок были ужасны и разрушительны, а датировка — приблизительна и, как правило, ошибочна. Он был неутомим и самоотвержен в археологическом труде, но окружал свои находки шумной и отталкивающей рекламой, достойной скорее бизнесмена, каким он и был, нежели ученого, каким он не был. Он был одарен потрясающей интуицией, но начисто лишен вкуса (чего стоила напыщенная телеграмма, отправленная им в греческие газеты с раскопок в Микенах: «Сегодня я взглянул в лицо Агамемнона»!). Его жизнь была полна удивительных коммерческих подвигов (дерзкие, на грани закона, деловые операции в России, спекулятивная скупка золота у старателей Калифорнии, монополизация порохового рынка во время Крымской войны и другие хищные налеты на легкую добычу), но он еще вдобавок и сам приукрашивал и расцвечивал ее собственным вымыслом (своему отцу, запойному пьянице и мелкому семейному тирану, он писал уже в зрелом возрасте: «Я рассказал журналистам, что это ты впервые познакомил меня с историей Трои и с тех пор я начал мечтать о том, как я ее отыщу…» — словно наставляя престарелого родителя в своей придуманной «на продажу» биографии). Он оставил по себе 11 толстых книг о своих открытиях, 18 путевых дневников, 60 тысяч писем и 175 томов раскопочных тетрадей, но исследователи до сих пор не могут понять, где факт, а где вымысел в этой огромной массе материала. Например, в своей книге «Троя» он рассказал почти детективную историю о том, как во время раскопок Трои его жена, гречанка Софья, приметила в глубине траншеи полускрытое землей золотое ожерелье и как ей пришлось прикрыть его своей длинной юбкой, пока Шлиман не уговорил рабочих разойтись на обед, чтобы скрыть от их завистливых глаз поразительную находку, составлявшую, как оказалось, лишь ничтожную часть богатейшего клада, который впоследствии получил название «сокровища царя Приама». Однако куда более поразительным, чем эта находка, многие тогдашние недруги и нынешние биографы считают тот факт, что в действительности (это доказано вполне надежными документами) Софьи Шлиман в это время не было не только на раскопках, но и вообще в Турции! Был даже пущен слух, что «сокровища Приама» Шлиман купил на стамбульском рынке и сам подбросил в траншею. Доказать или опровергнуть это не удалось: после того как Шлиман тайком от турецкого правительства вывез сокровища в Грецию, основная их часть бесследно исчезла. Сохранились лишь немногие фотографии и среди них самая знаменитая — Софья Шлиман «в диадеме и ожерелье Елены Прекрасной»{9}. Знакомясь с этим списком претензий, начинаешь удивляться — что же все-таки сделал этот человек, которого обвиняют в том, что он чуть ли ничего не сделал? Шлиман сделал великое дело. До него вся так называемая «археология» состояла в том, что сотни любителей искали в старинных развалинах зарытые там сокровища или случайно сохранившиеся старинные, рукописи и предметы искусства; в лучшем случае они составляли описания развалин и собирали то, что лежало на поверхности. Шлиман был первым, кто стал вести планомерные и целенаправленные раскопки, и притом с серьезной научной целью — найти следы древней цивилизации, обнаружить не столько ее клады, сколько ее историю и культуру, проверить рассказы древних об их далеком прошлом. Эти первые широкие поиски материальных свидетельств прошлого и породили всю современную научную археологию как исследовательское орудие историков. Спору нет, они породили также и то, что можно назвать «сенсационной археологией» — ту ее глянцево-приукрашенную, облегченно-газетную версию, что то и дело возбуждает читателей во всем мире открытием какой-нибудь очередной гробницы Тутанхамона. Но в науке главным достижением Шлимана является все-таки не находка «сокровища Приама» или «маски Агамемнона», а обнаружение «Приамовой Трои» и «Агамемновых Микен» — впечатляющее «воскрешение из мертвых» необыкновенно сложного и многоцветного мира, погребенного в глубинах прошлого. Напомню: к началу работ Шлимана наука о человеческой истории находилась в самом зачаточном состоянии; даже термины «палеолит» и «неолит» были придуманы лишь за несколько лет до того, а первая книга о древней истории (Вильсон: «Предысторические анналы») появилась только в 1851 году; но уже тридцать лет спустя Р. Даукинс имел все основания говорить: «Археологи подняли изучение древностей до уровня настоящей науки». И кто же ее поднял на этот уровень за столь короткий срок? Вот именно — Генрих Шлиман в первую очередь. Пусть поначалу дилетантски-грубо, с неизбежными издержками, с ошибками и преувеличениями, но именно он (и поначалу в одиночку) проделал всю или почти всю работу по превращению археологии в науку, — и первый шаг к этому он сделал в 1868 году в Турции, на холме Гиссарлык. Я уже рассказывал, что множество холмов на Троянской равнине оспаривало честь быть хранилищем остатков Древней Трои, подобно тому, как множество городов Древней Греции оспаривали в свое время честь считаться родиной Гомера. Главными фаворитами были Гиссарлык, находившийся на самом краю плато, обрывавшегося к равнине Мендереса-Скамандра, и лежавший несколько дальше в глубине плато Бурунбаши. Шлиман мог бы ошибиться в своем выборе места раскопок (как он впоследствии ошибся при поисках Пилоса), но, на его счастье, сопровождать уважаемого гостя в экскурсии по Трое вызвался большой знаток тамошних мест и по совместительству американский консул в этой провинции Оттоманской империи Франк Кальверт. Этот незаурядный, судя по воспоминаниям, человек тоже интересовался древностями и даже предпринял некогда пробные раскопки на Гиссарлыке. Заложенная им траншея была неглубока и коротка, но и этого хватило, чтобы убедиться, что холм содержит несколько «культурных слоев» (следов существовавших здесь когда-то одно за другим и одно над другим поселений). Под влиянием Кальверта Шлиман решил искать Трою именно на Гиссарлыке{10}. Свои раскопки он начал в 1871 году. К концу третьего года работ Шлиман вскрыл пять последовательных культурных слоев, один под другим, и убедился, что каждый из них представлял собой останки сменявших здесь друг друга древних городов. К сожалению, будучи дилетантом в предпринятом им новом деле, Шлиман приказывал рабочим вести траншею напрямик, сквозь все препятствия, и в результате разрушил попутно многие более поздние останки. Позднее он оправдывался: «Поскольку моей целью было раскопать Трою, которую я ожидал найти в одном из самых нижних слоев, я был вынужден разрушить руины в слоях более высоких». (Как теперь известно, он попутно разрушил руины и той Трои, которую искал.) Тем не менее во втором снизу слое на глубине 15 метров (по нынешней нумерации, это Троя-2) он обнаружил более или менее «гомеровский» элемент: развалины большой крепостной башни. В марте 1873 года в этом же слое были найдены остатки мощеной улицы, покрытые толстым слоем разноцветного пепла (пепел — это пожар, а пожар — это война!), а также развалины двух больших ворот, заваленных обломками. И, наконец, несколько позже, под самый конец сезона, здесь же были раскопаны и знаменитые «сокровища Приама» — золотая «диадема Елены Прекрасной», как тотчас назвал ее Шлиман, собранная из 16 тысяч золотых звеньев, и множество других золотых украшений{11}. Все это убедило его, что он отыскал заветную цель. Да и как иначе: укрепления, сокровища, а главное — пепел! Пепел — это пожар, а пожар — это война, не так ли?! И какая же, если не Троянская? С момента сенсационной публикации всех этих гиссарлыкских открытий за Шлиманом прочно укрепилась слава «человека, который нашел Трою». В каком-то смысле это было справедливо, потому что он действительно нашел «точное местоположение» этого древнего города. Однако ту Трою, которую он искал — гомеровскую, «Приамову» Трою, — найти оказалось значительно труднее. Шлиман поторопился, объявив ею найденную им Трою-2. Это отождествление сразу вызвало у специалистов серьезные сомнения: Троя-2 была слишком мала по размерам (всего 100*80 метров), а грубость и примитивность ее строений никак не соответствовала пышным описаниям Гомера. Шлиман, правда, пытался убедить скептиков (а заодно, наверно, и самого себя), что «Гомер был эпический поэт, а не историк; к тому же он видел Трою через 300 лет после ее разрушения», но и сам не мог не согласиться: «Если Троя действительно была таким небольшим по размерам городком, то несколько сот человек могли взять ее за несколько дней, и тогда всю «Троянскую войну» пришлось бы признать полным вымыслом…» Эти сомнения заставили его вскоре вернуться на Гиссарлык. И еще не раз вернуться. В промежутке, однако, он совершил поистине «кавалерийскую атаку» на Микены, которые Гомер описал как столицу Агамемнона, возглавлявшего Троянский поход. Как и на Гиссарлыке, он руководствовался здесь буквалистским прочтением свидетельств древних авторов — в данном случае историка II века Павсания. В своем описании Микен Павсаний утверждал, что гомеровский Агамемнон был похоронен внутри стен древней крепости. Поскольку сохранившиеся к XIX веку стены Микен охватывали очень малое внутреннее пространство, недостаточное для размещения пышных царских гробниц, все исследователи считали, что Павсаний имел в виду какие-то другие, наружные, более протяженные стены, которые, видимо, разрушились еще в старину (останки таких стен были, действительно, найдены при последующих раскопках, уже после Шлимана). Но Шлиман, читавший своих древних наставников буквально, начал раскопки именно в пределах сохранившихся стен, с внутренней стороны Львиных ворот. Слой обломков, заваливших здесь бывшую крепостную площадь, был в несколько метров толщиной; Шлиман, не задумываясь, приказал своим рабочим вымести этот слой и проложить через расчищенное место горизонтальную траншею. Стоит ли говорить, что он опять нашел то, что искал! Раскопки почти сразу вскрыли поразительное сооружение — ряд вертикально поставленных плоских каменных плит, образующих кольцо диаметром метров в тридцать. Площадка внутри этого круга явно была выровнена еще в древности, и на ней, вкопавшись до самого скального основания, рабочие обнаружили входы в пять вертикальных округлых колодцев-гробниц. Эта площадка впоследствии получила название «первого круга гробниц». Но главное состояло в том, что в этих гробницах были обнаружены сохранившиеся с глубокой древности останки девятнадцати мужчин и женщин и двух детей. Их скелеты были буквально погребены под грудой бесчисленных золотых украшений и предметов; на лицах мужчин были золотые маски, черты которых повторяли черты их лиц; тела были покрыты доспехами из золотых листьев; на женщинах были золотые браслеты и диадемы; вокруг лежали мечи и кинжалы с изумительными изображениями батальных и охотничьих сцен, кубки и чаши с тончайшими рисунками и многое-многое другое{12}. Что должен был подумать человек, наизусть знавший Гомера, увидев эти богатейшие захоронения? Мы точно знаем, что подумал Шлиман, потому что сохранилась телеграмма, посланная им в тот же день греческому королю: «С огромной радостью спешу известить Ваше Величество, что я нашел гробницы, представляющие собой, согласно рассказу Павсания, захоронения. Агамемнона, Кассандры, Евромедона и их спутников, которые были убиты во время пиршества Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом». Традиция, идущая от Гомера, действительно утверждает, что великий микенский царь, руководитель Троянского похода Агамемнон по возвращении домой был предательски убит на пиру вместе со своими приближенными и наложницами, в том числе Кассандрой и ее двумя детьми, а в найденных им гробницах Шлиман действительно обнаружил скелеты нескольких мужчин, а также женщин и двух детей, так что у него были все основания для восторженной телеграммы, но, как и в случае с Троей-2, он опять оказался не прав. Его датировка была ошибочной: как выяснилось позже, найденные им скелеты, по меньшей мере на 300 лет были старше предположительной даты Троянской войны. Доказательство реальности Троянской войны опять ускользнуло, но зато обнаружилось нечто иное, и, быть может, намного более важное. В самом деле, если уже за триста лет до пресловутой Троянской войны цари Микен (а внутри стен наверняка находились гробницы царей) располагали такими богатствами и их хоронили с такой пышностью, то лучшего доказательства могущества и величия Микенского царства трудно и желать. Более того, как показал впоследствии американский археолог профессор Алан Вэйс, руководитель многолетних систематических раскопок в Микенах в 30-е годы XX века, останки, найденные Шлиманом, в действительности принадлежали людям разных эпох и в совокупности покрывали время от XVI до XIII века. А это уже позволяло утверждать, что Микены, как и говорил Гомер, на протяжении ряда столетий действительно были центром богатого и мощного государства, а возможно, и всей тогдашней греческой цивилизации. Но Шлиман нашел и другие, хоть и более мелкие, но крайне важные подтверждения правдивости рассказа Гомера. На некоторых золотых украшениях были изображены те самые загадочные «башнеподобные» щиты, прикрывавшие тело воина с головы до пят, которые у Гомера принадлежали «большому» Аяксу и подобных которым в гомеровские времена уже не было. В другой гробнице была найдена золотая чаша с двумя ручками в виде голубей, очень похожая на описанную Гомером в «Илиаде» чашу героя Нестора, а также шлем с гребнем из медвежьих зубов: дословное описание такого шлема содержится в 10-й главе «Илиады». Даже сдержанные историки были потрясены: казалось, гомеровские герои явились перед их глазами живым воплощением слов Гомера. Однако, как ни сенсационны были эти находки, для развития археологии как науки куда более важными оказались многочисленные образцы древней посуды, найденные Шлиманом в Микенах. До того, в Трое, он находил лишь отдельные черепки каких-то непонятных эпох. Обилие найденной им теперь керамики впервые позволяло специалистам произвести более или менее точную датировку этих эпох путем сопоставления микенских черепков с остатками аналогичной посуды, обнаруженной в других местах Средиземноморья, прежде всего — на раскопках в Египте, хронология культурных слоев которого благодаря обилию и детальности письменных памятников известна весьма точно. Детальная разработка этого метода датировки заняла еще многие годы, но в конце концов ее принципы были установлены достаточно прочно, что позволило со временем заложить основы надежной микено-троянской хронологии. Шлиману не суждено было воспользоваться этим методом. Его уверенность, что он нашел гробницу Агамемнона, оставалась непоколебимой и подвигла его продолжить поиски «микенской цивилизации», на сей раз — в Орхоменосе, том самом, о котором Ахилл у Гомера говорит: «Даже ради богатств Орхоменоса не соглашусь». Подобно останкам Микен, развалины Орхоменоса (с огромной гробницей, некогда описанной все тем же Павсанием) сохранились на виду, и Шлиман быстро произвел там разведывательные раскопки. Золота он, однако, не обнаружил, других сенсационных находок тоже (если не считать очередного обилия черепков), и уже через несколько недель прервал работу; единственным ее результатом было обнаружение удивительного сходства гробницы в Орхоменосе с гробницей в Микенах (позднее была высказана гипотеза, что их строил один и тот же архитектор). Из Орхоменоса, лежавшего к северу от Афин, Шлиман направился к развалинам древнего Тиринфа, расположенного к югу от Микен, почти у самого берега моря («крепкостенный Тиринф» у Гомера, откуда под Трою пришел царь Диомед со своими воинами: «Осмьдесят черных судов под дружинами их принеслося». Циклопические стены этого города тоже сохранились с древних времен и не могли не привлечь внимание Шлимана. Свои раскопки в Тиринфе Шлиман начал в 1884 году, на сей раз вместе с архитектором Дорпфельдом, и участие этого молодого человека, который впоследствии вырос в серьезного, самостоятельного археолога, оказалось весьма существенным: именно Дорпфельд помешал Шлиману проложить траншею, которая наверняка бы уничтожила таившийся под обломками средневековой византийской церкви древний царский дворец. В результате вмешательства Дорпфельда дворец был раскопан неповрежденным, что позволило впервые воочию узреть многие детали замечательной дворцовой и крепостной архитектуры XIV–XIII веков до н. э. Они опять оказались предельно совпадающими с описаниями Гомера, и Шлиман не замедлил оповестить мир о своем очередном сенсационном открытии: «Я извлек на свет великий дворец легендарных царей Тиринфа, — писал он, — и отныне до конца времен никто не сможет опубликовать книгу о древнем искусстве, не упомянув о моем открытии». После Тиринфа Шлиман предпринял еще несколько попыток: следуя путями гомеровских героев, он безуспешно искал местонахождение «Менелаевой Спарты»; затем пробовал копать в упоминаемом Гомером «песчаном Пилосе» царя Нестора, но, как я уже говорил, ошибся в местоположении древнего города и ничего существенного не нашел; и, наконец, несмотря на огромную усталость («Я испытываю огромное желание до конца моих дней устраниться от раскопок…»), решил снова «копнуть» в любимой Трое. Он уже был тут несколько раз в промежутке между раскопками в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе, Пилосе и каждый раз находил что-то новое и неожиданное. Но все эти открытия не приносили ему того удовлетворения, которое он так хорошо имитировал в своих победных реляциях на публику. Его продолжали одолевать сомнения. Возражения скептиков разъедали его уверенность. Он возвращался и снова искал — искал доказательств, которые бы окончательно и однозначно убедили скептиков (и его самого), что найденная им Троя-2 — это действительно «Приамова Троя». И вот теперь он решил возвратиться сюда снова — поискать еще раз. Кто ищет, тот, как известно, всегда найдет. Хотя, конечно, не всегда то, что ищет. >ГЛАВА 6 «ПРИАМОВА» ТРОЯ — ВТОРАЯ, ШЕСТАЯ, СЕДЬМАЯ? В сознании широкой публики слава Шлимана как «первооткрывателя Трои» связана с его сенсационными открытиями 1871–1873 годов — раскопками в Трое-2 и обнаружением там «Приамового сокровища». Но, как мы уже сказали, среди специалистов оставались многие, кто весьма скептически относился к Шлиманову отождествлению Трои-2 с гомеровской Троей. Сомнения, как мы тоже уже говорили, были и у самого Шлимана; вот почему в промежутках между раскопками в Греции — в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и Пилосе — Шлиман неоднократно возвращался на Гиссарлык. Первый раз он вернулся в 1878–1879 годах, — но единственным результатом этих двух раскопочных сезонов было лишь открытие еще одного, самого глубокого культурного слоя. Судя по находкам, этот слой принадлежал к далеким доисторическим временам и к гомеровской Трое отношения не имел. Еще через два года, в 1881-м, Шлиман объехал верхом на лошади самые дальние окрестности Гиссарлыка, словно отыскивая другие возможные места раскопок, но ничего подходящего не нашел и в 1882 году снова вернулся на Гиссарлык, на сей раз вместе со своим новым помощником Дорпфельдом. И вот тут, наконец ему улыбнулась удача. Продолжив раскопки в Трое-2, он обнаружил новые признаки существовавшего здесь в древности укрепленного города — еле заметные следы кольцевых стен, почти стертые временем остатки мощных бастионов, а главное — развалины обширного здания, напоминавшего царский дворец. Вкупе с прежними находками в том же слое это делало Трою-2 куда более соответствующей описаниям Гомера, и Шлиман не замедлил известить своих друзей и недругов: «Моя работа в Трое завершена окончательно. Я доказал, что в глубокой древности на, этой равнине находился большой город, разрушенный страшной катастрофой и в точности отвечающий гомеровскому описанию…» Увы, победоносное извещение и теперь оказалось преждевременным. В 1889 году Шлиман с Дорпфельдом в очередной раз вернулись на Гиссарлык, чтобы расширить раскопки Трои-2, и почти сразу же наткнулись на обескураживающий факт. Заложенная ими новая траншея вскрыла следы еще одного дворцового зала, в помещениях которого оказалось множество остатков посуды микенского («Агамемнонова») типа, но, увы, культурный слой, в котором располагался новонайденный дворцовый зал с его посудой, оказался шестым, считая снизу, то есть намного более поздним, чем Троя-2. Если Шлиман был прав и Троя-2 была, как он утверждал, гомеровской, то кому тогда принадлежали дворец и посуда Трои-6? История не знала на этом месте более поздних городов с такими дворцами, да и посуда не соответствовала более позднему времени. Если же гомеровской была новонайденная Троя-6 (на что могли указывать дворец, а главное, датировка посуды), то, что же тогда нашел Шлиман в Трое-2? Все здание троянской датировки Шлимана вдруг заколебалось, и стало понятно, что без новых раскопок не обойтись. Шлиман назначил эти работы на следующий, 1891 год, но ему уже не суждено было вернуться на Гиссарлык — в том же году он скоропостижно умер после неудачной операции застуженного на раскопках уха: свалился прямо на улице, парализованный и утративший речь, был доставлен в больницу для бедных и через несколько часов, не приходя в сознание, скончался. Польский писатель Генрих Сенкевич, случайно оказавшийся свидетелем отправки его тела домой, в Афины, позднее писал: «Хозяин отеля подошел ко мне и спросил: «Знаете ли, вы, кто этот господин? Нет? Это великий Шлиман!» Бедный «великий Шлиман»! Подумать только — откопать Трою и Микены, заслужить, бессмертную славу у людей и так вот умереть…» Шлиман, несомненно, заслужил эту бессмертную славу как первооткрыватель Трои и, что еще важнее, микенской цивилизации, но «настоящую», гомеровскую Трою он, как вскоре выяснилось, не опознал. Установил это Дорпфельд. В 1893 году, получив от Софьи Шлиман средства на продолжение раскопок, он вернулся на Гиссарлык, заложил огромную кольцевую траншею, вокруг найденных им (в последних раскопках со Шлиманом) остатков дворца в Трое-6 и почти немедленно обнаружил останки стен, намного более грандиозных, чем все, что нашел Шлиман в своей Трое-2. Продолжая раскопки, он нашел еще целый ряд строений, некогда составлявших тот же город, — сначала остатки пяти больших, неплохо сохранившихся домов аристократического типа, затем еще нескольких сильно поврежденных зданий того же характера и, наконец, развалины могучего крепостного бастиона в северо-восточной части стены. Особенно важным было то, что повсюду в этом слое обнаруживались черепки посуды точно того же типа, что нашел Шлиман в Микенах и Орхоменосе. К этому времени уже было доказано, что такой тип посуды производился исключительно в греческих («микенских») городах XV–XIII веков до н. э., и это означало, что на Гиссарлык она могла попасть лишь из Греции; иными словами, Троя-6 имела давние и длительные — по крайней мере, с XV по XIII век — контакты с городами «микенской цивилизации». В этот промежуток времени попадала любая предположительная дата Троянской войны; а если еще добавить, что, судя по некоторым приметам, гибель Трои-6 сопровождалась тяжелыми разрушениями: крепостные стены во многих местах были повреждены, здания и дворец еще хранили следы пожара, то общий вывод напрашивается как бы сам собой: именно этот город, Троя-6, а не Троя-2, и мог быть искомой гомеровской Троей. Теперь настала очередь Дорпфельда публиковать победные реляции. Сообщая о своих находках, он писал: «Долгий спор о реальности Трои и ее местоположении пришел к концу… Шлиман оправдан… Вид крепости был несомненно знаком певцам «Илиады»…» (Шлиман, надо думать, был оправдан в том смысле, что подлинная Троя оказалась именно там, где он ее искал, хотя и не в том слое.) Дорпфельд мог бы добавить: вид крепости был Гомеру не просто знаком, а знаком детально. На одном из участков разрушенной крепостной стены раскопки вскрыли место, весьма напоминавшее то, где, по словам Гомера, «трижды Менетиев сын (Патрокл. — Р.Н.) взбегал на высокую стену»: камни здесь прилегали друг к другу так неплотно, что и турецкие землекопы, далеко не Патроклы, тоже запросто могли по ним подниматься. А в западной части крепостной стены Дорпфельд обнаружил слабо укрепленный участок, что опять же соответствовало рассказу Гомера, согласно которому Одиссей еще во время осады пробрался в осажденный город через слабину в западной части стены! Эти поразительные совпадения едва ли не более, чем всё остальное, побудили большинство исследователей согласиться с выводом Дорпфельда. Так, видный английский гомеровед Уолтер Лиф в своей книге «Гомер и история» писал: «Крепость (найденная Дорпфельдом. — Р.Н.) находится на том самом месте, где ее помещала гомеровская традиция». И продолжал: «Отсюда следует историческая реальность Троянской войны. Можно даже думать, что, по крайней мере, некоторые из героев Гомера тоже были реальными участниками той войны и носили те же имена, что у Гомера». Другим специалистам тоже казалось, что долгие поиски Трои наконец-то благополучно завершились. Но Троя и на этот раз приготовила своим искателям неприятный сюрприз. Примерно через сорок лет после Дорпфельда, в 1932 году, на Гиссарлык прибыл еще один продолжатель дела Шлимана — замечательный американский ученый Карл Блеген. К тому времени он уже был широко известен специалистам во всем мире своими тщательными раскопками в «микенских» городках материковой Греции — Коракоу, Зигурос и Просимна. Эти его работы (вкупе с новыми раскопками англичанина Алана Вэйса в самих Микенах) позволили окончательно завершить создание детальной и точной хронологии культурных слоев и стилей керамики, общих для всей микенской цивилизации. Теперь, возвращаясь вслед за Шлиманом и Дорпфельдом на Гиссарлык, Блеген хотел всего лишь проверить на основе этой хронологии их датировку культурных слоев многовековой Трои. Но неожиданно для него самого это «невинное» намерение повлекло за собой сенсационные результаты. В ходе дотошного (а это он умел!) изучения Трои-6 Блеген установил, что ее стены и дома были повреждены отнюдь не военным штурмом, а естественной катастрофой: в стенах и зданиях обнаруживались сдвинутые с места камни фундамента, а сдвинуть с места фундамент могло только мощное землетрясение. Вывод опять напрашивался сам собой: если Троя-6 погибла не в результате осады и штурма, то, значит, Троя-6 тоже не является гомеровской Троей! Точно так же, как Дорпфельд в свое время опроверг Шлимана, Блеген теперь опроверг Дорпфельда, и с убедительностью этого опровержения вынужден был согласиться и сам Дорпфельд, когда в 1935 году посетил раскопки Блегена. Но Блеген сделал и нечто намного большее. Поняв, что Троя-6 не может быть гомеровской, он стал искать следы гомеровской Трои в более поздних культурных слоях. Он проделал гигантскую работу по детальнейшей датировке всего Гиссарлыкского холма, от основания до макушки, и выявил в нем 11 культурных слоев, которые распадались на пятьдесят (!) подслоев. Два из них — 7а и 7б — располагались непосредственно над Троей-6, друг за другом, и, как оказалось, в одном из них, в подслое 7а, Блегена ожидали поистине сенсационные открытия. Прежде всего, он установил, что город, возникший на развалинах Трои-6 спустя примерно полвека после ее разрушения (Блеген назвал его «Троя-7а!»), был построен внутри тех же стен, что и Троя-6. Это означало, что многие из характеристик Трои-6, открытых Дорпфельдом, — участки стен, поврежденные штурмом, неплотно уложенные камни в том месте, где, по Гомеру, пытался взбежать на стену Патрокл, слабина в западной стене, могучие ворота и бастионы, даже характер посуды — все это относилось и к Трое-7а. Это означало также, что спустя полвека люди вернулись на развалины и отстроили свои жилища, но почему-то не стали восстанавливать разрушенные крепостные укрепления. Почему? Объяснение этого факта потребовало дальнейших раскопок, в ходе которых Блеген сделал еще более поразительные открытия. Изучая характер построек в исследуемом подслое, он установил, что постройки Трои-7а были куда бедней и примитивней, чем в непосредственно предшествовавшей ей Трое-6, раскопанной Дорпфельдом, но зато их было намного больше. Там, где раньше высилось лишь несколько элегантных зданий, группировавшихся вокруг дворца, теперь располагался запутанный лабиринт однокомнатных каменных строений, настоящих лачуг, явно построенных на скорую руку, как попало, вплотную друг к другу, в страшной скученности. Троя-7а мало походила на царственную Трою-6 — она, скорее, напоминала лагерь беженцев. Казалось, будто окрестные жители внезапно хлынули в разрушенный землетрясением город и наскоро стали строить жилища-времянки среди развалин, не имея ни времени, ни средств восстановить прежние здания и дворцы или залатать поврежденные крепостные стены. Более того, внутри многих лачуг, у входа, Блеген обнаружил следы некогда вкопанных в землю громадных, в человеческий рост, глиняных сосудов, в которых древние. обычно хранили съестные припасы. Впечатление было такое, будто жители не просто бежали за стены от какой-то внезапной опасности, но еще и ждали длительной осады — потому и собирали запасы продовольствия. Об «осадном положении» говорило и почти полное отсутствие в развалинах Трои-7а каких-либо следов импортной посуды или тканей — все находки были местного производства, как будто связи города с наружным миром были перерезаны. Свое последнее открытие Блеген сделал уже внутри жилищ Трои-7а. Их стены демонстрировали следы насильственного разрушения, там и сям обнаруживались куски обожженного дерева, под одной повалившейся стеной был найден человеческий скелет, в другом месте — человеческий череп, пробитый стрелой. Эти следы разрушения и гибели могли быть оставлены только войной. Взятые вместе, все эти находки выстраивались в связную картину: известие о приближении врага — торопливое бегство людей со всей округи под защиту крепостных стен — осада — штурм — взятие и разрушение города. По оценке Блегена, Троя-7а была взята штурмом не более чем через 50 лет после землетрясения и не позднее чем в 1240 году, т. е. «именно в тот период, — писал он, — когда микенские царства материковой Греции переживали самый высший расцвет и наверняка были достаточно могущественными, чтобы предпринять совместную военную экспедицию» (К. Блеген, «Троя и троянцы»). То же самое можно сказать й иначе: гомеровская Троя существовала — это была Троя-7а. Ошибка Дорпфельда была вполне извинительной: не имея в руках тех методов, которыми (40 лет спустя) располагал Блеген, он приписал Трое-6 те признаки, которые на самом деле принадлежали лежавшей буквально над ней, почти без перерыва, Трое-7а. Но основной вывод Дорпфельда был, по мнению Блегена, бесспорен. «Не может быть больше сомнения, — писал Блеген в той же своей книге, — что Троянская война, в которой коалиция ахейцев, или микенцев, сражалась с троянцами и их союзниками, была исторической реальностью… И Троя-7а, которая и должна быть признана настоящей Троей, была той самой крепостью, чья осада и штурм так врезались в память трубадуров и бардов, что они передали своим потомкам имена героев, сражавшихся в этой войне». В этом замечательном обобщении итогов всех трех стадий исследования Трои — шлимановской, дорпфельдовской и собственно блегеновской — есть только одна неточность: найденные Блегеном факты в действительности свидетельствовали лишь о разрушении Трои, но не могли служить доказательством, что этому разрушению предшествовала предварительная осада. Что, собственно, подкрепляло мысль об осаде? Только разве что вкопанные у входа в дома кувшины с продуктами? Но ведь и в Помпеях тоже были найдены такие кувшины, а Помпеи никто не осаждал, как известно. Не случайно один археолог (уже после раскопок Блегена) насмешливо заметил, что «разрушение Трои — это исторический факт, но ее осада — всего лишь возможность». Новый свет на вопрос о реальности осады Трои был пролит лишь спустя полвека, когда все герои нашего рассказа давно уже сошли с исторической и просто жизненной сцены. В 1988 году, ровно через 50 лет после завершения раскопок Блегена, на Гиссарлыке начала работать новая археологическая группа под руководством Манфреда Корфмана. В числе прочего она произвела широкую разведку в окрестностях Гиссарлыка и, в частности, к юго-западу от него, вблизи высокого могильного кургана конической формы Бесик-Тепе. Во времена «классической», послегомеровской Греции (с V века до н. э. и позже) этот курган считался «могилой Ахиллеса», и именно на нем в свое время позировали для истории персидский царь Ксеркс и великий Александр Македонский. А в наше время экспедиция Корфмана сделала здесь весьма важное открытие. Во-первых, было обнаружено, что именно здесь в XIII–XII веках до н. э. (то есть во времена предполагаемой Троянской войны) находился морской берег. А во-вторых, всего в нескольких метрах от тогдашней береговой линии было найдено захоронение XIII века до н. э., содержавшее около 50 камер-гробниц с прахом кремированных людей. В гробницах сохранилось множество погребальной посуды и других предметов греческого производства. Среди этих предметов были также камни, игравшие роль личных печатей микенских аристократов. Близость этого «греческого кладбища» к тому кургану, который греческая традиция упорно именовала «могилой Ахиллеса», а также к древнему морскому берегу была слишком красноречивой, чтобы быть случайной. Гомер («Илиада», 14:30) говорил о лагере, который греки во время осады разбили вблизи моря («Их корабли от равнины, где бились, далеко стояли // берегом моря седого…»); он говорил также, что здесь же, вблизи своего лагеря, греки хоронили героев, павших во время осады. Не нашел ли Корфман этот гомеровский лагерь? Тогда это однозначно доказывало бы историческую реальность осады города. Сам Корфман сформулировал свое мнение крайне осторожно: «Я могу лишь высказать интуитивное впечатление, что открытое нами кладбище в гавани Трои, скорее всего, относится к тем временам, когда происходила Троянская война». Любопытные находки были сделаны и в самой Трое. В южной части древней Трои-6 (и 7а, соответственно) экспедиция Корфмана обнаружила остатки шести домов с таким количеством микенской посуды, которое невольно порождало вопрос, не находилась ли здесь когда-то греческая торговая колония (доказано, например, что в Милете, много южнее Трои по берегу моря, такая колония действительно существовала). В таком случае захоронению, найденному Корфманом в Бесик-Типе, можно было бы дать и другое, более прозаическое объяснение — это могло быть, например, кладбище богатых микенских купцов, живших в Трое. Корфман и впрямь нашел признаки того, что Троя-6 была достаточно большим городом, далеко выходившим за стены той крепости, которую раскопали Дорпфельд и Блеген, и потому — особенно учитывая ее географическое расположение на берегах Дарданелл — вполне могла привлечь к себе внимание купцов из разных стран. Но ведь в той же мере и по тем же причинам она могла привлечь к себе и внимание хищных завоевателей! Уж очень многое в Трое-6 и 7а несло на себе следы чисто военных разрушений. На окончательный выбор могли бы существенно повлиять показания каких-нибудь «независимых» свидетелей тогдашних событий. Но были ли у гомеровских Микен и Трои современники и одновременно близкие соседи, которые могли бы оставить такие свидетельства? Как ни странно, были — и даже два: Крито-Минойское царство на западе и Хеттская империя на востоке. К ним мы и обратимся на этом последнем витке нашего исторического расследования. >ГЛАВА 7 КРИТ И МИКЕНЫ У Микен и Трои были два современника-соседа, и одним из них было Крито-Минойское царство. Заслуга его открытия принадлежит замечательному британскому археологу Артуру Эвансу. Подробный рассказ о работах Эванса увел бы нас далеко в сторону; ограничимся поэтому лишь тем, что непосредственно связано с загадкой Троянской войны. Эванс заинтересовался археологией Древней Греции под влиянием находок Шлимана в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и т. д. Ему казалось непонятным, что такая могущественная цивилизация, какой в результате раскопок Шлимана представала цивилизация Микен (ведь она простиралась чуть не на всю основную часть Греции), не оставила по себе никаких письменных памятников вроде тех, которыми засвидетельствовали свое существование Древний Египет или Шумерское и Ассирийское царства в Месопотамии. Эванс был убежден, что такие письменные следы микенского прошлого должны отыскаться, и его уверенность была подкреплена случайной находкой: в 1893 году, во время посещения Афин, некий торговец древностями предложил ему купить старинные камни с выцарапанными на них причудливыми узорами. По причине своей невероятной близорукости Эванс очень хорошо различал микроскопические детали и потому сумел разглядеть в узорах-царапинах явные следы некой системы. Он заподозрил, что это и есть разыскиваемая им микенская письменность. Однако на его вопрос, откуда камни, продавец сказал: «С Крита». Надо сказать, что Шлиман в свое время интересовался Критом и даже побывал в 1886 году в Кноссосе, что под Гераклионом, чтобы решить, не начать ли здесь свои очередные раскопки (ему это не удалось по весьма прозаической причине — турецкое правительство отказалось продать ему землю). Он с поразительной интуицией предвидел, что здесь может таиться нечто важное. «Я не буду поражен, если здешняя почва таит останки цивилизации, древность которой сделает Троянскую войну событием вчерашнего дня…» — писал он одному из корреспондентов. Разумеется, у шлимановой интуиции, как и у всякой иной, были вполне рациональные основания. Еще древние греческие мифы связывали с Критом начало науки, техники и архитектуры. Так, в знаменитом мифе о критском царе Миносе говорилось, что именно в Кноссосе легендарный архитектор, инженер и изобретатель Дедал построил царю дворец, а под ним — Лабиринт, куда был упрятан получеловек-полубык Минотавр, которого похотливая жена Миноса родила от совокупления с быком и который питался исключительно человечиной. Миф о Тезее рассказывал, как афинский герой Тезей пробрался в лабиринт, убил Минотавра и выбрался обратно с помощью нити Ариадны, дочери царя Миноса. Если верить мифу, этот подвиг Тезея избавил Афины от древней обязанности ежегодно отправлять в Кноссос человеческую дань. Если рассматривать эту легенду как отражение реальности в мифологическом сознании, она означает, что Афины, видимо, были подчинены Криту. Поэтому можно думать, что могущественное царство Миноса, владея множеством боевых кораблей, сумело подчинить себе и многие другие города — как на островах Эгейского моря, так и в материковой Греции. И действительно, в ходе своих раскопок в Микенах Шлиман нашел несколько предметов с изображением критского быка, что, собственно, и навело его на мысль, что между Микенами и Критом могла существовать древняя связь — не случайно же его любимый Гомер упомянул критского царя Идоменея в числе властителей, приславших, по призыву Агамемнона, свои корабли и воинов под Трою. Так что визит Шлимана на Крит был целенаправленным — он надеялся отыскать там следы древних крито-микенских связей. Эванс прибыл на Крит с другой целью — найти здесь следы «микенской письменности». Он быстро убедился, что камней с загадочными надписями, вроде купленного им в Афинах, здесь превеликое множество — местные женщины носили их на груди в виде амулетов и называли «молочными камнями». Но у местного археолога-любителя Калокаириноса он увидел еще более любопытный предмет — глиняную табличку, сплошь покрытую несомненными письменами. Калокаиринос нашел ее в ходе своих пробных раскопок в Кноссосе, когда проложенная им траншея вскрыла остатки обширного дворцового комплекса, стены которого были покрыты охровой краской, а полы завалены щебнем и обломками глиняной посуды. Прослышав о дворце, Эванс немедленно купил указанный ему кусок земли в Кноссосе (в отличие от Шлимана, ему это удалось, потому что к тому времени Крит уже освободился от турецкого владычества) и в 1900 году приступил к систематическим раскопкам. Первоначально весь его интерес сосредоточивался на поиске табличек; вскоре, однако, эти поиски отошли на второй план, поскольку первые же траншеи вскрыли богатейшие остатки какой-то могущественной цивилизации, значительно более древней, чем микенская (как и предсказывал за 15 лет до того Шлиман). Вскоре находки пошли сплошь и подряд: дворцовые залы с изумительными фресками на стенах, помещения с громадными сосудами, на которых были изображены сцены каких-то загадочных игр людей с бкками, статуэтки неизвестных дотоле богинь с обнаженной грудью, колонны и статуи, золотые украшения и множество обожженных глиняных табличек с отчетливыми письменами. Архитектура построек, характер живописи, детали росписей на сосудах — всё свидетельствовало о том, что открытая Эвансом культура не имела ничего общего с микенской и отличалась совершенно особым, индивидуальным характером. Постепенно усилиями других археологов, привлеченных Эвансом на Крит, выяснилось, что аналогичные дворцы, живопись, ритуалы существовали и в других районах огромного острова — на юге, в Фестосе, и на западе, в Мелии. Эванс назвал эту дворцовую культуру «крито-минойской» — в честь легендарного царя Миноса; по его убеждению, ее создателем был какой-то древний народ, возможно, пришедший на Крит из глубин Малой Азии. Современный греческий историк проф. С. Алексиу полагает, что это переселение людей из Малой Азии на Крит, на острова Эгейского моря и в материковую Грецию произошло примерно в середине третьего тысячелетия до н. э. Об общности раннего населения всех этих мест могут свидетельствовать общие для эгейских островов и Крита географические названия — Олимпус, Ида, Инатос и т. д. Возможно, географические названия с окончанием «-ос», столь многочисленные и на Крите, и в Греции — Коринфос, Кноссос, Фестос, Орхоменос, — распространились в это же время. В соответствии с нынешней хронологией, середина третьего тысячелетия до н. э. — это так называемый ранний бронзовый век{13}. Поскольку заселение Крита произошло, по теории Эванса — Алексиу, раньше, чем заселение материковой Греции, на Крите раньше возникли и предпосылки развития цивилизации. Контакты с близлежащим Египтом еще более ускорили это развитие. По мнению Эванса, около 2000 года до н. э. (т. е. в конце раннего бронзового века) лроизошло знаменательное событие: были возведены первые дворцовые комплексы в Кноссосе, Фестосе и Малии. Стала складываться «дворцовая культура». В ее основе лежало сельское хозяйство — не случайно все три дворцовых центра находились в самых плодородных районах острова. В 1700 г. до н. э., судя по археологическим данным, Крит постигла крупная естественная катастрофа, возможно — землетрясение. Однако она не прервала наметившегося развития: разрушенные дворцы были немедленно восстановлены, и последующий период стал временем высшего расцвета и могущества крито-минойского государства. Его колонии включали Теру, Родос, Карпатос, Мелос и другие острова Эгейского моря. То была «талассократия», или морская империя («таласса» по-древнегречески — море), опиравшаяся на силу своего обширного флота, равного которому не было во всем Средиземноморье. И вот в этом месте своих рассуждений Эванс подошел к. драматическому пункту: их логика с неизбежностью привела его к противоречию со Шлиманом. Дело в том, что во времена Эванса считалось, что микенская цивилизация, открытая Шлиманом, существовала в XIV–XII веках до н. э. Крито-минойская культура была явно древнее микенской — она достигла расцвета уже в XVII веке до н. э. Судя по раскопкам Эванса, она была также намного выше и изощренней: критские дворцы, архитектура, искусства, ремесла далеко превосходили все, что было найдено в материковой Греции того же времени. И вдобавок, по Эвансу, Крит с помощью своего флота контролировал все Эгейское море. Миф о Тезее утверждал, что критской власти подчинялись даже Афины. Напрашивалась мысль, что эта власть могла распространяться и на Микены с их городами. Иными словами, как бы сама собой складывалась гипотеза, что вся материковая Греция, включая Микены, была крито-минойской провинцией. Тогда некоторые приметы искусства и архитектуры, общие для обеих цивилизаций, можно объяснить тем, что дворцы в Микенах, Тиринфе, Пилосе и других центрах «микенской цивилизации», а также царские гробницы в этих городах принадлежали критским губернаторам и строились архитекторами с Крита, сосуды, утварь, оружие изготовлялись и расписывались критскими мастерами, а игры с быками и фигурки богинь были занесены критскими аристократами. Итогом этой цепи рассуждений неизбежно становился радикальный вывод: никакой особой «микенской цивилизации», на существовании которой настаивал Шлиман, не было вообще. Не удивительно, что от нее не осталось никаких письменных свидетельств. Письменность глиняных табличек — это не греческая, а крито-минойская письменность. А все найденное Шлиманом и его продолжателями в городах материковой Греции — это артефакты поздней крито-минойской культуры. Эта радикальная теория, выдвинутая Эвансом и получившая поддержку большинства историков и археологов начала XX века, столкнулась, однако, с определенными трудностями. Судя по данным критских раскопок, крито-минойская цивилизация, возникшая, по Эвансу, в 2000 году до н. э., просуществовала лишь шесть столетий. В 1420 году до н. э. (эта дата установлена достаточно надежно) какая-то загадочная катастрофа разрушила дворцы в Кноссосе и Фестосе, а с ними и все крито-минойское государство вообще{14}. Тем не менее, те же раскопки показали, что жизнь на Крите не угасла и после этого удара: дворец в Кноссосе был частично восстановлен, таблички продолжали писаться, хозяйство и торговля ожили и стали вновь развиваться. Это несоответствие требовало объяснения, и последователи Эванса его предложили. По их утверждению, города материковой Греции (Микены, Афины и др.), воспользовавшись крахом крито-минойской державы, освободились от власти критских завоевателей и сами, в свою очередь, завоевали и колонизовали Крит. Иными словами, подъем микенской цивилизации в XIV–XII веках до н. э. следовало представлять себе как восстание провинции против ослабевшей метрополии, — закончившееся ее подчинением. Но и при этом, говорили «эвансисты», Микены никогда не поднялись до тех высот, которых достигли в минойские времена. Второе несоответствие выявилось в результате раскопок 1930-х годов — А. Вэйса в Микенах и К. Блегена в Пилосе. И тот, и другой нашли в этих древних центрах микенской цивилизации глиняные таблички с точно такими же письменами, какие Эванс нашел на Крите. И тот, и другой нашли в своих раскопках такие исторические и культурные свидетельства, которые невозможно было уложить в Эвансову схему истории материковой Греции как критской колонии, населенной тем же народом, что и сам Крит. Одновременно с этими данными в печати появились в те же годы многочисленные работы лингвистов, филологов и историков, детально проанализировавших накопившиеся к тому времени данные о греческой «предыстории». Опираясь на всю совокупность этих новых данных, противоречивших теории Эванса, Вэйс и Блеген в совместной статье выдвинули альтернативную теорию. Согласно их историко-культурной схеме, материковая Греция была заселена носителями индо-европейского (древнегреческого) языка уже в конце раннего бронзового века, примерно с 1900 года до н. э., то есть тогда же, когда началось становление крито-минойской культуры на Крите, и эти же племена непрерывно населяли страну вплоть до падения микенской цивилизации около 1100 года до н. э., иными словами, много позже краха крито-минойского царства. Проще говоря, Греция всегда была греческой, ее (микенская) цивилизация и культура были автохтонными (местными и независимо возникшими), а не крито-минойскими, и именно ее (то есть древнегреческая, микенская) письменность была письменностью Эвансовых табличек. Наличие же общих культурных элементов объясняется просто культурными и торговыми связями этих двух цивилизаций. Эта гипотеза вызвала бурные возражения сторонников теории Эванса. Они заявили, что все аргументы Блегена — Вэйса являются косвенными; прямое отношение к спору имеют только найденные ими таблички с письменами, но как раз этой находке можно дать очень простое и естественное объяснение: либо эти таблички были оставлены в Микенах и Пил осе критскими купцами, либо микенские «варвары», завоевавшие Крит после 1420 года до н. э., вывезли к себе критские таблички, а может быть, — и уцелевших писцов-грамотеев. Сами же микенцы не могли создать ничего культурно значительного, тем более — самостоятельной письменности, поскольку их «цивилизация» была попросту последней, предсмертной «судорогой» великой крито-минойской культуры, а на своей последней стадии цивилизации, как и живые организмы, ничего нового создать уже не могут: творческий расцвет сопровождает молодость культур. Возникший спор имел прямое отношение и к интересующей нас загадке Троянской войны. «Шлиманцы» вслед за своим учителем (а также приведенные к этому собственными исследованиями) все более приближались к признанию исторической реальности этой войны. «Эвансисты» вслед за своим догматичным мэтром утверждали, что после краха «дворцовой культуры» Крита «варварские» города материковой Греции попросту не способны: были на такую далекую и трудную военную экспедицию. Поэтому никакой Троянской войны не было. А рассказ Гомера о ней, говорили «эвансисты» вслед за своим великим учителем, есть не что иное, как воскрешение критского мифа! Подтверждение или опровержение этого радикального тезиса требовало новых раскопок, но время для этого наступило самое неподходящее — грянула вторая мировая война, и Греция вместе с Критом были захвачены немецкими войсками. Единственным доступным полем исследований остались одни лишь критские и микенско-пилосские глиняные таблички. Только в их загадочных письменах могли теперь исследователи искать (и надеяться найти) решение жестокого и непримиримого спора между последователями Эванса и последователями Шлимана, а заодно, и возможные свидетельства «за» или «против» реальности Троянской войны. Задача была из труднейших. Ситуация казалась безнадежной. Неизвестны были не только знаки «глиняной письменности» — неизвестен был и язык, который скрывался за этими знаками: Вэйс и Блеген полагали, что это какой-то диалект древнегреческого (очень «древне» — времен расцвета Микен, XIV–XIII веков до н. э.), сторонники Эванса считали, что это никому неведомый «крито-минойский» язык. Тем не менее все эти трудности удалось преодолеть. Таблички заговорили. >ГЛАВА 8 ЛИНЕЙНОЕ ПИСЬМО Б Итак, Вторая мировая война прервала археологические исследования, которые могли бы пролить дальнейший свет на загадку Троянской войны. В распоряжении ученых остались лишь глиняные таблички с загадочными письменами, найденные Эвансом на Крите и Блегеном в Пилосе, неподалеку от Микен. Первых было около 4 тысяч, вторых — около 600 (перед самой войной Вэйс нашел еще несколько табличек в Микенах; позже они были найдены также в Тиринфе и Орхоменосе). Как уже сказано выше, по мнению Эванса, «коллективным автором» этих табличек был тот неведомый народ, что создал крито-минойскую культуру, а затем распространил ее по всему Эгейскому архипелагу и материковой Греции. По мнению сторонников Шлимана, этим «автором» были древние греки (гомеровские «ахейцы»): письменность глиняных табличек, утверждали они, была высшим достижением созданной ахейцами «микенской цивилизации». Расшифровка загадочных табличек могла решить этот спор, но на пути такой расшифровки стояло несколько затруднений, и первое из них состояло в том, что таблички распадались на целых три класса. Действительно, исследования Эванса выявили существование на древнем Крите трех последовательных стадий развития письменности. Примерно с 2000 по 1650 гг. до н. э., в эпоху складывания крито-минойской цивилизации, на Крите господствовало чисто «пиктографическое» (рисуночное) письмо, в котором каждый рисунок (звезда, солнце, рука, голова, стрела и т. п.) обозначал соответствующее слово или понятие. Табличек с таким письмом сохранилось очень мало, и произвести их расшифровку нечего было и думать. Следующий класс табличек датировался временами расцвета крито-минойской культуры (1750–1450 гг. до н. э.): здесь рисунки уже упростились до схематических, линейных очертаний, поэтому Эванс дал этой письменности название «линейного письма А» (почему «А», сейчас станет ясно). Этим письмом были, в частности, выполнены надписи на некоторых камнях-амулетах и бронзовых изделиях, найденных в различных местах острова. Расшифровка линейного письма А наталкивалась на ту трудность, что надписей, им выполненных, было не так уж много. Наибольшие шансы имела попытка расшифровки третьего, еще более позднего типа письменности, которая получила название «линейного письма Б». Появление табличек с этим письмом датируется примерно 1450–1400 годами до н. э., и хотя более точную границы установить не удалось (никогда нельзя исключить возможность, что более ранние тексты просто не обнаружены), но предположительная дата той великой катастрофы, что разрушила крито-минойскую цивилизацию (1420 н. до н. а, по Эвансу), как раз попадает в этот промежуток времени. Любопытно также, что почти все таблички с этим письмом были найдены только в одном месте на Крите — в Кноссосе — и что почти все они, по оценке ученых, относятся к периоду после разрушения Кноссоского дворца (общее число таких табличек, найденных в Кноссосе, составляет, как уже было сказано, около 4 тысяч). Крайне интересно, однако, что таблички, найденные Вэйсом, Блегеном и другими археологами в Микенах, Пилосе, Тиринфе и других местах материковой Греции, тоже выполнены исключительно линейным письмом Б и тоже относятся к периоду после 1450–1400 гг. до н. э. Дело выглядит так, будто начиная с середины — конца XV века до н. э., с момента своего появления, линейное письма Б является общим и для Крита, и для городов материковой Греции. По сравнению с предшествующим письмом А его знаки представляются еще более упрощенными (впрочем, в некоторых случаях, напротив, более вычурными), хотя и среди них еще встречаются очевидные пиктограммы (схематические изображения людей, животных, сосудов и т. п.). К середине XX века, когда лингвисты занялись изучением линейного письма Б, уже были прочтены памятники многих древних письменностей, начиная с древнеегипетской, ассиро-вавилонской и хеттской, и уже существовали мощные методы их расшифровки. Каждое новое продвижение в этой области происходило путем сопоставления новой, неизвестной письменности с уже расшифрованными. Как правило, дешифровка облегчалась тем, что исследователь знал либо язык, слова которого были изображены неизвестными знаками, либо значения знаков неизвестного ему языка — по их сходству со знаками уже известных. Но в случае линейного письма Б не были известны ни значения знаков, ни стоявший за этими знаками язык. О знаках было известно лишь, что их общее число — порядка восьмидесяти (эта цифра неточна, потому что распознавание различных знаков затрудняется многочисленными разновидностями и вариантами написания). Для лингвистов эта цифра, однако, содержала важную информацию. Она означала, что линейное письмо Б не алфавитное. В алфавитном письме каждый знак отвечает одной гласной или согласной, поэтому число таких знаков мало (22, 26 и т. п.). В то же время оно не могло быть и чисто рисуночно-иероглифическим вроде современного китайского, потому что для такого («идеографического») письма нужны тысячи знаков (в китайском их, например, свыше 50 тысяч). Стало быть, это было силлабическое, слоговое письмо, в котором каждый знак (кроме рисунков, а также числовых и вспомогательных значков) соответствует одному определенному слогу. Первые попытки дешифровки этого слогового письма основывались на упомянутом выше методе сопоставления его с какой-нибудь уже расшифрованной древней письменностью, имеющей сходные знаки. В данном случае сходные знаки обнаружились в так называемом «кипрском письме», найденном на древних табличках с острова Кипр. К этому времени «кипрское письмо» было уже расшифровано: было показано, что его знаки соответствуют отдельным слогам греческого языка. Однако прямая подстановка значений этих слогов под сходные знаки в критских табличках привела к полной абракадабре: отдельные слоги не собирались ни в какие осмысленные слова. Это говорило в пользу гипотезы Эванса, утверждавшего, что язык табличек не имеет ничего общего с греческим, а принадлежит тому неведомому народу, который создал крито-минойскую цивилизацию. В результате гипотеза о «крито-минойском языке табличек» обрела такой авторитет, что к ее оппонентам стали относиться как к еретикам. Даже такой знаменитый ученый, как профессор А. Вэйс, поплатился за эту ересь — руководство университета отстранило его на время от раскопок в Микенах. Не будем рисковать и поступим соглашательски — признаем, что знаки линейного письма Б изображают отдельные слоги неведомого «крито-минойского» языка. В таком случае мы оказываемся в тяжелейшем положении. Поскольку язык этот никому неведом, то неизвестны ни его слова, ни, естественно, их слоги, а стало быть, неизвестно, какие звуки подставлять под разные знаки табличек — нет никакой зацепки. Нужно найти хотя бы какие-то правдоподобные слова и их слоги, иначе нельзя даже сдвинуться с места. В поисках этих слов и слогов первые исследователи линейного письма Б стали обращать взгляды во все мыслимые и даже немыслимые стороны. Одни утверждали, что «крито-минойский» язык, скорее всего, не принадлежит к семейству индоевропейских, а потому может быть похож на современный баскский (поскольку баскский является единственным неиндоевропейским языком в нынешней Европе). Другие полагали, что он должен быть похож на древний этрусский (поскольку традиция утверждала, что этруски пришли в Италию с островов Эгейского моря, близких к Криту). Болгарский лингвист Георгиев объявил «крито-минойским» языком изобретенную им смесь греческого с элементами других индо европейских языков; его теорию энергично поддерживали в сталинском СССР. А пионер расшифровки хеттского языка чешский лингвист Б. Грозный, взявшийся на старости лет разгадывать поголовно все еще не расшифрованные языки, предложил свою трактовку крито-минойских линейных начертаний как произвольной смеси хеттских, древнеегипетских, протоиндийских и даже финикийских письменных знаков; эта гипотеза оказалась такой же бесплодной, как «расшифровка» Георгиева. Тем не менее не все попытки были одинаково безрезультатны. Среди них оказались и удачные. Так, А. Коули разгадал с помощью пиктограмм знаки, характеризующие девочек и мальчиков; Алиса Кобер опознала знаки, которые обозначают пол людей и животных, а также меняют форму слова, как при склонении по падежам (эти «падежные окончания» она нашла, обнаружив на табличках комплексы знаков (слова), в которых все знаки, кроме последнего, были одинаковы); Беннет, анализируя количество одинаковых фигурок в разных частях таблички, выявил знаки для системы счета. Но великую заслугу полной и окончательной расшифровки линейного письма Б нужно отнести, несомненно, на счет англичанина Майкла Вентриса. Этот молодой английский архитектор (в годы второй мировой войны — штурман самолета-бомбардировщика) увлекся загадкой критского письма еще в детстве, а первую свою работу по его дешифровке опубликовал уже в 1940 году в возрасте 18 лет. Поначалу, подобно многим другим, Вентрис предлагал на роль неизвестного языка табличек этрусский. Попытки в этом же направлении он продолжил и после войны и окончания университета. Однако в 1952 году после нескольких лет напряженных размышлений, интенсивных поисков и обширной переписки с другими исследователями он пришел к совершенно новой, революционной гипотезе, опробование которой очень быстро привело его к решающему прорыву. Невзирая на всё, сказанное выше, о нерушимом авторитете гипотезы Эванса, Вентрис рискнул предположить, что язык загадочных табличек не какой-то там «крито-минойский», а все-таки древнегреческий, только очень архаический его диалект — микенский, на котором говорили за 500 лет до Гомера. И действительно, оказалось, что стоит подставить под знаки табличек слоги этого диалекта, как сквозь беспросветную чащу линий и черточек начали проступать первые понятные слова. Каким же путем Вентрис пришел к своей гипотезе? Прежде всего, он опирался на достижения некоторых своих предшественников. Уже Эванс понял, что большинство текстов на его табличках — это хозяйственные списки: в них явно просматривались какие-то подсчеты и суммы. Как уже говорилось, среди линейных знаков текста отчетливо выделялись отдельные пиктограммы — изображения мужчин, женщин, лошадей, амфор, треножников, колесниц, колес и т. п., и это позволяло, понять, какие именно объекты подсчитывались. А.по значкам в итоговых суммах можно было угадать и систему счисления (это сделал Беннет). Выше я уже упоминал о других разгадках — знаках пола, возраста, падежей. Чтобы продвинуться дальше, нужно было прибегнуть к комбинаторике, и Вентрис начал с составления статистических таблиц: какова частота употребления каждого знака, какова частота его появления в начале, середине и конце слова и так далее. Это привело его к определенным важным выводам. Так, он заметил, например, что в начале слов преобладают три знака, под номерами 08, 61 и 38 (такими номерами Вентрис обозначил все различные знаки линейного письма Б в составленной им сводной таблице). Они появлялись также внутри слова, но почти никогда не встречались в конце. Вентрису было известно, что в слоговом письме слог, состоящий из отдельной гласной, редко появляется внутри слова, но часто — в его начале (это подтверждала, в частности, упомянутая выше кипрская письменность). Отсюда следовало, что подмеченные им знаки, скорее всего, означают гласные. Далее, знак 78 очень часто заканчивал слова в различных суммированиях однородных предметов (вроде: пять / рисунок кувшина / 78 шесть / рисунок кувшина / 78 и так далее), за которыми следовала общая сумма («равно тому-то»). Было разумно предположить, что знак 78 означает союз «и», заменяющий (очевидно, не известный критянам) знак «плюс»: «Пять кувшинов и шесть кувшинов и так далее равно такому-то числу кувшинов». В некоторых случаях Вентрису помогали ошибки писца: подметив, к примеру, что знак 28 очень часто исправлялся писцом на 38 (а на глиняных табличках эти замены были очень хорошо видны), он заключил, что соответствующие слоги, видимо, весьма близки (вроде сходства слов «то» и «до», которое действительно может приводить к частым опискам). Все эти догадки и предположения позволили Вентрису в конце концов составить таблицу знаков, в которой они были разделены на «предположительно гласные» и «предположительно согласные», а затем построить таблицу повторяющихся комбинаций тех и других. Некоторые из этих комбинаций оказались повторяющимися, причем одни из них наличествовали как в кноссоских, так и пилосских табличках, тогда как другие — только в тех или других. В известных к тому времени угаритских и других надписях Ближнего Востока такие повторяющиеся комбинации знаков обычно означали названия городов и групп населения. Вентрис сделал смелое предположение, что это верно и для его табличек. Тогда комбинации, присущие только критским табличкам, могли означать названия городов или местностей на Крите вблизи Кноссоского дворца. Одно такое «критское» сочетание — 70-52-12 — повторялось особенно часто, и Вентрис предположил, что эти слоги как раз и образуют слово Кноссос: «ко-но-со». Рядом с ним часто возникало сочетание 08-73-30-12, и можно было думать, что это слово (кончающееся на 12, т. е. тоже на «со») является названием какого-нибудь важного места вблизи Кноссоса; одно такое название было известно еще из Гомера: Амниос, близлежащая торговая гавань. В слоговом (древнем) написании оно должно было выглядеть скорее всего как «а-ми-ни-(о) — со», что позволяло определить написание еще трех слогов. Дальше Вентрис рассуждал так: согласно Коули, комбинации знаков для девочек и мальчиков — это 70–42 и 70–54; если 70 — это «ко», то оба слова имеют вид «ко-42» и «ко-54». В греческом языке среди прочих названий для мальчиков и девочек есть «корос» и «коре»; в ионийском диалекте Гомера «корос» звучит как «коурос», в дорийском диалекте — как «коруос»; быть может, исходным (древнемикенским) были «корвос» (а для девочек — «кор-ва»)? Это добавляет еще два слога в таблицу. Работа Вентриса, таким образом, отчасти напоминала решение кроссворда, где разгадка первых слов все более и более облегчает разгадку следующих, но лишь в том случае, если каждое очередное слово читать именно по-гречески («по-древнемикенски»). Тем самым вероятность того, что язык табличек — действительно древнегреческий, а не какой-то крито-минойский, постепенно усиливалась. К 1952 году Вентрис (работая теперь совместно с кембриджским специалистом по греческим диалектам Джоном Чадвиком) расшифровал слоговые значения почти всех знаков «линейного письма Б» и составил их сводную таблицу. Однако многие специалисты (в особенности ярые сторонники «крито-минойского» происхождения табличек) не верили в эту «греческую» расшифровку и требовали в качестве решающего эксперимента, чтобы Вентрис прочел с ее помощью незнакомый текст (т. е. текст, не использованный при составлении самой таблицы). И Вентрис блестяще справился с этой задачей: получив от Карла Блегена еще не опубликованную табличку из Пилоса и применив для ее расшифровки найденные им слоговые (греческие) значения знаков, он получил связный й осмысленный текст! После этого чтение табличек пошло полным ходом, и уже в 1956 году Вентрис и Чадвик опубликовали толстый том «Документов микенского греческого языка», где было собрано большое число расшифрованных ими к тому времени текстов. А через две недели после выхода этого главного труда своей жизни 34-летний Майкл Вентрис погиб в автомобильной катастрофе. >ГЛАВА 9 ХЕТТСКИЕ СОСЕДИ История расшифровки линейного письма Б бесконечно интересна сама по себе, но скажем честно: мы не стали бы ею так долго заниматься, если бы одна деталь этой истории не имела прямого отношения к интересующей нас загадке Троянской войны. Вот она, эта важная и далеко ведущая деталь. В строках глиняных табличек из Пилоса то и дело встречаются перечни рабов и рабынь, работавших в царском хозяйстве (кстати, термин для обозначения этих людей, «лавийяйи», произведен от того же слова «лавия», «добыча», которое употребляет Гомер в 20-й песне «Илиады», рассказывая о пленницах, захваченных Ахиллом: «…множество жен полонил и, лишив их жизни свободной, в рабство увлек»). Если вдуматься, эти упоминания о рабах и рыбынях отнюдь не удивительны — рабский труд составлял в те времена один из главных хозяйственных устоев всех империй и царств. Любопытней другое. Зачастую рядом со значками, обозначающими рабов, обнаруживаются слова, которые можно расшифровать как указание, где именно эти рабы захвачены. Например, один такой (особенно подробный) список из Пилоса насчитывает около 600 женщин и 700 детей рабского сословия, причем о части из них сказано: «Из Милета» («милатийяйи»), что свидетельствует о походах микенцев к этому городу, находившемуся на западном побережье Малой Азии: В другом месте читаем о рабыне родом из местности «Асийяйи», что сразу напоминает (специалисту, конечно) слово «Ассува» — тогдашнее название обширного региона на том же побережье, позднее трансформировавшееся в греческое название для всей Малой Азии — «Асия». А одна из таких «пленниц» в пилосском списке и вообще характеризуется как «То-ро-ва» — может быть, «из Трои»? Впрочем, подобные фонетические сходства следует толковать крайне осторожно. Не зная, по каким законам меняются со временем гласные и согласные в данном языке, а также как они меняются при переходе от языка к языку (а лингвисты уже обнаружили множество таких законов), очень легко попасть впросак и принять желаемое за действительное. Не будем поэтому торопиться и выделим лишь то, что является несомненным. Несомненным во всем ранее сказанном представляется тот факт, что перечисленные выше упоминания «микенских» табличек о рабах и рабынях, будучи сведены воедино, убеждают нас, что уже в XV–XIII веках до н. э. (пилосские таблички относятся именно к этому времени) микенские и другие цари Ахейи совершали довольно частые походы за «живым товаром» в Малую Азию (в район Милета и «Ассувы»). Этот вывод настолько важен для наших «поисков Трои», что немедленно возникает волнующий вопрос: подтверждается ли он какими-либо другими фактами? Оказывается, да. Оказывается, в ходе новейших археологических раскопок на западном побережье Малой Азии обнаружено уже более 25 мест, где бытовала в больших количествах микенская посуда XV–XIII веков до н. э. Места эти концентрируются в центральной и южной части побережья, вблизи Эфеса и упомянутого выше Милета{15}. Более того, установлено, что микенцы, видимо, составляли заметную часть постоянных жителей тогдашнего Милета (а также, возможно, и некоторых других малоазийских мест). Действительно, этот город, основанный критянами и долго, сохранявший связи с Критом, в какой-то момент, примерно в 1450–1440 гг. до н. э., что совпадает со временем захвата Крита микенцами, резко меняет свой облик: он перестраивается, в нем воздвигается крепость, строятся храм Афины и дома с типично греческими большими залами — «мегаронами» — и т. п. Аналогичные приметы греческого пребывания появляются в то же время в соседних малоазийских городах Эфесе, Книде и других, а также в других бывших критских владениях — на островах Родосе, Хиосе и Самосе, лежащих у побережья Малой Азии. Иными словами, все критское стало теперь микенским. Как говорится, «убил — и еще наследовал». Это делает понятным упоминания о рабах в пилосских табличках. Разумеется, владея столь многими опорными пунктами у берегов Малой Азии и даже на ее побережье, ахейцы вполне могли совершать с этого плацдарма не только спорадические, но и вполне регулярные вылазки за рабами и рабынями в глубь малоазийского полуострова. Все эти факты интересны и сами по себе, ибо рисуют картину микенской цивилизации XIV–XIII веков до н. э. как весьма внушительного по размерам и военной силе царства, территория которого включала не только материковую Грецию, но также многочисленные острова Эгейского моря и даже прилегающее к ним побережье Малой Азии. Мы уже видели такую картину — в гомеровской «Илиаде», разумеется, где же еще! — но на сей раз уже не нужно гадать, достоверна ли она, на сей раз исторический фон гомеровского рассказа подтвержден как точными данными археологии, так и показаниями критско-микенской письменности. Это крайне интересно. Но у перечисленных выше фактов есть и другой, не менее важный аспект. Наличие форпостов Микенского царства на берегах Малой Азии и его неустанные попытки проникновения в поисках «живого товара» все дальше и дальше в глубину полуострова неизбежно должны были приводить к столкновениям ахейцев с другим могучим царством, которое в те же времена доминировало в этих же местах, вплоть до Милета и Трои, — с государством хеттов, с Хеттской империей. А если так, то можно думать, что конфликты двух столь серьезных противников могли найти какое-то отражение в том или ином хеттском клинописном тексте — ведь хеттские цари, как мы сейчас убедимся, вели обширную и детальную документацию всех своих военных, дипломатических и торговых действий. Продолжая эту логическую нить, мы приходим к очередному важному выводу: не исключено, что искомые нами отголоски Троянской войны (которая вполне могла быть одним из таких малоазийских «территориальных конфликтов») тоже могут обнаружиться в каких-нибудь хеттских текстах XV–XIII веков до н. э. Этот вывод заставляет пристальней присмотреться к хеттам, к их истории и в особенности, как мы уже сказали, к письменным памятникам этой истории. Хеттское царство часто называют «забытым». Действительно, долгое время господствовало представление, будто главными действующими лицами на древней ближневосточной сцене были египтяне да ассирийцы. Хетты воспринимались в духе многочисленных упоминаний в Библии (в той её части, которая у евреев называется «ТАНАХ», а у христиан — «Ветхий завет» для христиан), где о них говорится в основном как об одном из второстепенных племен («Хиттим»), встреченных евреями, когда они вернулись из египетского рабства в Палестину: например, красавица Батшева (в современном произношении Вирсавия), так возбудившая любострастие царя Давида, была женой «Урии Хеттеянина», т. е. хетта. Лишь в двух местах ТАНАХа мельком говорится о «хеттейских царях». В действительности, однако, хетты были не столько «зат бытыми», сколько, скорее, «неопознанными» участниками ближневосточной истории. Когда археологи обнаружили в Карнаке и других местах Египта стеллы с отчетом о великой битве при Кадеше (1275 г. до н. э.), эта историческая роль хеттов сразу стала очевидной: выяснилось, что фараону Рамзесу II противостоял в этой битве не кто иной, как «Великий Царь Хатти», армия которого включала воинов «шестнадцати народов» и насчитывала 2500 боевых колесниц! «Узнавание» хеттов получило огромный толчок, когда в 1834 году на поросшем дикими колючками холме вблизи заброшенной турецкой деревеньки Богазкёй в, Анатолии были открыты развалины бывшей хеттской столицы Хаттусы. Остатки ее могучих стен позволяли думать, что когда-то они тянулись на добрых три-четыре километра в длину и, следовательно, заключенный внутри них город не уступал по размерам Афинам в пору их высшего расцвета; там и сям на холме еще сохранились следы высившихся здесь некогда огромных храмов, посвященных каким-то неведомым богам, остатки львиных фигур, украшавших громадные ворота, и обломки странных скульптур, покрытых иероглифами на неизвестном языке. Вскоре аналогичная крепость, хотя и меньших размеров, была раскопана в Каркемише, а иероглифы, аналогичные богазкёйским, обнаружились во многих местах Сирии и Северного Ирака, а также Центральной и Западной Турции. Стало очевидно, что хеттское государство занимало огромную по тем временам территорию и его влияние ощущалось от западного побережья Малой Азии до Северной Сирии и верховий Тигра и Евфрата; иными словами, по размерам и силе оно не уступало тогдашним Египту и Ассирии. Эти представления были подтверждены открытыми в 1887 году глиняными табличками из Тель-Амарны (Сирия), содержавшими переписку фараонов XV–XIV веков до н. э. с мелкими сирийскими и палестинскими царьками, в которой удостоверялась реальность хеттской гегемонии в этих местах задолго до битвы при Кадеше. Но главный свет на историю хеттов пролили найденные в 1906–1908 годах Винклером таблички из Богазкёя, общим числом около 10 тысяч, с текстами на восьми языках (хеттский, аккадский, шумерский и др.), что, кстати, красноречиво свидетельствовало о многонациональном характере хеттского царства. Хеттские тексты этих табличек были расшифрованы во время первой мировой войны и вскоре после нее, и пионером здесь был уже упомянутый нами чешский лингвист Бедржих Грозный. Благодаря этим текстам история хеттов известна сегодня во многих подробностях. К сожалению, даже самое краткое знакомство с ней не может обойтись без упоминаний царских имен, ибо только перечисление последовательных царствований позволяет хоть как-то сориентироваться в хеттской хронологии. Говорю «к сожалению», потому что имена этих царей, как это сейчас же станет очевидным, зачастую труднопроизносимы. Хетты говорили на языке индо-европейской группы, близком к языкам других жителей тогдашней Анатолии — лувийцев, ликийцев и т. п. (эти языки тоже теперь расшифрованы), и пришли в свои земли откуда-то с северных берегов Черного моря, по всей видимости, за две — две с половиной тысячи лет до н. э., но надежное знание генеалогии их царей начинается лишь с 1650 года до н. э. (отрывочные сведения о более ранних временах, содержащиеся в некоторых ассирийских источниках, имеют туманный характер). В 1650 году до н. э. на трон объединенного хеттского царства взошел Хаттусилис Первый, прославившийся завоеванием царства Алеппо в Сирии; ему наследовал его внук Мурсилис, завоевавший долину Евфрата вплоть до Вавилона, а затем, после продолжительных династических распрей, — потомки Мурсилиса: Телипинус, его сын Аллувамнас и ряд последующих, не очень точно известных правителей. Этот период называется «Старым царством»; он продолжался до начала XV века до н. э., когда на трон взошел Тудхалйяс (по-видимому, второй по счету с таким именем), открывший славную эпоху «Нового царства». В эту эпоху хеттская держава стала подлинной империей, т. е. конгломератом многих народностей — в ее состав входили около 20 крупных городов и 40–50 «земель» (небольших царств и отдельных полисов вроде Алеппо, Дамаска, Хацора, Тира, Сидона и т. п.). Около 1400 года до н. э. правителем этой империи стал Тудхалйяс Третий; около 1380 года его сменил Суппилулиумас (я предупреждал!); примерно в 1340 году до н. э. на трон взошел Мурсилис Второй, а около 1315-го — Муватталис, о котором нам еще придется не раз говорить; за ним правили Мурсилис Третий (1296–1289) и, наконец, Хаттусилис Третий (1289–1265); он, видимо, и был тем хеттским царем, который сражался при Кадеше. Особенно интересными с нашей, «троянской», точки зрения являются последние 70 лет существования хеттской империи — времена царей Тудхалияса Четвертого (1265–1235), Арнувандаса Второго (1235–1215) и Суппилулиумаса Второго (1215–1190 гг. до н. э.); они интересны для нас потому, что включают те годы, к которым античная традиция относит Троянскую войну, а археологи — пожар Трои-7а. Они были также последними в истории хеттов, потому что вскоре после смерти Суппилулиумаса Второго или даже при нем, примерно в 1190 году до н. э., в страну вторглись неведомые завоеватели, которые захватили и сожгли столицу Хаттуса (Богазкёй) и положили конец великой Хеттской империи. Перед тем, как задернуть занавес над ее историей, обратим еще внимание, что время гибели объединенного хеттского государства практически совпадает со временем столь же внезапной и столь же загадочной гибели объединенной микенской цивилизации (примерно 1200 год до н. э.) — и тоже под натиском неведомых завоевателей. Если добавить, что примерно тогда же подвергся вторжению и Египет, то череда многозначительных совпадений станет слишком широкой, чтобы быть случайной, и это порождает некоторые предположения, разговор о которых мы, однако, отложим на конец нашего очерка. История хеттов могла бы стать предметом увлекательного рассказа, и даже не одного, но сейчас нас интересует в ней лишь ее узкий «ахейско-троянский» аспект. Этот наш интерес не оригинален: задолго до нас, с самого начала расшифровки хеттских документов, многие лингвисты и историки стали искать в них следы хеттско-ахейских контактов (а многие — и отголоски Троянской войны) и кое-что даже успели найти. В частности, на некоторых глиняных табличках из Богазкёя они обнаружили такие тексты, которые на первый взгляд недвусмысленно указывают на ахейцев и свидетельствуют о давних контактах хеттов с ахейским государством. Действительно, в некоторых хеттских документах (их насчитывается свыше 20) фигурирует некое (заморское?) царство Ахиява (хеттское Ahhijaawa), название которого так похоже на слово «Ахайвой» (так Гомер именует своих героев-ахейцев), что кажется попросту немыслимым истолковать его как-то иначе. В этих текстах встречаются и другие, столь же впечатляющие совпадения, например, Lazpas — какая-то страна, связанная с Ахиявой: это название почти до очевидности похоже на Лесбос — остров в Эгейском море у берегов Анатолии вблизи Трои; или Milawata — город на территории Ликии, находившийся в те времена под властью царей Ахиявы, — название, весьма похожее на Милет, древнегреч. «Миллатос», который, как мы уже говорили, действительно представлял собой в ту пору главный ахейский форпост в Малой Азии. Эти совпадения простираются и на имена собственные: так, исследователи обнаружили в текстах, связанных с Ахиявой, имя Tawakalawas, что с учетом различия произношений очень похоже на греческое «Этеоклес», которое в пилосских табличках зафиксировано как Etewoklewelos; а также совсем уж поразительное Attarisijas, которое можно прочесть как Atressias, что очень близко к имени легендарного греческого героя Атрея, родоначальника всех микенских царей-Атридов вплоть до Агамемнона. В 1924 году Эмиль Форрер, швейцарский лингвист и историк, один из главных дешифровщиков хеттских глиняных табличек, опубликовал статью «Догомеровские греки в клинописных — текстах из Богазкёя», в которой на основании перечисленных выше фактов и множества других, более тонких, но не менее впечатляющих сличений выдвинул гипотезу, что в соответствующих хеттских документах, откуда они были извлечены, речь действительно идет об «ахейской» (микенской) цивилизации времен Троянской войны и ранее, что эта цивилизация (объединение городов-царств во главе с Микенами) была издавна и хорошо известна хеттам и что контакты Хеттской империи с Ахиявой, временами дружеские, временами кровавые, продолжались на протяжении нескольких веков вплоть до эпохи Троянской войны и последовавшего вскоре после нее загадочного краха обеих держав. На наш несведущий взгляд, после всех перечисленных выше совпадений эти утверждения почти самоочевидны, поэтому покажется, наверное, неожиданным, что толкование Э. Форрера вызвало поначалу крайне резкую критику крупнейших хеттологов того времени и, прежде всего, Фердинанда Зоммера — автора фундаментального исследования, в котором были собраны и прокомментированы все хеттские источники с упоминаниями Ахиявы. С этого начался затяжной «спор об Ахияве», к которому и нам стоит присмотреться, так как он напрямую связан с интересующей нас проблемой исторической достоверности Троянской войны. Надо же знать, у кого какие аргументы… Критика гипотезы Форрера шла главным образом со стороны лингвистической. Оппоненты утверждали, что его фонетические сближения — Ахиява — Ахейя, Аттарисиас — Атреус — весьма произвольны и противоречат законам греческого и хеттского языков (например, хеттское «ийя» в слове Ахийява никак нельзя свести к греческому «аи» в слове Ахайвой). А кроме того, двадцать с лишним упоминаний Ахиявы в хеттских текстах — число, конечно, внушительное, но лишь до-тех пор, пока мы концентрируем внимание на одной Ахияве; оно сразу становится ничтожным, когда вспомнишь о многих тысячах (!) упоминаний Египта или Ассирии. Стало быть, предположение о «мощи» Ахиявы не так уж убедительно — это царство вполне могло быть и не таким уж большим, чем-то вроде других царств на западном берегу тогдашней Малой Азии или в Эгейском море — и может быть, именно там оно и располагалось. Исходя из подобных рассуждений, Ф. Зоммер помещал Ахияву вблизи Милета; Б. Грозный — на острове Родос; П. Кречмер — на крайнем юге Малой Азии (нынешняя Анталйя), Дж. Маккуин — возле Трои, а Дж. Мелларт — вообще во Фракии, на противоположном от Трои берегу Мраморного моря, на месте нынешней Румынии и Болгарии. Как насмешливо заметил один из корифеев хеттологии Ф. Шахермайр, «противники Форрера готовы были локализовать Ахияву хоть на Луне, лишь бы не на греческом континенте». Однако по мере того как археология уточняла истинные масштабы ахейского присутствия в Эгейском море и в Малой Азии, гипотеза Форрера начала привлекать все большее сочувствие ученых, и сегодня совпадение «Ахиявы» с какой-то частью ахейского мира считается почти доказанным. Спор идет скорее о том, включали хетты в это понятие всю микенскую цивилизацию или только ее форпосты в Малой Азии, Но в пользу первого предположения говорит тот факт, что в некоторых хеттских документах перед словами «царь Ахиявы» стоит значок, означавший у хеттов что-то вроде «Его Величество» титул, которого удостаивались в хеттской официальной переписке только цари Египта и Ассирии. О «величии» Ахиявы косвенно говорит и другой факт: в 1981 г. в греческих Фивах были найдены 36 ляпис-лазуревых печатей, происхождение части которых надежно прослежено до храма Мардука в Вавилоне, некогда ограбленного ассирийцами. Печати найдены в том слое, который соответствует времени хеттских попыток блокировать ассирийскую торговлю. Не были ли они подарком ассирийцев, пытавшихся привлечь Ахейю на свою сторону против хеттов? Эти и другие аналогичные свидетельства значимости Ахиявы постепенно побудили большинство ученых признать, что великий царь Ахиявы, равный по рангу царям других великих держав того времени, не мог быть правителем какой-то страны в Анатолии, где не было места ни для какой великой державы, кроме Хатти, и потому мог быть лишь царем материковой Греции. Итак, по нынешнему мнению большинства ученых, хеттская «Ахиява» — это действительно Микенское царство XV–XIII веков до н. э., а коль скоро это так, нам, конечно же, следует обратиться к хеттским текстам об отношениях с Ахиявой — ведь где-то там могут скрываться и упоминания о Трое, а может быть, и о Троянской войне. Сейчас мы этим займемся. Мы уже близки к финишу. >ГЛАВА 10 ТРОЯ В ХЕТТСКИХ ДОКУМЕНТАХ Хеттские клинописные тексты, сохранившиеся на десяти с лишним тысячах глиняных табличек из Хаттусы (Богазкёя), — это подлинная сокровищница исторических документов, на страницах которой запечатлены живые, яркие образы царей и полководцев, впечатляющие описания битв и походов, сложные и тонкие дипломатические интриги международной политики. В сравнении с этим тексты крито-микенского линейного письма Б выглядят как сухие безжизненные перечни, сквозь которые едва сквозят смутные силуэты мертвых предметов и безвестных людей. Но хеттские тексты не исключение на тогдашнем Востоке. Такую же широкую, яркую, поразительно выпуклую картину сложной политической и культурной жизни далекого прошлого запечатлели и памятники двух других великих держав той эпохи — Древнего Египта и Древней Ассирии. В этой связи английский историк Майкл Вуд меланхолически замечает: «Увы, микенская Греция находилась на периферии этого «клуба избранных»…» И он прав: в сравнении с хеттской, египетской и ассирийской цивилизациями XV–XIII веков до н. э. с их бесконечными территориями, огромными столицами и громадными военными полчищами материковая Треция тех времен — даже в любовном описании Гомера — кажется «убогой» и «варварской»; этакий архаичный вариант «рыцарской Европы» с ее безграмотными королями и утопавшими в грязи городами или же более знакомой нам Киевской Руси времен какого-нибудь Святослава или Владимира. Подобно Агамемнону и Ахиллу у Гомера, и те ведь ходили походами на Царьград с окраин своей ойкумены, и у тех всех радостей было — пировать в шатрах, враждовать друг с другом из-за пленниц или золота да схватываться с врагами в богатырских поединках. Боги, однако, смеются: где сегодня те византийцы — и где славяне? Где те хетты — и где греки? Именно таким «варварам» история, как правило, дарует великое будущее: пройдет лишь несколько столетий, и Хаттуса будет лежать в развалинах, а Афины станут центром ойкумены: там Платон будет учить Аристотеля, на Самосе родится Пифагор, а на Косе — Гиппократ, и греческие корабли разгромят самую крупную сухопутную державу азиатского континента — империю персов, которая к тому времени сменит хеттов, а потом Александр Македонский высадится в Малой Азии, чтобы завоевать и преобразить Восток. В описываемые нами годы до этого, однако, еще далеко, и, глядя на варварский городок Афины, никто не рискнет предсказать им великое будущее. Хетты еще правят в Малой Азии: их империя занимает всю центральную часть этого огромного полуострова, оползая по карте вниз, на юг, в Сирию и Двуречье, словно под грузом собственной тяжести. На западе она контролирует множество мелких полунезависимых царств на побережье Эгейского моря. Среди них и Милет — видимо, он находится в двойном подчинении (термин Шахермайра): подчиняется Микенам, но официально лоялен по отношению к Хаттусе. Эти места нас и интересуют — здесь, в их северо-западном углу, лежит Троя. Политическая география этого побережья сложна и запутанна, и хеттские тексты мало помогают в ее прояснении. Огромная хеттская держава мало интересуется этими местами: она требует лояльности от всех местных царствишек, ее цель — поддерживать нерушимый порядок в своих пределах, и лишь в те редкие периоды, когда чей-то серьезный мятеж или вторжение его нарушат, она вспоминает об этих местах и шлет туда армию, чтобы восстановить положенный миропорядок. Немудрено, что хеттские документы плохо и путано фиксируют местную географию — они и Ахияву-то, как мы видели, упоминают нечасто, в основном именно в связи с ее вторжениями или интригами на побережье. Все же можно восстановить, что главным царством на побережье хетты считали Арцаву (Аггауф), о местонахождении которой хеттологи по сей день ведут яростные споры. Одни помещают ее в юго-восточной части полуострова, и на карте в старой «Британской энциклопедии» вы увидите именно этот вариант, другие — их подавляющее большинство — отстаивают теорию «западной» Арцавы, в центре западного побережья Малой Азии, со столицей в Апасе, греческом Эфесе. Здесь, на западе, действительно раскопаны крупные города и роскошные дворцы, каких нет на юге; но главное — западное расположение Арцавы много лучше согласуется с имеющимися сведениями о соседних с ней царствах — Мира, Хапалла и Страна реки Сеха. На карте «Британники» они показаны севернее «южной» Арцавы, то есть уже в глубине малоазийского полуострова, но хеттологи показали, что название «Мира» точно сопоставимо с греческим «Мирос» — названием реки северо-восточнее Эфеса, а слово «Хапалла» — Со словом «Капалла», которым греки обозначали область побережья северо-западней Эфеса. Если принять «западное» размещение этих двух соседних с Арцавой царств, то и третий ее сосед, Страна реки Сеха, тоже найдет правильное место — еще дальше на север, в той части побережья, что против острова Лесбоса. То, что это размещение правильное, подтверждается упоминанием хеттских источников, что эта страна граничит со страной Lazpas, что как раз и означает, как мы уже говорили выше, греческий Лесбос. Все перечисленные царства вместе с Арцавой иногда именуются в хеттских документах одним словом «Ассува», которое замечательно близко к тому слову «Асуйя» (позднее — «Асия»), которым в крито-микенских табличках обозначается одно из главных мест, где ахейцы добывали себе рабов в набегах на малоазийское побережье. Видимо, такое единое обозначение следует понимать в том смысле, что все эти западные прибрежные царства время от времени объединялись в борьбе против власти хеттов, и потому хетты знали их как единого врага; это толкование действительно подтверждается списком городов-государств «Ассувы», перечисленных в «Анналах» царя Тудхалияса Четвертого. Может показаться, что мы копаемся в ненужных подробностях, но это не так: двигаясь от одного прибрежного царства к другому, мы имеем важную тайную цель — найти местоположение самого загадочного из них, которое в перечне из «Анналов» Тудхалияса именуется «Вилуса» (по-хеттски — Wilusija). Это название идет в перечне сразу же после другого, — еще более примечательного — «Truisa», которое тотчас и главным образом приковало к себе внимание исследователей (прежде всего Э. Форрера), попытавшихся отождествить его с гомеровским «Troih», т. е. Троей! Эта попытка встретила возражения других ученых, ибо хеттские знаки этого слова допускали несколько возможностей чтения (Форрер выбрал из них самую удобную для своих целей), и потому хеттологи, отложив на будущее загадку «Труисы», переключились на поиски Вилусы, и вот тогда-то П. Кречмер первым привлек для сравнения с ее названием греческое слово «Илион», или «Илиос», в котором, вглядываясь в особенности гомеровского языка, он выявил некогда существовавшее, но выпавшее начальное «В» — «Вилиос». Гипотеза Кречмера вскоре получила поддержку. При анализе хеттских текстов конца XIV века до н. э. времен царя Муватталиса выявилось, что тогдашний правитель Вилусы, некий Alaxandus (обратите внимание на это имя!) обратился к хеттам за помощью против соседей, отдав себя под власть Муватталиса. Между тем из много более поздних византийских хроник известно, что был в Византии город, основанный, по легенде, «царем Мотилом», который принимал там «Париса и Елену». Напомнив, что второе имя Париса было Александр, Кречмер предположил, что «Мотил» — это искаженное временем и легендой «Муватталис». Более того, в другом хеттском документе упоминается царь — предшественник Алаксандуса, по имени Кукунис, которое Кречмер отождествил с именем царя Кикна, упоминаемого в «Илиаде»: согласно Гомеру, он правил в городе Колоны, южнее Трои, и первым пришел на помощь осажденной Трое. Все эти совпадения побуждают сопоставить Вилусу с гомеровским Илиосом, или Троей. И действительно, если следовать перечню прибрежных царств в «Анналах» Тудхаилияса, то местонахождение загадочной Вилусы естественным образом совмещается с положением Трои. Может быть, Труисой в списке Тудхалияса называлась местность, окружавшая город, т. е. тот район, который мы сегодня называем Троадой? Ведь и у Гомера Троя и Илион-Илиос часто упоминаются так, будто Троя понимается и как город, и как страна (Троада), а Илион — только как город (мы говорили об этом в 3-й главе). Как бы то ни было, но в хеттских текстах перед словом Вилуса иногда стоят сразу два значка — страны и города, так что все вместе читается как «страна города Вилуса», а иногда только знак страны — «царство Вилуса». Это царство упоминается весьма часто, что создает впечатление давнего знакомства хеттов с этим районом. Самый первый «вилусский» документ хеттов — договор Алаксандуса и Муватталиса — рассказывает, что некогда хеттам подчинялась и Вилуса, и Арцава; позднее Арцава отпала, но Вилуса оставалась с хеттами в мире и дружбе, и отец Алаксандуса царь Кукунис даже оказал отцу Муватталиса — царю Мурсилису — помощь против Арцавы. Далее в этом документе следует: «У Кукуниса… было… вот он…» Исходя из того, что точно такое же сочетание слов было найдено в другом хеттском документе — об усыновлении одним хеттским царем некоего принца из страны Мира, историк И. Фридрих выдвинул смелую гипотезу, что и тут нужно читать: «У Кукуниса (не) было (детей), вот (он тебя, Алаксандус, и усыновил)». Гипотеза может показаться даже слишком смелой, учитывая скудость наличного текста, но ее делает привлекательной упоминание великого греческого драматурга Еврипида в его (известной, к сожалению, лишь в пересказе) трагедии «Александр» о том, что троянский Парис-Александр имел аналогичную биографию: он был усыновлен царем Приамом и провозглашен законным наследником, что вызвало недовольство и ропот троянцев. В договоре Муватталиса с Алаксандусом тоже говорится, что «человечество ропщет» против Алаксандуса. Параллели слишком волнующи, чтобы оставить их без внимания, — ведь, приняв гипотезу Фридриха, мы, по существу, обнаруживаем в хеттских текстах прямое указание на одного из главных героев «Илиады»! Судя по дальнейшему тексту договора, Муватталис поддержал Алаксандуса против «ропщущих» подданных, за что Алаксандус признал себя хеттским вассалом. Хетты, таким образом, в обмен за свою помощь получили еще одного вассала на западном берегу (в добавление к уже покоренным ими Хапалле, Мире и Стране реки Сеха). Как предположила Хайнхольд-Крамер, сколачивание этого блока вассальных царств было, видимо, необходимо хеттам для прикрытия побережья от возможного вторжения опасного врага. Мы сейчас увидим, что, скорее всего, этим врагом, была Ахиява, т. е. ахейцы. Пока же заметим, что с этим присоединением Вилусы к прохеттской коалиции прибрежных царств весьма подозрительно совпадает первое упоминание хеттами троянского племени: в стеле Рамзеса Второго о битве с хеттами при Кадеше (1275 г. до н. э.) говорится о хеттских союзниках «A-ru-sa-wi», что, видимо, означает воинов из Арцавы, и, «Dar-d-an-ja», что ученые расшифровывают как «дарданцы» — племя, обитавшее, согласно «Илиаде», на юге Троады-Илиоса (Вилусы); мы уже говорили много раньше, что это название то ли восходит к проливу Дарданеллы, то ли само дало ему такое название. Но откуда бы ни взялось слово «дарданцы», ясно, что их упоминание в Кадешской стеле — лишнее доказательство того, что Вилусу правильно отождествлять с Троадой: стоило ей стать вассалом Муватталиса (ум. в 1296 г. до н. э.), и вскоре (1275 г. до н. э.) вилусцы-дарданцы уже появляются в хеттских войсках при Кадеше. Есть и еще одно подтверждение того, что Вилуса — скорее всего, Троя: в договоре вилусского Алаксандуса с Муватталисом упоминаются вилусские боги; один из них — «Аппалинаус», что, несомненно, означает Аполлон. Напомним, что и у Гомера Аполлон не греческий, а именно троянский бог (о чем говорит, например, его история с Кассандрой, которой он хотел овладеть, а за отказ наплевал в уста). Следующим в списке вилусских богов назван «бог подземных вод», что не менее поразительно совпадает с тем фактом, что вблизи Трои воды реки Скамандр с шумом и грохотом выходят из подземного туннеля в широкое ущелье под горой Ида; это ущелье издавна было местом религиозных праздников в Троаде. Гомер, кстати, тоже называет Скамандр «божественным» и «богорожденным». После всего сказанного представляется уже почти несомненным, что в хеттских текстах, рассказывающих о царстве Вилуса, речь действительно идет о Трое-Илионе, знакомой Гомеру, и о ее древних царях времен Троянской войны: не забудем, что правление Муватталиса и его преемников, по какой хронологии ни считать, совпадает со временем существования Трои-6 и 7а, раскопанных Шлиманом, Дорпфельдом и Блегеном. Сам этот факт не так уж поразителен, если вдуматься, т— ведь сомнений в реальном существовании Трои на самом деле ни у кого нет, как нет сомнений и в том, что Троянское царство (а Троя-6, судя по ее размерам, должна была быть столицей довольно значительного царства — это самый большой древний город, раскопанный на северо-западе Малой Азии) уже хотя бы в силу своего геополитического расположения должно было входить в контакты с современной ему и соседствующей с ним могущественной империей хеттов. Приятно, конечно, что все эти представления, имеющие первоисточником гомеровский рассказ, подтверждены теперь перекрестными историческими, археологическими и лингвистическими доказательствами. Но это еще не доказывает исторической реальности описанной Гомером Троянской войны… Пока что мы не обнаружили в хеттских документах чего-либо, напоминающего об этом событии. Задумаемся поэтому: где следует искать такие упоминания (если они вообще существуют)? Ответ представляется однозначным. Троянская война велась ахейцами (для хеттов — Ахиявой) против Трои (для хеттов — Вилусы, их вассала). Следовательно, теперь, на завершающем этапе нашего исторического расследования, надлежит обратиться к тем хеттским текстам, в которых одновременно упоминаются и Вилуса, и Ахиява. Обратимся же к ним — и скорее — мы почти у цели! >ГЛАВА 11 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ХЕТТОВ Большинство хеттских документов повествует о внутренних делах империи; это вполне обычные, знакомые имперские дела: смены правителей, борьба за престол, смуты и гражданские войны, нерадивость местных чиновников и волнения в окраинных областях. Эти глиняные таблички не сохранили ни текстов своего Гомера, ни даже текстов своего Бродского, чтобы позволить потомкам вдохнуть горячую и горькую пыль тех веков, но и в них ощущается бескрайний размах имперского пространства, стянутого сетью нескончаемых, в пустоту уходящих дорог, всепроницаемость и вездесущесть централизованного надзора и тяжесть столичной длани на загривке провинций, бесконечная глушь отдаленных полисов и размеренная медлительность их предустановленного быта. Другой массив текстов посвящен делам внешним — это дипломатическая переписка с повелителями других империй, сообщения о битвах и походах, хвастливые отчеты о победах и сетования на нежданные поражения, договоры о торговле или их расторжение, смутные отголоски сложных политических интриг. Заморское царство Ахиява (которое большинство хеттологов, как мы уже говорили, отождествляют сегодня с материковой, «микенской» Грецией) упоминается здесь нечасто, около 20 раз, то есть несравненно реже, чем Ассирия и Египет, но ведь и то сказать — Ахиява далеко, и ее цари редко когда угрожают империи столь серьезно, как ее ближайшие и могущественные соседи на юге и востоке. Все же несколько-раз доходит, видимо, и до этого, и к таким конфликтам Ахиявы и хеттов нам нужно присмотреться особенно детально, потому что, как уже говорилось в конце предыдущей главы, отголоски Троянской войны, т. е. похода ахейцев на Трою-Вилусу, могут оказаться лишь в тех хеттских документах, которые повествуют о вторжениях царей Ахиявы в хеттские владения. Первый (из доныне найденных) хеттский текст, в котором упоминается такое вторжение, — это «рассказ о преступлениях Маддуваттаса», как его называют хеттологи, отнесшие этот рассказ после долгих споров примерно к 1440–1380 годам до н. э. Микенские греки в то время, как известно, уже овладели Критом и островами Эгейского моря, и вот уже пара десятилетий, как утвердились в Милете. Немудрено, что, ступив на побережье Малой Азии, они тут же начинают вмешиваться в дела прибрежных малоазийских земель, подвластных империи хеттов, и вот в тексте послания к некому Маддуваттасу (видимо, царьку одной из таких земель) в ходе перечисления его прегрешений впервые появляется упоминание об Ахияве: «…тебя (Маддуваттаса), из страны твоей изгнал Аттариссий, человек из страны Аххия… он и далее вслед за тобой… он постоянно преследовал тебя, он стремился к твоей, Маддуваттас, погибели. Но бежал ты, Маддуваттас, к от(цу Солнца Моего). И отец Солнца Моего отклонил тебя от погибели и Аттариссия назад отстранил…» В чем же состояли «преступления» Маддуваттаса, по которым названо это пространное и примечательное послание? Оказывается, едва оправившись благодаря помощи хеттов от поражения, он тотчас напал на своих соседей, других хеттских вассалов, и тогда отступивший было Аттариссий снова появился на сцене с огромным по тем временам войском, насчитывавшим 100 боевых колесниц. Пришлось снова отправлять против него хеттскую армию. Однако неугомонный Маддуваттас и после этого продолжал свои происки: он захватил ряд мелких прибрежных царств по соседству, сколотил из них серьезный анти хеттский блок и, что всего хуже, вступил в тайный сговор с Аттариссием и помог тому напасть на «страну Аласию» (ученые давно уже установили, что хеттская Аласия — это остров Кипр), где Аттариссий захватил много пленных (читай — будущих рабов). В этом месте так и просится упоминание, что по археологическим данным массовое проникновение микенской посуды на Кипр начинается именно в это время — около 1400 года до н. э. Мало того, массовое появление этой посуды на западном побережье Малой Азии тоже начинается в те годы, к которым, судя по хеттскому посланию, относятся вторжения «ахиявского царя» в малоазийские земли{16}. Созданная Маддуваттасом анти-хеттская коалиция сыграла роковую роль в истории «Старого» хеттского царства. Войдя в сговор с Египтом, эта коалиция едва не сокрушила хеттов; во всяком случае, накануне вступления на трон Тудхалияса Второго хетты находились на грани окончательного поражения. Однако новый правитель сумел отразить главные угрозы и возродить хеттскую империю под названием «Нового царства», а его преемники Тудхалияс Третий и Суппилулиумас неслыханно раздвинули пределы полученного наследия. На хеттских табличках сохранилась «Автобиография» Мурсилиса Второго, сына Суппилулиумаса, в которой он много рассказывает о своем отце, упоминая, в частности, что «когда отец мой в живых (был)… тогда он (что-то) с моей матерью… и ее в страну Ахиява… он на ту сторону отправил». Этот документ описывает времена, отстоящие на несколько десятилетий от походов Аттариссия, и отношения хеттов с Ахиявой за это время, видимо, изменились: они стали настолько дружественными, что Ахиява даже готова пойти навстречу хеттскому царю в довольно щекотливом вопросе распри с женой и принять у себя опальную царицу. Сам Мурсилис Второй продолжил победы своего отца, окончательно разгромив Арцаву, которая возглавляла антихеттскую коалицию на западном побережье Малой Азии, и главу ее, некого Ухацитиса, изгнал все в ту же Ахияву: «и он с моря… к царю Ахиявы… я снарядил с кораблем, и они увезли его прочь». Правда, в ходе этой войны был сожжен и главный форпост Ахиявы на побережье — город Милет, но ахиявские цари, судя по всему, не выразили никакого возмущения по этому поводу, и город вскоре был отстроен, кажется, руками самих же хеттов. А вскоре из Ахиявы ко двору заболевшего Мурсилиса отправляется некто «Антаравас» (возможно, Антреус) со статуями ахиявских богов, которые должны помочь выздоровлению царя. Одним словом, при Мурсилисе Втором глухая вражда между Хаттусой и Ахиявой сменяется подлинной политической идиллией. Однако ни во времена вражды, ни теперь, во времена дружбы, Вилуса в связи с Ахиявой, увы, не упоминается. Как мы помним, во времена правления следующего хеттского царя, Мувутталиса (1315–1296), некий принц из Вилусы, Алаксандус, опасаясь каких-то врагов, обратился за помощью к хеттам и согласился стать их вассалом (этими врагами скорее всего были его же «ропщущие» подданные, которым не понравилось, что усыновленный предыдущим вилусским царем Алаксандус взошел после его смерти На трон, минуя законных наследников). В договоре Алаксандуса с Муватталисом вассал обязывается противостоять какому-то врагу, и последующие события показывают, что обязательство это не было случайным — ожидать вторжения врага были все основания. Действительно, в сохранившемся отрывке письма, отправленного царем Страны реки Сеха (это царство, напомним, соседствовало с Вилусой с юга и востока) в Хаттусе, хеттскому царю (скорее всего, тому же Муватталису), говорится, что ожидаемый враг «пришел и войско страны Хатти привел… назад л страну Вилуса биться пошли». Весь этот эпизод хеттологи трактуют следующим образом: упрочив положение Алаксандуса на престоле Вилусы и сделав его своим вассалом, хетты, видимо, изменили прежнее положение вещей, при котором Вилуса была вассалом неведомого «врага»; этот противник не потерпел ослабления своих позиций и вторгся в страну, пытаясь восстановить прежнее положение; хетты тотчас отреагировали присылкой своих войск. Кто же этот неведомый противник, с которым хетты воюют из-за Вилусы? Хайнхольд-Крамер высказала предположение, что им могла быть Ахиява. На первый взгляд кажется, что это совершенно безосновательное предположение, но анализ последующих документов показывает, что оно вполне правдоподобно. Главным из этих документов является так называемое «Письмо о Тавакалавасе». Сопоставление его с другими хеттскими текстами, где упоминаются некоторые из лиц, указанных в «Письме», позволяет отнести события, излагаемые в письме, ко временам наследников Муватталиса — царя Мурсилиса Третьего (1296–1289), а скорее даже — его преемника и дяди, Хаттусилиса Третьего (1289–1265). Этот царь известен (из документов) своей политикой умиротворения противников, проводимой с большим дипломатическим искусством (впрочем, войну с Египтом при Кадеше он этим не предотвратил), а в «Письме о Тавакалавасе» обнаруживаются все приметы такой политики. История, стоящая за письмом, такова: некий Пиямарадус (судя по дальнейшему, мелкий властитель на западном побережье Малой Азии) восстал против хеттов на побережье, а когда хетты пришли навести порядок, этот «враг» бежал в Ахииву вместе с братом ахиявского царя Тавакалавасом, до того находившимся в Милаванде (как мы уже говорили выше, хеттская Милаванда — это главный ахейский, т. е. микенский, форпост в Малой Азии, город Милет, а имя Тавакалавас некоторые хеттологи отождествляют с греческим «Этеоклес», или «Этеокл», считая этого царевича Этеокла микенским наместником в Милете). И вот теперь хеттский царь пишет царю Ахиявы, именуя его «другом и братом», что он-де никаких враждебных замыслов против Ахиявы не имеет, Милаванду и трогать не намерен и просит лишь выдать ему мятежника Пиямарадуса, причем готов даже простить его, если царь Ахиявы будет на этом настаивать. Автор письма признает, что, возможно, обидел царя Ахиявы, и торопится заверить «друга и брата», что согласен на все его условия ради примирения с ним, а покамест посылает своего высокородного придворного в Ахияву в качестве «заложника мира». Подчеркнутая смиренность и миролюбивость текста выдает в авторе царя-миротворца Хатусилиса. Но самое интересное для нас таится в одной из второстепенных строк «Письма», где Хаттусилис вспоминает о прежних отношениях хеттов с Ахиявой. Он признает, что у царя Ахиявы могут быть обиды — ведь еще не так давно хетты воевали с ним из-за Вилусы, — но тут же оправдывается: во-первых, Ахиява ведь победила в той войне, а во-вторых, он, Хаттусилис, в ней вообще не виноват: «Я ведь юн был!» После чего восклицает с деланным недоумением: «Чего же еще?» Мол, какие еще могут быть претензии? Хаттусилис был «юн» во времена царствования своего брата Муватталиса, и это позволяет связать его слова о войне хеттов с Ахиявой из-за Вилусы с предыдущим сообщением царя Страны реки Сеха о вторжении неведомого врага в пределы Вилусы как раз во времена правления Муватталиса. В.таком случае предположение Хайнгольд-Крамер подтверждается: этим «неведомым врагом» действительно была Ахиява, цари которой не потерпели перехода Алаксандуса на сторону хеттов и сумели, по всей видимости, вернуть себе свои прежние позиции в Вилусе. Еще одно место из «Письма о Тавакалавасе» делает эту трактовку событий почти несомненной — здесь автор «Письма» вкладывает в уста своего адресата (царя Ахиявы) такое заявление: «Мы, царь страны Хатти и я, из-за этой страны Вилуса во вражде были мы… и он меня в отношении ее умиротворил и мы заключили договор». Иными словами, после кратковременной попытки Муватталиса повернуть Вилусу против Ахиявы и решительного военного ответа последней статус-кво был восстановлен и в отношениях, между хеттами и Ахиявой снова наступила идиллия. Но времена менялись. И в дипломатических текстах, относящихся к правлению следующего хеттского царя, воинственного Тудхиялиса Четвертого (1265–1235 гг. до н. э.), царь Ахиявы уже перестает быть «братом и другом». Причем перестает им быть весьма эффектно. В перечислении великих царей, содержащемся в одном из тогдашних документов, знак титулатуры «Его Величество», поставленный писцом перед словами «царь Ахиявы», стерт с таблички с таким усердием, словно была допущена грубая политическая ошибка. И в другом тексте, повествующем о победоносном походе хеттов на Аласию-Кипр, где в то время, — археологам это доподлинно известно — было много ахейских городов, никакого упоминания о «великой Ахияве» тоже нет, она в этом тексте не присутствует вообще. И то же самое — в третьем тексте, в «Письме в Милаванду», где этот давний и главный ахейский форпост в Малой Азии запросто, словно так и должно быть, словно так всегда и было, именуется хеттским владением — нет Ахиявы! Что, микенская держава распалась, исчезла под натиском каких-то врагов? Нет, она существует, это известно из других — греческих — источников, но хетты уже с ней не считаются, теперь она для них — побежденный и поверженный противник. Когда и как это произошло? Возможный ответ на это содержит документ, относящийся, по всей видимости, к началу царствования Тудхалияса Четвертого и представляющий собой очередное сообщение о военных столкновениях на западном побережье: «(Царь или народ) Страны реки Сеха снова дважды согрешил… вел войну. И царь страны Ахиявы отступил назад… отступил назад, а я, Великий Царь, пришел». Судя по этому тексту, сам царь Ахиявы вторгся в хеттские владения в районе реки Сеха, но потерпел сокрушительное поражение и был отброшен назад. Кажущееся незначительным и рядовым, событие это давно уже привлекло внимание хеттологов своим сходством с другим событием того же (если верить греческой традиции) времени, происходившем в том же (если верить традиции) месте. Речь идет об упоминаемом множеством древнегреческих авторов неудачном «первом» походе царя Микен Агамемнона и его спутников на Трою. У Гомера об этом событии глухо говорит Елена Прекрасная в своем плаче по Гектору, в самом конце «Илиады»: «Ныне двадцатый год круговратных времен протекает с оной поры, как пришла в Илион я, отечество бросив». Кажется странным, что Елена насчитывает уже 20 лет со времени своего побега с Парисом в Трою — ведь осада Трои, по Гомеру, продолжалась всего 10 лет! Но поэмы упоминавшегося нами в первых главах (и предшествовавшего Гомеру) «Эпического цикла», прежде всего — «Киприя», пересказ которой сохранился у автора V века до н. э. Прокла, рассказывают, что походов на Трою на самом деле было два, и во время первого ахейцы, «выйдя в море, причалили к Тевтрании и начали ее грабить, как будто Илион; Телеф же (местный царь) поспешил на помощь». Аналогично у другого автора V века — Аполлодора: «Не зная морского пути в Трою, пристали к Мисии (Тевтрании) и стали ее разорять, думая, что это Троя; Телеф же, царствовавший над мисийцами, погнал эллинов к кораблям и убил многих». После этого ахейцы целых 10 лет не могли оправиться от позорного поражения и лишь затем снова собрались с силами для второго похода, который и стал знаменитой Троянской войной; Елена, стало быть, была права, говоря о двадцати годах своего пребывания в Трое: десять лет перерыва между первым и вторым походами и десять — осады. Мисия, или Тевтрания, согласно греческой традиции, — это страна между реками Каик и Меандр, что к югу от Трои; об этом говорит историк II века Павсаний («У отправившихся в Трою с Агамемноном случилась ошибка во время плавания, результатом чего была битва в Мисии, и как напоминание об этом входящему в долину Каика служит камень в городе Элее…») — но у хеттов эти же места назывались Страной реки Сеха, и именно здесь, если верить документу тудхалиясовских времен, был с позором разгромлен «царь Ахиявы». И поскольку все прочие документы из анналов того же Тудхалияса Четвертого «великую Ахияву» больше не упоминают, надо полагать, что это незадачливое вторжение ахейцев произошло в самом начале правления Тудхалияса, т. е. близко к 1265 году до н. э. Если вся эта трактовка верна (а многие хеттологи на ней настаивают), то мы наконец-то можем с истинно гоголевским удовлетворением воскликнуть: «Отыскался след Троянского похода!» И ведь действительно вроде бы отыскался — пусть не второго, главного, а первого, неудачного, что из того? Куда важнее, что Гомер говорил правду: Троянская война — была! Гиндин и Цымбурский привлекают в этом месте внимание специалистов к еще одному замечательному документу, который представляет собой письмо царя хеттов к царю Ахиявы (именуемому без титула пренебрежительным «господин»). Пробиваясь сквозь путаницу фраз: «(ты)… написал… какие твои (страны) в запустении (были), их мне во владения отдал Бог Грозы. Царь страны Ассува… Акагамнус, дед отца, связал. А нынче Тудхалияс… его низвергнул», авторы делают смелое предположение, что речь идет о давней попытке прадеда нынешнего царя Ахиявы, некого «Акагамнуса», выступавшего под покровительством Бога Грозы, оттягать себе хеттские земли, пользуясь каким-то их «опустошением» — например, в результате землетрясения: известно ведь, что Троя-6 была разрушена мощным землетрясением примерно за 50 лет до того, как ее осадил и взял Агамемнон. Предположение смелое, потому что авторы, по сути, хотят одним махом решить загадку Троянской войны, объявив указанный документ ее «хеттским отголоском». В самом деле, если, вслед за авторами, видеть в «Акагамнусе» хеттское произношение имени «Агамемнон», в Боге Грозы — Громовержца Зевса, а в самом нашествии «ахиявцев» — взятие ахейцами Трои через 20 лет после их неудачной высадки на реке Каик, в начале царствования Тудхалияса Четвертого, то событие это следует отнести к середине или даже к концу этого царствования — скажем, к 1245–1240 годам до н. э., что, вообще говоря, совпадает с датой Троянской войны, предложенной К. Блегеном. Но эта гипотеза немедленно наталкивается на очевидные трудности. К каким временам относится рассматриваемое письмо, коль скоро его писал правнук «Акагамнуса»? Ведь даже приняв дистанцию между правнуком и прадедом всего в 60 лет, мы оказываемся в 1180 году до н. э., а в это время хеттская империя была уже сокрушена, и никаких царей, к которым могло быть. обращено такое послание, в Хаттусе уже не было, потому что и самой Хаттусы не было — сожжен он был и разрушен. И когда же, задумаемся, успел Тудхалияс Четвертый «низвергнуть» надменного этого «Акагамнуса»-Агамемнона после его победы над Троей, если всех лет царствования этому хеттскому царю осталось в лучшем случае четыре-пять? Нет, предположение Гиндина — Цымбурского загадку Троянской войны не решает, и потому нам придется сделать еще одно — впрочем, на сей раз действительно последнее, — усилие и попытаться найти в хеттских текстах иное, более убедительное свидетельство ее реальности. Или даже доказательство, если повезет. Повезет ли? >ГЛАВА 12 ИСТОРИЯ ТРЕХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ Подсчитаем наши бесспорные достижения. Мы убедились, что хеттские документы подтверждают реальное существование могучей микенской державы ахейцев, о которой говорит Гомер, — у хеттов это Ахиява. Мы увидели, что хеттские тексты засвидетельствовали реальное существование сильного и геополитически важного Троянского царства; у хеттов это царство Вилуса, расположенное на северо-западе малоазийского полуострова — именно там, где Шлиман нашел великую Трою. Мы обнаружили даже следы одного из царевичей Трои, названных велитсим Гомером, — усыновленного Париса-Александра, виновника Троянской войны; похоже, что у хеттов это Алаксандус, усыновленный царем Вилусы и поддержанный на троне властителем хеттской империи Муватталисом. Описанная в поэмах догомеровского «Эпического цикла» ошибочная высадка экспедиции Агамемнона у реки Каик и ее позорный разгром и бегство описаны также и хеттами — в виде незадачливого вторжения царя Ахиявы в Страну реки Сеха; даже географическое положение мест почти совпадает. Этих перекрестных совпадений так много, что постепенно они складываются в плотную сеть взаимосвязанных прочтений, каждое из которых подкрепляет предыдущее и подсказывает последующее, как во внезапно полностью раскрывающемся кроссворде. В целом можно сказать, что мы нашли еще одно подтверждение реальности микенской цивилизации — Шлимана — на сей раз в документах хеттов. Но наш поиск еще не закончен. Мы еще не нашли пока в этих документах никакого упоминания о том ахиявском триумфе в Вилусе, который греческая традиция описывает как осаду и взятие великой Трои ахейцами, как победное завершение Троянской войны. Чтобы приблизиться к этой цели, нам придется двинуться несколько обходным, на первый взгляд, путем — вернуться в Троаду-Вилусу и ее великую столицу. Великая Троя… Раскопки Шлимана лишь обнаружили ее истинное расположение; Дорпфельд углубился чуть дальше в ее прошлое, но только многолетние труды Карла Блегена позволили наконец выявить главные даты в биографии могучей крепости на равнине Скамандра и со всей несомненностью установить, что ее начало, первые следы поселения людей на Гиссарлыке, восходит к поистине баснословной древности — примерно 3600 лет до н. э.! До своего окончательного исчезновения, скажем, в XV веке нашей эры, Троя, следовательно, прожила свыше пяти тысячелетий, всего на пару тысяч лет меньше, чем Йерихо, этот древнейший город на Земле. В том культурном слое, который Шлиман, открыв его во время своего второго цикла раскопок, считал «древнейшим», поселение было заложено около 2500 года до н. э., то есть через целую тысячу лет после основания городища на холме. Знаменитая шлимаиовская Троя-2, которую он поначалу считал современницей Троянской войны — «Приамовой Троей», возникла в действительности за две тысячи лет до нашей эры, а это значит — как минимум за шесть столетий до предполагаемой даты этой войны. Судя по найденным там Шлиманом развалинам дворца и многочисленным золотым украшениям (пресловутая «диадема Елены»), Троя уже в то время была центром какого-то небольшого царства, властители которого, надо полагать, обогащались за счет выгодного стратегического положения своего города вблизи Дарданелл. Видимо, уже и тогда эти «таможенные поборы» троянцев вызывали чье-то сильное недовольство, ибо Троя-2 погибла в результате штурма: об этом свидетельствуют следы пожара и разрушений, а также тот факт, что «диадема Елены» вместе с прочим золотишком были брошены просто на землю, словно жителям, торопливо бежавшим из города, было уже и не до золота. Можно думать, однако, что это же «проклятие» Трои было одновременно и ее «благословением», ибо местоположение города у Дарданелл побуждало людей снова и снова возвращаться в эти края и основывать здесь поселение или даже крепость, — уже через сто лет после разрушения Трои-2 на ее развалинах (поверх них) возник очередной город — Троя-3, а еще через сто лет — на развалинах этого города — следующий, Троя-4. Проходит еще столетие, и его сменяет Троя-5 — по предположениям историков, именно тогда в здешние места пришли новые, индоевропейские племена, умевшие приручать и использовать лошадей (вспомним, что Гомер в «Илиаде» тоже говорит о «троянских конях», да и хетты тоже, как полагают, вывели свое название всего западного побережья Малой Азии, «Ассува», из слова, означавшего у них коня). Некоторые историки полагают, что племена, пришедшие тогда в Трою, составляли часть огромного воинства, основная масса которого осталась на противоположном берегу Дарданелл, на севере Балкан, и много позже стала называться фракийцами; они видят подтверждение этой гипотезы в совпадении множества названий околотроянских мест и народностей с фракийскими топонимами и этнонимами. Лишь позднее, говорят они, Троя обособилась, стала отдельным царством, и ее жители стали называть себя «троянцами» или «дарданцами». Что ж, возможно; возможно даже, что из тех же протофракийских племен, что троянцы, вышли (и двинулись на юг) и будущие греки; это могло бы объяснить их последующую, роковую, многовековую тягу к Троаде — неосознанное родство, почти по Фрейду. Впрочем, оставим. Несколько позже, на грани 1600–1500 годов до н. э., в культурных слоях Трои-5 обнаруживается микенская посуда, то есть следы прямых контактов между Троей и Микенами. Эти следы сохраняются до 1200 года до н. э., но за это время совершаются четыре важнейших события в истории Трои: возникает Троя-6 с ее крепостными стенами и бастионами, дворцом и аристократическими зданиями, напоминающими описания Гомера; происходит землетрясение, разрушающее этот город; окрестные жители возвращаются на развалины и строят там убогие, тесные и скученные лачуги — Трою-7а; и спустя 50 лет после своей предшественницы Троя-7а гибнет, как и та, только уже от рук людей — в огне и разрушениях, военного штурма. Последнее событие Блеген помещает между 1270–1250 годами до н. э. Снова проходит каких-нибудь полвека, и над развалинами Трои-7а возникает новый, тоже небольшой город — Троя-7б. Ее остатки тоже свидетельствуют о насильственном разрушении, но не таком полном, как раньше, — следы жизни переходят в следующий культурный слой непрерывно, как если бы часть жителей осталась на месте и продолжала поддерживать существование, города; более того, останки посуды свидетельствуют о смешении этих коренных троянцев с какими-то пришельцами из-за Дарданелл, возможно — опять из той же Фракии. Такая же посуда обнаруживается несколько выше по течению Скамандра, в Бурунбаши, — видимо, часть троянцев переселилась туда, так что недаром в новое время кое-кто считал, что Троя находилась именно в Бурунбаши, а не на Гиссарлыке. Однако примерно к 1000 году до н. э. последние следы жизни и там, и там исчезают древняя Троя окончательно уходит в прошлое. Но место «свято», и оно не опустевает: еще 200–300 лет спустя в Троаду (или, как она еще называлась, Илион, а у хеттов — Вилуса) приходят поселенцы с соседнего греческого острова Лесбос и основывают здесь «Эллинскую Трою» — «маленький торговый городок», как сообщают первые древнегреческие историки. Возможно, именно здесь побывал когда-то Гомер; возможно, в этих местах еще сохранялись тогда следы Древней Трои и, кто знает, даже легенды о героическом прошлом этого города. Как бы то ни было, с этого момента Троя вступает в период письменно зафиксированной истории: «Новый Илион» сменяется городом Александрова полководца Лизимаха, «Александрией Троянской», потом римской колонией Новый Илион, это уже Троя-9, по датировке Блегена; ее сменяет центр христианского епископата — «Византийская Троя», но к 1000 году нашей эры это поселение тоже угасает, и спустя еще 500 лет тут возникает последнее на Гиссарлыке поселение — деревня Гиплак, позднее покинутая жителями; останки ее поросли диким кустарником, не гнущимся даже под здешними ветрами. Очертим границы нашего поиска: весь наш предшествующий рассказ сосредоточен практически в пределах одного-полутора столетий — от гибели многовековой Трои-6 до гибели скоротечной Трои-7б. Как мы помним, поначалу Дорпфельд решил, что «Приамовой» («гомеровской») является именно могучая Троя-6. Но затем Блеген объявил, что этот богатый и укрепленный царский город был на самом деле разрушен мощным землетрясением, зато следы пожара, убийств и разрушений, которые могла причинить только война, присущи жалкой, «лачужной» Трое-7а, находившейся в полуразрушенных стенах предыдущей крепости. На первый взгляд, такая последовательность событий соответствует греческой мифо-эпической традиции. Эта традиция утверждает, что задолго до Агамемнона великий Геракл уже предпринял поход против троянского царя Лаомедонта, которому помогал бог моря Посейдон. Естественно Геракл победил: он захватил и разрушил Трою и посадил в ней нового царя — Приама, но предварительно ему пришлось схватиться врукопашную с неким «Посейдоновым чудищем», которое бог послал на защиту любимого города. Остается вспомнить, что греки считали Посейдона «сотрясателем земли», т. е. приписывали ему причину землетрясений, и тогда в эпизоде сражения Геракла с «Посейдоновым чудищем» легко усмотреть подернутое мифопоэтическим туманом воспоминание о реальном землетрясении, некогда разрушившем город Лаомедонта. Поскольку, по Блегену, землетрясение разрушило именно Трою-6, то именно ее он и объявил «Лаомедонтовой». По его расчетам, это «первое взятие Трои» (Гераклом) произошло примерно в 1300 году до н. э. (Заметим, что такая дата хорошо согласуется с описанной в «Письме о Тавакалавасе» распрей хеттов с Ахиявой за Вилусу, при царе Муватталисе.) Здесь уместно объяснить, на чем основывались эти расчеты. Подобно всем другим археологам до и после него, Блеген руководствовался в определении дат типом посуды, или, точнее, типом обработки керамической посуды, обнаруживаемой в том или ином культурном слое. В истории микенской керамики (которая сама датируется по египетским памятникам и, в свою очередь, позволяет датировать те раскопки, где она обнаруживается) существует очень важная и отчетливо прослеживаемая граница — примерно 1240–1190 годы до н. э., скорее, ближе к последней дате: до этого перелома керамика принадлежит к типу 3В (или еще более ранней 3А), после него — к типу 3С (более примитивному и грубому, который еще иногда называют «варварским»). Считается, что упрощение способов обработки керамики связано с общим падением ремесел в микенской Греции, а оно — с распадом и крахом микенской цивилизации в целом, павшей под натиском неведомых пришельцев с севера. Об этих загадочных пришельцах, разрушивших не только Микенский союз древнегреческих царств, но заодно и Хеттскую империю, и вообще радикально переменивших лицо древнего Средиземноморья, мы уже однажды упоминали, обещая поговорить о них в конце нашего рассказа; и нам действительно придется сейчас о них говорить. Но пока вернемся к Блегену и его расчетам. Раскапывая Трою-7а, Блеген не нашел в ее слоях признаков керамики типа ЗС и потому заключил, что этот город погиб раньше роковой даты варварского вторжения, т. е. раньше 1240 года до н. э.; поэтому он отнес дату взятия Трои-7а на 1270–1260 годы. Мы следовали этой схеме, когда в одной из предыдущих глав закончили рассказ о раскопках Трои выводом, что «Приамовой Троей» оказалась блегеновская Троя-7а. Теперь я вынужден с огорчением сказать, что нам придется изменить этот вывод. Дело в том что через несколько десятилетий после Блегена, в серии работ 1970–1980 годов самый авторитетный в мире специалист по микенской керамике Фурумарк сообщил, что повторное изучение некоторых керамических обломков, найденных Блегеном в Трое-7а, заставляет отнести их к типу 3С. Но керамика этого типа могла появиться в городе только после 1240–1230 годов до н. э. как минимум. Значит, Троя-7а существовала после этой переломной даты. Однако в ту пору Микенский «союз греческих героев» уже никак не мог осадить, захватить и разрушить Трою-7а, ибо сам был к тому времени подорван, а то и вовсе разрушен пришельцами с севера. Стало быть, блегеновская Троя-7а никак не могла быть той «Приамовой» Троей, которую осаждал и захватил Агамемнон. Прямым следствием этих сенсационных выводов Фурумарка было то, что археологи и историки. в подавляющем своем большинстве отвергли схему Блегена, и последние годы основная часть специалист тов снова вернулась к мнению Дорпфельда, признав «Приамовой» (гомеровской) могучую Трою-6. Английский историк Майкл Вуд сформулировал это новое представление следующим категорическим образом: «Если Троянская война была столь величественной, как описано у Гомера, она могла быть только войной против Трои-6». В поддержку этого утверждения сегодня приводится ряд новых фактов. Как показали археологические открытия последних лет, Трою-6 действительно постигло мощное землетрясение, и в этом Блеген был прав, но окончательное разрушение ее дворцов и аристократических зданий (на месте которых возникли позднее лачуги и времянки Трои-7а) было все же делом рук человеческих, а точнее — греческих, микенских: археологи нашли в слоях Трои-6 многочисленные останки микенского оружия, следы пожара, возникшего при захвате и разграблении города, и некоторые признаки нарочитого разрушения крепостных стен. Этот бесславный конец могучей Трои-6, просуществовавшей несколько столетий, сегодня датируется 1270–1260 годами до н. э. Новая датировка обоснована надежнее блегеновской, потому что базируется на более точном и детальном анализе типа керамики, но фактически она совпадает с датировкой Блегена. «А что же Троя-7а?» — немедленно спросите вы. Если поход Агамемнона («Троянская война») имел целью захват и разрушение Трои-6, то кто же и когда разрушил следующую по счету Трою, возникшую на развалинах предыдущей? И что означали найденные Блегеном в этом следующем городе признаки подготовки его жителей к осаде — скученность жилищ, врытые в землю кувшины с запасами продовольствия и т. п.? Упомянутое «большинство специалистов» располагает ответами и на эти-заковыристые вопросы. Они утверждают, что Троя-7а просуществовала вплоть до начала XII века до н. э., примерно до 1190–1180 годов. Но надо иметь в виду, что вся вторая половина XIII и начало XII веков до н. э. были эпохой нашествия северных варваров, которые накатывались на Средиземноморье несколькими последовательными волнами. То были времена всеобщего разрушения, хаоса и неустойчивости, и поэтому можно думать, что особенности жизни в Трое-7а попросту отражали общую неуверенность тогдашних людей в завтрашнем дне, их постоянную настороженность в предчувствии возможного набега бродивших повсюду варварских отрядов. «Не исключено, — говорит тот же М. Вуд, — что именно один из таких отрядов и разрушил Трою-7а, ведь она была слишком бедна и слаба, чтобы долго защищаться даже против небольшой группы захватчиков; не исключено также, что в числе этих захватчиков были и примкнувшие к варварам микенские ахейцы; но в любом случае то не были уже дружины Агамемнона и других греческих героев — времена героев давно прошли; скорее то была жалкая кучка искателей приключений и легкой наживы». Так выглядит новая схема «троянских событий», сложившаяся в самые последние десятилетия и принятая, как уже сказано, большинством современных исследователей. А как выглядит в свете этой схемы наш поиск отголосков Троянской войны в хеттских документах? Всмотримся снова в даты, и мы поймем, что искать в этих документах следы грабительского набега варваров на Трою-7а попросту безнадежно: в то время, к которому Вуд и другие относят это событие, в 1190–1180 годах до н. э., Хаттуса уже лежала в развалинах, ибо хеттская империя и сама уже рухнула под натиском тех же варваров. Но поход Агамемнона (если он вообще реален) происходил по этой схеме в 1270–1260 годах до н. э., а в это время хеттская империя еще существовала. По нашей «хронологии хеттских царей», это годы правления воинственного Тудхалияса Четвертого, того самого, при котором произошло вторжение «царя Ахиявы» в Страну реки Сеха (точности ради заметим, что сторонники новой схемы пользуются несколько иной хронологией и потому считают, что в это время в Хаттусе еще правил Хаттусилис Третий). Об этом вторжении упоминается в одном из хеттских документов, связанных с Ахиявой, — в письме правителя Страны реки Сеха к хеттскому царю. Так вот, говорят современные историки, это упоминание и есть искомый «хеттский отголосок» Троянского похода микенского царя Агамемнона, если угодно — прямое подтверждение реальности этого похода. Если принять это толкование, то наши поиски становятся излишними: мы, оказывается, давно нашли то, что искали; мы только не опознали найденное. Разумеется, такое разочаровывающе будничное завершение долгих поисков напоминает скорее сырое шипенье намокшего заряда, чем тот эффектный громовой взрыв, который от него ожидался, но что делать, если авторитетные специалисты думают именно так? Только развести руками. Хорошо еще, что мы выбрали в качестве представителя мнения большинства цитату из Майкла Вуда, который все-таки верит в реальность Троянской войны; много более авторитетный Шахермайр, к примеру, в это не верил и в свете новых данных считал, что Троянской войны не было вообще: «Илиада» — это переработка мифа о походе Геракла, а Троянский конь — это преобразованное воображением Гомера «Посейдоново чудище». Есть, однако, еще и мнение меньшинства, которое не согласно ни с Вудом, ни, тем более, с Шахермайром. Это меньшинство предлагает совершенно иное решение загадки Троянской войны, и этому меньшинству мы и предоставим сейчас, как давно обещали, последнее слово в нашем историческом расследовании. >ГЛАВА 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. НАРОДЫ МОРЯ Мы обещали в заключение предоставить слово тому меньшинству среди современных историков и лингвистов, занимающихся загадкой Троянской войны, которое энергично отстаивает свой особый взгляд на эту проблему. Судить об их правоте или неправоте мы, конечно, не сможем, но несомненную увлекательность возникающей из их рассуждений картины наверняка сумеем оценить. Начать хотя бы с того, что первые, кто во весь рост появляется на этой картине, — это те самые загадочные «северные варвары», о которых мы уже несколько раз говорили. Теперь мы, наконец, узнаем, кто они такие. Это — «народы моря», разгадке происхождения которых посвящены сотни исследований и десятки толстых научных книг. Их название восходит к двум египетским документам времен фараонов Мернепты и Рамзеса Третьего, один из которых правил в, 30-е годы XIII века до н. э., а второй — лет на сорок позже. Как сообщает рассказ Мернепты (точнее, его писца), на 5-й год правления этого фараона «пришли с моря народы» — лувийцы, шардана, ахейцы, турша, сикелы и многие другие — и пытались ворваться в Египет. Мернепта дал им бой и разгромил. На поле битвы осталось около двух с половиной тысяч пришельцев. Египтяне разделили убитых на два класса: обрезанных, как и они, — у этих они для счета отрубали одну руку, и необрезанных, у которых для счета отрубался пенис. Все эти руки и половые члены были свалены в кучу у ног фараона-победителя, как немецкие флаги некогда на Красной площади, и отсюда мы знаем, что необрезанных лувийцев и прочих было тысячи полторы, а все остальные были ахейцы (которые в ту пору, представьте, практиковали обряд обрезания). Благодаря историкам мы знаем также, что означают некоторые из упомянутых выше этнонимов: «шардана» — это балканский народ, который впоследствии заселил остров Сардиния, «турша» — это тирсены, поначалу северо-балканское племя, позднее переселившееся на юг Троады (о нем упоминает Гомер), после распада первой коалиции «народов моря» они мигрировали в Италию, где, по-видимому, дали начало этрускам; «сикелы» — будущие сицилийцы; ахейцы же нам знакомы — это микенские греки. Вся эта огромная масса племен, по мнению историков, двигалась с севера, из нынешней Фракии, сметая на своем пути прежние государства, в том числе Микены и Хатти, вынуждая к бегству одни народы (в это время началось великое переселение греков на периферию своего мира), обращая в рабство другие и увлекая за собой третьи. В документах из древнего ближневосточного города-государства Угарит сохранились письма от царя хеттов, который панически просит прислать ему на помощь угаритский флот, чтобы отбить нашествие варваров; известно (из египетских источников), что Мернепта послал царю Хатти пшеницу, чтобы прокормить население, оставшееся среди растоптанных полей; дипломатическая, переписка великих держав того времени запечатлела ощущение страха и судорожные попытки организовать совместный, отпор чудовищному потоку диких воинов на конях, повозках и идущих пешком. Попытки эти не увенчались успехом. Новое вторжение удалось лишь оттянуть — лет на тридцать, — но не предотвратить. На 5-й год правления Рамзеса Третьего, сообщает его стела, «народы моря» пришли вновь. На сей раз они окончательно сокрушили Хатти (впрочем, считается, что этому немало помогли внутренние распри), Арцаву, Аласию (Кипр), Угарит, полностью разорили микенскую Грецию и Крит, угрожали самому существованию Египта. Свою победу над ними Рамзес Третий считал главным достижением своей жизни. Он утверждал, что их вторжение было опасней гиксосского. В этот раз основу пришельцев составляли тевкры (из протофракийских племен, родственных троянцам) и пелашти; отброшенные Рамзесом от границ Египта, эти пелашти осели на восточном берегу Средиземного моря, дав название своей стране — Палестина, а сами стали теми «филистимлянами», что так хорошо известны Библии (там они называются «плиштим»); их культура (керамика, захоронения, обычаи) была во многом микенской, заимствованной по дороге; их предыстория связывает наш рассказ с предысторией евреев в Земле обетованной, но мы не будем сейчас отвлекаться в эту интереснейшую сторону (желающие могут обратиться, например, к книге копавших древнюю Филистию израильских археологов Моше Дотана и его жены Труды «Народы моря в поисках филистимлян», Нью-Йорк, 1993). Сейчас нам важнее узнать, что, оказывается, греческая традиция хранит некие смутные воспоминания о том, что когда-то в незапамятные времена ахейцы действительно вторгались в Египет и что это вторжение напрямую связано с Троянской войной! В поэмах догомеровского «Эпического цикла» рассказывается, что греки, взяв Трою, рассорились: Менелай обиделся на Агамемнона, отделился от главного отряда, вернувшегося на родину, и двинулся со своей дружиной в Египет, где был, однако, разбит. Гомер в «Одиссее» (песни 3 и 4), переиначивая тот же мотив, говорит, что на обратном пути из Трои буря занесла корабли Менелая в Египет, где он скитался целых 10 лет. В той же поэме, в песнях 13 и.14, Одиссей (уже на Итаке) рассказывает, будто во время своих скитаний пытался вторгнуться со своей дружиной в Египет, но был отогнан. И много позже Геродот собирает, повторяет и дополняет своими вымыслами все эти истории. По расчетам археологов, вторжение «северных варваров» в Грецию произошло примерно в 1240–1230 годах до н. э. — именно к этому времени относится появление керамики «варварского» стиля. Согласно египетской хронологии (она допускает несколько толкований, но здесь берется самая ранняя дата), первое вторжение «народов моря» произошло примерно в 1230 году. Главной ударной силой этого вторжения были ахейцы, видимо, примкнувшие к северным варварам, и жители южной Троады — турша, или тирсены. Что свело их вместе? Не могло ли быть так, осторожно спрашивают Гиндин и Цымбурский («Гомер и история восточного Средиземноморья»), что они объединились в Троаде, куда ахейцы вместе с другими северными варварами пришли для захвата Трои? Именно там, взяв город, разграбив и разрушив его, обретя дополнительных сильных союзников и гонимые мечтой о новых грабежах и новой добыче, ахейцы могли повернуть дальше на юг и, пройдя страну Хатти, ворваться в Египет фараона Мернепты. Если дело действительно обстояло так, то нельзя ли предположить, продолжают наши авторы, что это и был тот поход ахейцев, который много позже разросся в воображении потомков до размеров Троянской войны и последующей вооруженной высадки Менелая и Одиссея на египетских берегах? В таком случае придется признать, что Троянская война происходила не на взлете Микенского царства, а на его излете, когда оно уже рушилось под натиском северных варваров. Не случайно царствовавший именно в те времена Тудхалияс Четвертый велел вычеркнуть Ахияву из списка великих держав. И не случайно и Гомер, и народная традиция греков утверждают, что конец Троянского похода совпал с гибелью его царственных героев, распадом их царств и концом «героического века». Суммируя эти факты и предположения, сторонники новой гипотезы рисуют следующую, уже третью по счету, возможную картину событий (она третья, если первой считать блегеновскую трактовку Троянской войны как «похода на Трою-7а», а второй — новейшую трактовку этой же войны как «похода на Трою-6а»). В этой третьей трактовке никакой «великой» Троянской войны не было; а было вот что — где-то около 1240 года до н. э. Греция пережила первое нашествие северных варваров, резко ослабивших ее царства, но после их возвращения на Балканы предприняла попытку восстановить свои прежние позиции. Именно тогда царь Микен (Ахиявы) послал хеттскому царю Тудхалиясу Четвертому письмо с напоминанием договора о Вилусе; царь Хатти, однако, игнорировал это напоминание, и микенцы решили силой отвоевать Вилусу-Трою, но, увы, по ошибке высадились в Стране реки Сеха (Каик) и потерпели поражение. С этого момента начинаются их беспрестанные попытки расквитаться за позор, поэтому неудачную высадку у Сехи можно считать началом Троянской войны. В таких мелких попытках проходит почти 20 лет, но потом ахейцы все же добиваются своего благодаря помощи вновь пришедших в Грецию северных варваров, «народов моря». Объединившись с ними, они наконец захватывают Трою (по датам это Троя-7а, так как дело происходит примерно в 1230–1220 годах до н. э.), после чего движутся на Египет, где терпят поражение, откатываются и рассеиваются по берегам Средиземного моря. Этот уход из Греции множества ее самых отчаянных, предприимчивых молодых воинов (не забудем — только в бою с Мернептой их погибло свыше тысячи двухсот — огромное по тем временам число) окончательно ослабляет страну, и в образовавшийся вакуум вскоре вторгается новое северное племя, на сей раз родственное грекам, — дорийцы. Наступают «темные века» греческой истории. В отличие от двух первых гипотез, базирующихся в основном на археологических фактах, эта третья опирается преимущественно на факты лингвистические. Но нельзя не видеть, что и в этой схеме есть множество хронологических и прочих натяжек. В целом выводы из всего сказанного представляются, скорее, неутешительными. То, что во времена Шлимана казалось таким ясным и определенным, сегодня снова подернулось туманом зыбкой неопределенности. Хотя новейшая «археологическая гипотеза» объявляет «Троянской войной» поход ахейцев против Трои-6, она не исключает возможность их второго, крайне незначительного, похода против Трои-7а совместно с варварми. Со своей стороны, новейшая «лингвистическая гипотеза» считает подлинной «Троянской войной» именно этот поход (с ее точки зрения, единственный). А в схеме стоящего особняком Шахермайра никакого Троянского похода, как мы видели, не было вообще. Так что нам, скорее всего, так и не удастся до конца решить загадку этой воспетой Гомером войны — была она в действительности или нет? И если была, то когда? Пройдя по текстам Гомера, через данные археологических раскопок, тексты линейного письма Б хеттские клинописные документы, мы нигде не отыскали совершенно однозначных свидетельств «за» или «против» ее реальности. Каков же итог? Скорее всего, правы Гиндин и Цымбурский, когда заключают: «Видимо, слияние некого многовекового лейтмотива (прежних походов — Геракла или хеттской «Ахиявы» — на Трою. — Р.Н.) с порывом «бегства за моря», охватившим массы ахейцев после первого нашествия северных варваров и придавшим новому походу на Илион общеахейский размах, и породило тот грандиозный облик, какой обрела в памяти греков Троянская война». Та «Троянская война», что была, добавим, последней. Больше уже, если верить названию пьесы Жана Жироду, «Троянской войны не будет»… >Комментарии id="c_1">1 Самыми последними из этих книг по времени уже в наши дни стали многочисленные произведения, посвященные т. н. «теории разумного дизайна» («Intelligent Design», или ID). Этими словами ее создатели сокращенно называют утверждение, будто сложность живых существ и обнаруженное астрономией точное соответствие космических параметров всем требованиям возникновения разумной жизни якобы свидетельствуют о том, что космос был «сконструирован» (причем именно для появления жизни и человека) неким высшим Разумом, или Разумным Конструктором. С благословения сочувствующих этому тезису американских политиков-республиканцев, в том числе и самого президента Буша, эта теория, по сути возрождающая креационизм в новом обличье, сейчас внедряется в американские школы в качестве «научной» альтернативы теории эволюции. id="c_2">2 В еврейской системе летосчисления, изложенной в летописи «Седер Олам Рабба» и ведущей счет годам от Сотворения Мира, «баhарад» — сокращенное название для новолуния первого месяца от начала мироздания; это первое новолуние называется также «новолунием хаоса» (молад ТОРУ). id="c_3">3 Цепочка рава Элиягу Залмана замечательна и другими своими особенностями. Например, между «мэм» в слове «мишнэ» и «тав» в слове «тора» пропущено ровно 613 букв, что равно числу мицвот (заповедей) в Торе; первые буквы последних четырех слов стиха 11:9 — это «рэйш», «мэм», «бет» и «мэм», что складывается в «Рамбам»; один из стихов той же главы содержит дату «четырнадцатое нисана», что является днем рождения Рамбама; и, наконец, 49 — это священное для евреев число — количество дней Омер между праздниками Песах и Шавуот. Между прочим, рав Вейсмандель тоже обратил внимание на тот факт, что его буквенные цепочки «т-о-р-а» имеют пропуск в 49 букв. Правда, в последней цепочке пропуск на одну букву меньше, но рав Вейсмандель объяснил это тем, что последняя книга, «Дварим», рассказывает о смерти Моисея, а Моисей однажды согрешил перед Всевышним самовольным чудотворством, и за это перед ним была закрыта одна из дверей мудрости Торы. id="c_4">4 Первая (еврейская) буква этого слова — «хэй», что может означать «ha» — это определенный артикль. Вообще-то слово «ханука» (название еврейского религиозного праздника) пишется без такого артикля, но мы пока отложим разговор о том, почему оно в данном случае написано именно так. id="c_5">5 «Хашмонай» — представитель знаменитого в еврейской истории рода Хасмонеев, которые во II в. до н. э. возглавляли борьбу евреев за религиозную независимость; праздник Ханука был учрежден как раз в честь победы в этой войне. Отметим важный факт — то, что буквы второго слова («Хашмонай») не образовали вертикальный столбик, а идут по диагонали, связано с тем, что пропуск между ними другой: им нужна чуть более длинная окружность оборота нити, чтобы улечься друг под другом. Но если бы мы выбрали цилиндр с чуть большей окружностью, то не легли бы друг под другом буквы слова «hа-ханука». Два слова стали бы столбиками только при одной и той же длине оборота, т. е. если бы интервалы между буквами обоих слов были одинаковыми. id="c_6">6 Под наименованиями понимаются сокращенные прозвища, аббревиатуры или акронимы, с которыми те или иные еврейские мудрецы вошли в историю, — например, Рамбам или Маймонид (рав Моше бен Маймон), «Бейт-Исраэль» или просто «Бейт-Йуд» (так назвали рава Йосефа Каро по заглавию его важнейшей книги) и т. п. У некоторых мудрецов есть по 3–4 таких наименования. id="c_7">7 Например, одна и та же дата может быть словами записана как «шени бэ нисан», «бэ шени бэ нисан» и т. п. id="c_8">8 Сухие определения — такой-то век до н. э. — вряд ли способны создать правильное ощущение времени. Та «классическая эпоха» греческой истории, которую мы знаем из школьных учебников истории, — война греков с персами, Афины, Перикл, Парфенон, война Афин со Спартой — очень близка к нам, это V век до н. э. Гомер жил за 300–400 лет до возвышения Афин, а описанная им «героическая эпоха» имела место в совсем уж глубоком прошлом — за 800 лет до Перикла! Это лет на сто раньше еврейского Исхода из Египта и на 2000 лет раньше Киевской Руси. id="c_9">9 Сокровищам, которые Шлиман нашел в Микенах, повезло больше: они сохранились полностью, и сегодня каждый желающий может увидеть поразительной, красоты золотую маску Агамемнона в афинском музее. Стоит, однако, предупредить, что маска эта по мнению современных ученых, на несколько столетий старше гомеровского Агамемнона, даже если последний действительно существовал. Современный американский специалист проф. Калдер примерно 30 лет назад поставил вопрос, не является ли и эта находка Шлимана его фальсификацией: это вызвало продолжающуюся по сей день оживленную дискуссию; отчет о которой можно найти в журнале Archeology (т. 52. 4, 1999). id="c_10">10 Впоследствии ему и это лыко поставили в строку; в мае 1995-го тот же журнал «Археология» сообщил, что потомки Кальверта решили потребовать возвращения принадлежащих им по праву наследования двух золотых мечей, найденных Шлиманом на восточной оконечности холма Гиссарлык, принадлежавшей Франку Кальверту (он купил ее у оттоманских властей). В момент публикации сообщения мечи эти находились в Пушкинском музее. Чем кончилось дело, мне неизвестно. id="c_11">11 Много позже, в ходе раскопок 1930 года, золотые предметы были найдены и во многих других местах второго слоя, словно жители того давнего города бежали из него в панике, теряя на бегу драгоценности и пожитки: это, кстати, доказывает, что Шлимана, видимо, зря обвиняли в фальсификации сокровищ. id="c_12">12 Самое интересное во всей этой истории то, что спустя семьдесят с лишним лет греческие археологи обнаружили второй такой же круг гробниц, но уже вне стен крепости, снаружи от Львиных ворот — там, где некогда простирался древний город (внутри крепостных стен находились в древности лишь дворцовые постройки). Скорее всего, именно этот круг и был тем, который когда-то видел Павсаний. Так что в итоге оказалось, что Шлиман неправильно понял Павсания, но как раз эта ошибка и принесла ему сказочную удачу. id="c_13">13 Принятая сегодня хронология различает три главные эпохи греческой предыстории: ранний бронзовый век, 2800–1900 гг. до н. э.; средний бронзовый век, 1900–1600 гг. до н. э.; и поздний бронзовый век, 1600–1100 гг. до н. э.; далее начинается век железный. Эти абсолютные даты базируются на синхронности определенных критских и греческих находок с аналогичными находками в Древнем Египте и наоборот; египетская же хронология благодаря сохранившимся надписям известна с достаточной точностью. id="c_14">14 Уже в наши дни некоторые ученые выдвинули предположение, что причиной этой катастрофы могло быть знаменитое извержение вулкана на близлежащем острове Санторин, он же Тера (эта же катастрофа, по их мнению, положила начало мифу об утонувшей Атлантиде). Имеются, однако, убедительные основания считать, что это извержение произошло почти на столетие раньше. id="c_15">15 Любопытно, что следов микенской посуды почему-то почти нет на северо-западе, если не считать раскопанной Трои: здесь, видимо, не было других крупных городов, или же местные жители, будучи более воинственны, успешно отражали попытки ахейского проникновения. id="c_16">16 Некоторые хеттологи видят в «Аттариссии» прародителя микенских царей Дтрея, но, как указывают другие, такое отождествление противоречит законам хеттской и греческой фонетики. Л. Гиндин и В. Цымбурский отмечают, однако, что эти противоречия можно обойти, если принять, вслед за О. Семереньи, что хеттское «Аттарисий» не столько тождественно греческому «Атреус» по фонетическому звучанию, сколько передает тот же смысл («бесстрашный»), только на хеттский лад, поскольку восходит к анатолийскому корню «a-trs-io», имеющему значение «не знающий страха». ГЛАВА 3 КТО НАПИСАЛ ТОРУ Еврейская традиция утверждает, что все пять книг Торы были получены Моисеем на горе Синай от Господа Бога. Однако эти книги (а также весь библейский текст в целом) содержат столь большое число противоречий, разночтений и несогласований, что становится попросту невозможным приписать их авторство одному автору, даже божественному. Кто же тогда создал Библию? Попробуем рассказать, последовательно и связно, как отвечает на этот вопрос современная наука. Оговоримся, однако, сразу: речь пойдет не о привычной в христианском мире Библии, состоящей из двух частей — Ветхого и Нового Заветов, но о той только великой книге, которую христиане называют «Ветхим (т. е. Старым) Заветом», а евреи называют ТАНАХом (Тора, или «Закон», Невиим, или «Пророки» и Ктувим, или «Писания»). «Библией» (или «Книгами») ее впервые назвали эллинизированные евреи диаспоры в начале новой эры (прямо переводя на греческий раннееврейское название «а-сфарим», предшествовавшее слову «ТАНАХ»). Под этим названием она и вошла в европейскую культуру. Роль Библии в этой культуре огромна. По существу, она заложила ее нравственные и социальные основы. Неслучайно европейскую цивилизацию называют иудеохристианской. А поскольку европейская цивилизация оказала столь же огромное влияние на историю мира, то Библия стала книгой поистине мирового значения. Из нее выросло христианство. Из нее вырос ислам. Библия до сих пор остается самой читаемой книгой в мире и неизменно занимает первое место в списках бестселлеров. Но отношение к ней различных людей далеко не одинаково. Одни понимают ее буквально, другие аллегорически, третьи историко-культурно или нравственно. Одни считают ее Боговдохновленной, другие видят в ней человеческое творение. Одни живут по ее законам, другие изучают ее методами науки. Впрочем, последнее противопоставление не означает противоречия. Научное изучение Библии не направлено на подрыв веры. Оно не имеет целью доказательство существования или не существования Бога. Оно не нацелено на разжигание конфликта между религией и наукой или между верующими и неверующими людьми. Разумеется, как среди верующих, так и среди неверующих есть зашоренные люди, готовые крикливо навязывать другим свои крайние религиозные или атеистические взгляды. Спорить с такими людьми бесполезно. Они сами своими неумными нападками провоцируют и разжигают тот конфликт, против которого на словах выступают. У всякого серьезного верующего или атеиста знакомство с историей научного изучения Библии и достигнутыми на этом пути результатами вызывает лишь еще большее уважение к этой великой Книге. Оно углубляет понимание ее исторических и нравственных уроков. Оно является источником житейской мудрости и жизненной стойкости. Неслучайно у истоков научного изучения Библии стояли верующие люди, в том числе и евреи; да и сегодня многие, едва ли не большинство исследователей Библии являются представителями религиозных кругов. Эти занятия столь же мало подрывают их веру, сколь увлеченные и эффективные занятия наукой вообще — веру тех тысяч и тысяч современных ученых, которые остаются глубоко религиозными людьми. Со своей стороны, ни один серьезный ученый-атеист никогда не опускался до вульгарного «ниспровержения» великих религиозных идей, пронизывавших и определявших всю человеческую историю. Скорее наоборот: все они несли в душе и вдохновлялись своим, экзистенциальным эквивалентом таких идей. Будем надеяться, что все сказанное выше сразу же очертит наш подход к намеченной теме, и приступим к ней без дальнейших отлагательств. Научное изучение Библии (или, как его еще условно называют, «библейская критика») представляет собой, по существу, попытку ответить на один-единственный вопрос: кто написал Библию? В этом плане перед нами не что иное, как научный детектив, столь часто встречающийся в любых рассказах о науке. Как и всякий детектив, он начинается с загадок. Люди, внимательно читавшие Библию, не могли не заметить, что в ней встречаются многочисленные противоречия. Так, в рассказе о Сотворении Мира один раз (Бытие 1:20–27; здесь и в дальнейшем мы будем цитировать русский перевод, сверяя его с ивритским текстом; читатель, при желании, может произвести эту сверку и сам) говорится, что Бог сначала создал всех пресмыкающихся, животных и птиц, а затем человека — мужчину и женщину; а несколько ниже (Бытие 2:7; 2:18–22) утверждается, что Он сначала создал мужчину, затем всех животных и птиц и лишь после этого женщину. В рассказе о Потопе сначала говорится (Бытие 6:19), что Господь повелел Ною ввести в ковчег по паре из всех животных, а потом (Бытие 7:2–3) сообщается, что «чистых» (то есть пригодных для жертвы) животных и птиц велено взять по семи. И даже о самом Себе Господь (если считать Его первовдохновителем библейского текста) говорит на удивление противоречиво: в книге «Берешит» (Бытие 4:26) Он сообщает, что Его имя начали призывать (то есть произносить) уже в древнейшие времена, после рождения Адамова внука; а в книге «Шмот» (Исход 6:3) рассказывает Моисею, что это же Свое имя Он не открыл даже Аврааму, Ицхаку и Яакову. Таких примеров можно привести множества Верующие люди, читавшие эту книгу на протяжении столетий, не могли не задумываться над ними. Традиция учила их, что первые пять книг ТАНАХа, или Тора, были написаны Моисеем. Но читавшие не могли не видеть противоречий между этим утверждением и самим текстом. В тексте упоминаются многие события, о которых Моисей знать не мог. Рассказывается, например, о смерти Моисея. Говорится, что Моисей был самым скромным человеком на Земле. Трудно думать, что самый скромный человек на Земле станет говорить о себе, что он самый скромный человек на Земле. И так далее. Все это порождало законные недоумения. Мы знаем, что такие недоумения высказывались очень часто, — хотя бы потому, что уже в III в. н. э. христианский богослов Ориген написал специальный трактат, направленный против тех, кто сомневался в моисеевом авторстве. Он предложил разъяснения некоторых противоречий. Аналогичные разъяснения предлагали раввины. Они утверждали, что противоречия являются мнимыми и могут быть сняты с помощью дополнительных комментариев и интерпретаций. В частности, упоминание событий, о которых Моисей якобы не мог знать, объясняется тем, что Моисей был пророк, а текст Торы вдохновлен Богом. В подобных интерпретациях особенно были искусны великие еврейские комментаторы Раши и Нахманид. (Много позже Бабель с любовной иронией спародировал этот метод интерпретации в одном из своих «Одесских рассказов»: «Ночью… — читал Арье-Лейб. — Что говорит нам Раши? Раши говорит нам: ночью — это ночью и днем».) Были, однако, люди, которых не удовлетворяли такие способы решения загадок библейского текста. Принимая в целом авторство Моисея, они высказывали предположения, что в отдельных местах моисеев текст мог быть дополнен теми или иными фразами, вставленными более поздними переписчиками. Первым из известных нам людей такого рода был еврейский врач Ицхак Ибн Яхуш, живший в XI веке при дворе одного из мусульманских правителей Испании. Он обратил внимание на то, что в книге Бытия (36:31–39) перечисляются цари Эдома, жившие намного позже смерти Моисея. Неизвестно, почему его смутило именно это противоречие, но он высказал мысль, что данный перечень является более поздней вставкой. За это он был назван «Ицхаком-путаником». Назвал его так Авраам Ибн Эзра, испанский раввин XII века. Он даже добавил, что книга Ибн Яхуша «заслуживает сожжения». Но тот же Ибн Эзра в своих собственных сочинениях намекнул, что в ТАНАХе имеются фразы, которые никак не могли принадлежать Моисею: упоминания о Моисее в третьем лице; описание мест, где он никогда не бывал, и событий, которые случились после его смерти, и так далее. Ибн Эзра, однако, был осторожнее Ибн Яхуша. Он просто написал: «Тот, кто понимает, будет хранить молчание». В XIV веке ученый из Дамаска Бонфилс впервые высказал вслух дерзкое предположение, призванное разъяснить все упомянутые загадки: «Они являются свидетельством того, что эти фразы вписаны в Тору позже и не Моисеем; скорее их вписал какой-то более поздний пророк». В XV веке епископ Тостатус, развивая эту мысль, предположил, что этим более поздним автором был Йегошуа Бин-Нун, преемник Моисея и первый еврейский завоеватель Ханаана. Но столетием позже немецкий ученый Карлштадт обратил внимание на то, что описание моисеевой смерти излагается точно в том же стиле и тем же языком, что и весь остальной текст. А это делало затруднительным приписать «добавки» кому-либо другому. Его современник, фламандский католик Андреас ван Маес, и два иезуита, Перейра и Бонфрер, попытались преодолеть эту трудность, выдвинув гипотезу, что Моисею принадлежал только исходный текст Торы, но до нас дошел текст, слегка измененный какими-то более поздними «редакторами», которые своими вставками и. исправлениями пытались сделать его более понятным читателям. Книги этих авторов были немедленно запрещены католической цензурой. На третьем этапе этой истории — в XVII веке — английский философ Томас Гоббс выдвинул еще более радикальное предположение: основная часть текста Торы вообще не принадлежит Моисею. Гоббс собрал множество аргументов в пользу этого своего тезиса и изложил их в специальной книге, которая получила широкую известность среди читателей. Одновременно аналогичный тезис выдвинул и французский протестант Перьер. Ему повезло меньше, чем Гоббсу, — его книга была конфискована и сожжена, а сам он был арестован и купил свободу только ценой отречения от своих слов и перехода в католицизм. Но вскоре к мнению Гоббса и Перьера присоединился также Спиноза, Мало того, что он систематизировал все противоречия, найденные в библейском тексте его предшественниками, — он добавил к ним новые наблюдения. Он, например, обратил внимание на фразу (Второзаконие 34:10): «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей», — которая явно была написана кем-то, жившим через много лет или даже столетий после Моисея. Как известно, Спиноза был отлучен от иудаизма, а его книги были осуждены не только еврейскими раввинами, но также католиками и протестантами. Однако все эти преследования не могли, конечно, остановить пытливую мысль, и уже вскоре после осуждения трудов Спинозы французский католический священник Ришар Симон выступил со своей версией происхождения Торы — самой радикальной из всех, предлагавшихся до тех пор. Спиноза был первым, кто показал, что логические и композиционные несообразности в Торе представляют собой не изолированные, худо-бедно объяснимые противоречия, а систематическую особенность всего текста. На этом основании он предположил, что текст этот принадлежит не Моисею, а более поздним авторам, которые имели в своем распоряжении несколько старинных источников. Эта идея получила дальнейшее развитие у трех авторов следующего века — немецкого священника Виттера, французского врача Астрюка и немецкого историка Эйхгорна. Их книги сосредотачивались главным образом на анализе так называемых библейских дублетов. Под таким названием среди специалистов известны те места Торы, которые рассказываются в ней дважды. Таких эпизодов особенно много в ее первых книгах. Процесс Сотворения мира, история Потопа, заключение Богом завета с Авраамом, объяснение имени Ицхака, объявление Авраамом своей жены Сары сестрой, путешествие Яакова в Месопотамию, откровение Яакову. возле Бейт-Эля и изменение его имени На Исраэль, эпизод высекания Моисеем воды из скалы — все это и многое другое излагается в Торе в двух версиях, детали которых зачастую противоречат друг другу. Богословы — раввины и священники — не могли пройти мимо этих противоречий. Поэтому они объявили их мнимыми. Две версии дублета, разъясняли они, не противоречат, а дополняют друг друга. Тем самым они преподносят верующему более глубокий урок. Исследователи Библии не были удовлетворены этими разъяснениями. Они обратили внимание на странную закономерность. В большинстве дублетов различия между составляющими их версиями весьма устойчивы. Говоря о Боге, одна версия всегда использует слово «Элогим», другая всегда пользуется обозначением «Ягве». Вспомним, например, рассказ о Потопе. В шестой главе книги Бытия (Берешит) пятый стих открывается словами: «И увидел Ягве…», шестой: «И раскаялся Ягве…», седьмой: «И сказал Ягве…», восьмой заканчивается словами: «Перед очами Ягве». Но в стихе девятом уже говорится, что «…Ной ходил перед Элогим». Этот стих открывает длинный ряд других, до самого конца главы, в которых Бог именуется исключительно словом «Элогим». В них подробно излагается, какой ковчег «Элогим» повелел Ною построить и каких тварей в него взять: «…от всякой плоти по паре». После чего «сделал Ной все, как повелел ему Элогим». Однако следующая глава немедленно открывается повторением: «И сказал Ягве (!) Ною… всякого скота чистого (т. е. пригодного для жертвы. — Р.Н.) возьми по семи (!) пар…» Этот повтор продолжается вплоть до пятого стиха, где снова говорится, что «…сделал Ной все, что Ягве повелел ему», — после чего начинается отрывок, в котором Бог опять начинает именоваться словом «Элогим». Такие отрывки, повторяющие друг друга в разных выражениях и с разным наименованием Бога, чередуются вплоть до конца рассказа. Примем как гипотезу, что история Потопа — это искусная комбинация двух различных рассказов. Продолжается ли каждый из них также и в последующем тексте? Оказывается, да. Если продолжить сопоставление дублетов, то нетрудно заметить, что почти все они содержат те же две версии, четко различающиеся наименованиями Бога. И вот что интересно: если собрать по порядку все те куски текста, в которых Бог именуется «Ягве», то образуется вполне связный рассказ, повествующий о событиях от Сотворения мира до Исхода из Египта. А если собрать все куски, в которых Бог именуется «Элогим», получится другой связный рассказ, повествующий о тех же (!) событиях — от Сотворения мира до Исхода из Египта, — но уже по-своему, со своей стилистикой и своими особыми приметами. Эти различия не сводятся только к разным наименованиям Бога. Оба рассказа отличаются и другими устойчивыми разночтениями. В одном коренные жители Ханаана всегда называются аморитами, в другом — хананеянами. Один всегда именует пустыню, в которой евреи скитались после исхода из Египта, Хоревской, другой — Синайской. В одном имя моисеева тестя — Итро, в другом — Ховав. И так далее. Заслуга Виттера, Астрюка и Эйхгорна состояла в том, что они первыми заметили этот удивительный факт. Независимо друг от друга они выдвинули гипотезу, что по крайней мере первые две книги Пятикнижия являются контаминацией двух разных древних источников. В соответствии с разным наименованием Бога в этих источниках первый из них получил название «Ягвист», а второй — «Элогист». Для краткости их часто обозначают первыми буквами соответствующих слов — J и E. Их различие состоит не только в разных наименованиях Бога и других деталях. Как уже сказано, они отличаются и чисто литературно. «Ягвист» намного более талантливый писатель, чем «Элогист». Вот как характеризует его современный историк Драйвер: «Ягвист рассказывает свою историю, удивительно точно взвешивая необходимое количество деталей; его рассказ никогда не бывает затянут и всегда держит читателя в напряжении до самого конца. Он пишет легко, без усилий, избегая вычурных красот. Элогист, рассказывающий, по существу, те же истории, обнаруживает куда меньшую литературную искушенность». Вы можете сами оценить справедливость этой характеристики, перечитав, например, рассказ «Ягвиста» о сотворении мира и человека. Он начинается со второй половины четвертого стиха 5-й главы книги Бытия («В то время, когда Ягве создал небо и землю…») и кончается 25-м стихом той же главы («И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились»). Совершенно иначе, суше и пространней, повествует о том же вся 1-я глава той же книги и три первых стиха главы 2-й. Забавно, что на переходе между этими двумя рассказами обнаруживается своеобразная «связка», призванная как-то замаскировать повтор (начало четвертого стиха: «Вот происхождения неба и земли, при сотворении их»). Она явно принадлежит тому человеку, который «сшивал» оба повествования воедино. Современные специалисты условно называют его. «редактором» (хотя в этой роли могли, конечно, выступать несколько людей). «Редактор» был, несомненно, выдающимся специалистом своего дела — его сшивки и вставки с первого взгляда почти незаметны, их обнаружение требует кропотливой работы. Занимаясь ею, исследователи библейского текста вскоре обнаружили еще одну странную особенность. Выделив рассказ E, они обнаружили, что внутри него имеются свои дублеты! Текст «Элогиста» оказался, в свою очередь, распадающимся на два различных текста! «Редактор» (или редакторы) явно дополнили рассказ E вставками из какого-то третьего источника. Этот неизвестный источник был выявлен, прежде всего, по его особому содержанию. Хотя автор этого источника тоже именует Бога неизменным словом «Элогим», но его текст отличается от текста «Элогиста» резко повышенным интересом к наставлениям, заповедям, религиозным предписаниям и деталям священнической службы. Эти вопросы он излагает с большой подробностью и какой-то поистине «канцелярской» сухостью. Создается впечатление, что этот автор был священником-левитом. Исследователи, обнаружившие этот третий источник, назвали его поэтому «Жреческим», сокращенно P — от английского слова Priest. Последующий анализ показал, что «Жрецу» принадлежит весьма значительная часть, что раньше считалось принадлежащим «Элогисту», а в сумме, по всем четырем первым книгам Торы, — самый большой объем их текста, превосходящий источники J и собственно E, вместе взятые. Особенно велика доля P в третьей и четвертой книгах — «Ваикра» (в славянском переводе Библии — Левит) и Бэмидбар (Числа). Но источник P обширно представлен также и в первых двух книгах — Бытие и Исход. Здесь ему принадлежат прежде всего генеалогии Адама, Ноя, Авраама и так далее. Эти генеалогии «Жрец» неизменно начинает излюбленным оборотом: «Эле толдот…» («Вот родословие…»). У него есть и другие излюбленные словосочетания и целые фразы. Он, например, предпочитает пользоваться словом «ани» («я») вместо «анохи», которым пользуется источник E. Если «Элогист» называет Месопотамию Арам-Нагараим, то Жрец именует ее Паддан-Арам. Ему же принадлежит знаменитое «пру урву» («плодитесь и размножайтесь»). Тот рассказ о сотворении мира и человека, который занимает всю первую и три начальных стиха второй главы книги Бытия, тоже взят из источника P (а не E, как думали раньше). Это довольно суховатый рассказ, в котором Бог сначала создает животных, а потом людей — мужчину и женщину одновременно. У «Ягвиста» это излагается куда ярче и увлекательней: сначала Бог создает Адама, потом решает, что «нехорошо человеку быть одному», и пытается дать ему «помощника, соответственного ему», создает для этого животных, видит, что «для человека не нашлось помощника, подобного ему», и только тогда решает создать Еву из адамова ребра. «Редактор» почему-то предпочел в данном случае просто изложить оба рассказа по отдельности, соединив их лишь упомянутой выше короткой связкой. В других случаях он обычно «прослаивает» один рассказ кусками второго или третьего. Замечательный пример этого редакторского искусства дает история Потопа. Эта история изложена в книге Бытия, от пятого стиха 6-й главы до двадцать второго стиха 8-й. Она скомбинирована из двух источников. Мы приведем ее здесь частично. Текст одного источника будет приведен без всяких помет, текст другого будет дан в отдельных абзацах и отмечен скобками. Итак: «И увидел Ягве, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Ягве, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем. И сказал Ягве: истреблю с лица Земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Ягве. (Вот родословие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем: Ной ходил перед Элогим. Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Йафета. Но земля растлилась перед лицем Элогим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Элогим на землю… и сказал Элогим Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег… и введи также в ковчег из всякого скота… по паре… И сделал Ной все; как повелел ему Элогим, так он и сделал.) И сказал Ягве Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя Я увидел праведным предо Мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи пар… а из скота нечистого по две… Ной сделал все, что Ягве повелел ему. (Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю.) И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов их в ковчег от вод потопа. (И из птиц чистых и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся на земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Элогим повелел Ною.) Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. (В шестисотый год жизни ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день, разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей). (В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Йафет, сыновья Ноевы, и жена ноева, и три жены сынов его с ними… и все звери земли по роду их… И затворил Элогим за ним ковчег.) И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей… (…Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней.)» Думается, что и приведенного отрывка достаточно, чтобы сложить из двух его версий два отчетливо разных рассказа, каждый со своими подробностями, своими стилевыми особенностями и даже своей хронологией Потопа. Как читатель уже, наверное, догадался, первый рассказ принадлежит «Ягвисту», второй — «Жрецу». Эти два источника чередуются в книге Бытия и дальше. Собственно «Элогист» впервые появляется в ней только начиная с 20-й главы. Но сложности библейского текста не исчерпываются одним лишь наличием и взаимным проникновением этих трех источников. В середине XIX века немецкий ученый де Ветте опубликовал работу, в которой излагалась еще более революционная гипотеза. Детально изучив текстовые и лингвистические особенности пятой книги Торы, «Дварим» (в славянской Библии — Второзаконие), он пришел к выводу, что она резко отличается от первых четырех. В ней почти нет следов трех древнейших источников — J, E и Р, если не считать нескольких фраз в последних главах. Она написана совершенно иным языком. Ее лексика специфична. Ее автор пользуется иными излюбленными оборотами и повторяющимися фразами. Он заново рассказывает многие эпизоды, уже рассказанные в первых четырех книгах. С другой стороны, он во многом противоречит этим книгам. Даже некоторые формулировки Десяти Заповедей у него иные. Де Ветте выдвинул гипотезу, что Второзаконие представляет собой совершенно отдельный — четвертый — источник Торы. Он обозначил его буквой D (от Deuteronomion — названия книги в греческой Библии, что и означает «Второзаконие»). Итак, у Торы оказался не один автор, а целых четыре! Ее первые четыре книги представляют собой переплетение рассказов трех авторов — «Ягвиста» (J), «Элогиста» (Е) и «Жреца» (Р). Ее последняя книга — Дварим, или Второзаконие — написана четвертым автором (который условно обозначается буквой D). Все эти источники были объединены и связаны друг с другом неким «редактором» или несколькими редакторами, жившими намного позднее. Это утверждение, конечно, не является абсолютной истиной. Это всего лишь научная гипотеза. Но она основывается на множестве конкретных фактов и объясняет многие особенности текста ТАНАХа. Для того, чтобы её опровергнуть, нужно предложить другую гипотезу, которая согласовывалась бы с теми же фактами, но давала им другое объяснение. Пока что такую альтернативу не предложил никто. Исследователи, выступающие против «гипотезы четырех источников» (например, Кассуто или Кауфман), оспаривают ее отдельные положения, но не сам факт наличия в Торе нескольких различных рассказов. Однако гипотеза четырех источников далеко не исчерпывает всех проблем происхождения Торы. Она не отвечает на важнейший вопрос: кто был автором каждого из этих источников и когда они были написаны. Подчеркнем это слово — «написаны». Многие величайшие произведения древности имеют устную предысторию. Древнегреческие мифы столетиями передавались из уст в уста, прежде чем были записаны Гесиодом и Овидием. Та же судьба была и у поэмы о Гильгамеше. Можно думать, что рассказы «Ягвиста», «Элогиста» и «Жреца», составившие первые четыре книги Торы, тоже восходили к более древней устной традиции. Сказания о Сотворении мира, первых людях, Потопе, деяниях Праотцев и Исходе из Египта могли передаваться из одного поколения в другое, пока наконец «Ягвист», «Элогист» и «Жрец» не сложили из них связные рассказы — каждый по-своему, но все — об одном и том же. Попытки обнаружить эти древнейшие слои составляют важнейшую часть поисков современных исследователей. На этом пути достигнуты интересные результаты. Многие исследователи, например, склоняются сегодня к мысли, что некоторые элементы этой древней устной традиции могли действительно восходить к Моисею. Одним из таких элементов был, по всей видимости, перечень Десяти Заповедей. Мы поговорим об этих новейших изысканиях позднее. Сейчас нас интересует авторство и время создания Пятикнижия в том виде, в котором оно до нас дошло. Первыми к этому вопросу подступились немецкие исследователи XIX века Граф и Ватке. Граф пытался ответить на него, исходя из логических и хронологических особенностей библейского текста. Если какой-то из источников рассказывает о более поздних событиях, то он, очевидно, создан позже. Ему удалось найти ряд таких «ориентиров». Это позволило ему предложить возможную датировку всех четырех источников. По Графу, самыми древними были E и J; несколько более молодым — D; а самым поздним — P. Ватке, в отличие от Графа, датировал те же источники на основании их религиозных особенностей. Он исходил из представления, что иудаизм развивался от обожествления сил природы в сторону «духовно-этической» религии, а затем превратился в «священнический культ». Отыскав в каждом источнике приметы той или иной стадии такой эволюции, он пришел к выводу, что первыми возникли источники E и J, затем — D и последним — P. Эти работы были обобщены и продолжены крупнейшим библиеведом XIX века Юлиусом Вельхаузеном. В своих «Пролегоменах к истории Израиля» Вельхаузен свел воедино все найденные предшественниками доказательства гипотезы четырех источников и предложил собственный, более детальный и конкретный вариант их датировки. Он выдвинул предположение, что источники J и E сложились в эпоху, непосредственно предшествовавшую царствованию Саула и Давида; D был создан во времена царя Йошиягу, то есть незадолго до разрушения Первого храма; а P — уже после возвращения евреев из Вавилонского плена. Это предположение Вельхаузен подкрепил огромным множеством аргументов, учитывавших всю совокупность тогдашних знаний об истории древних евреев и эволюции их религии. Столь мощное обоснование позволило его теории продержаться несколько десятилетий, вплоть до середины XX века. Но сегодня она представляется во многом устарелой. Новые археологические и исторические данные привели к появлению более детальных и убедительных гипотез. Они реконструируют историю становления Торы, исходя из современных представлений о том мире, в котором она возникла. Эти представления помогают понять, когда и как это происходило. Сказанное означает, что для того, чтобы ответить на вопрос, кто написал ТАНАХ, нужно, прежде всего, отчетливо представить себе мир, его породивший. Попробуем воссоздать этот мир! Конечно, мы не будем пытаться воскресить здесь всю древнееврейскую историю. Ограничимся лишь теми фактами, которые необходимы для нашей цели. После смерти Моисея евреи, руководимые Йегошуа бин-Нуном, вторглись с востока в Ханаан и расселились здесь среди местных племен, отвоевав себе холмистое плоскогорье, тянувшееся с севера на юг, через Шхем и Хеврон. На западе их соседями были владевшие побережьем филистимляне и, чуть севернее, финикийцы; на севере их земли граничили с Сирией, на юге — с Эдомом. Весь этот регион в целом был зажат между двумя тогдашними сверхдержавами — Ассирией и Египтом. Евреи того времени жили в деревнях и небольших городах, занимаясь в основном земледелием и скотоводством, частично — ремеслом и торговлей. Они разделялись на 12 племен, или колен, каждое из которых владело собственной небольшой территорией. Тринадцатым было колено Леви, не имевшее собственного земельного надела, — его члены жили в городах других колен и, по традиции, составляли группу жрецов (или священников). Каждое колено имело собственных лидеров, которые в ту пору именовались «судьями». Во времена военной опасности они часто становились военачальниками своего колена. Кроме священников и судей (часто в одном лице), заметную роль в тогдашнем еврейском обществе играли еще и пророки («невиим»), вещавшие от имени Бога евреев. Этим Богом был Ягве. В некоторых отношениях он напоминал богов соседних с евреями ханаанейских племен. Эти племена были языческими. Пантеон их богов возглавлял Эль — верховный владыка, божество мужского пола. Эль не отождествлялся с какой-либо природной силой — он восседал во главе совета богов и объявлял их решения. Ягве тоже не отождествлялся с природными силами; но он не был и главой божественного пантеона. Его принципиальное отличие состояло в том, что Он был Один и представлял собой скорее Бога истории, которая, по убеждению евреев, развертывалась в соответствии с Его намерениями. Эпоха Судей завершилась во времена Самуила (Шмуэля). Самуил был одновременно судьей, священником и пророком. Он жил в городе Шило, который был тогда главным религиозным центром всех еврейских колен. Здесь хранилась так называемая «Скиния Завета», где находился Ковчег, внутри которого, как утверждала традиция, находились моисеевы скрижали с высеченными на них Десятью Заповедями. Религиозные церемонии в Шило отправляли священники, которые возводили свою родословную к самому Моисею. Во времена Самуила еврейские колена подверглись сильнейшему натиску филистимлян. Отразить этот натиск можно было только объединенными усилиями, и Самуил, уступая «воле народа», провозгласил полководца Саула первым общеизраильским царем. Так эпоха Судей сменилась эпохой Царей. Но израильская монархия не была абсолютной. Власть царя ограничивалась и уравновешивалась авторитетом священников и пророков. Царь нуждался в их поддержке и одобрении, поскольку религия в ту пору не была отделена от государственной власти. Она вообще не была отделена от всей жизни — в тогдашнем иврите еще не было даже особого слова для «религии». Авторитет Самуила был так велик, что когда Саул нарушил его предписания, пророк низложил его от имени Господа и помазал на царство Давида. А Саул вскоре пал в битве с филистимлянами. В отличие от Саула, принадлежавшего к колену Биньямина, Давид был родом из колена Йегуды. Это самое южное из израильских колен владело самой большой территорией, а воцарение Давида еще более усилило его роль. Давид понимал, что это может восстановить против него северные колена. Он не хотел также раздражать священников Шило во главе с Самуилом, которые оказали ему поддержку в борьбе с Саулом. Поэтому он предпринял ряд искусных шагов для упрочения единства своего царства. Он перенес свою столицу из Хеврона, который был главным городом колена Йегуды, в завоеванный у ханаанейского племени иевуситов Иерусалим. Этот город не принадлежал ни одному из колен, и его возвышение не могло никого обидеть. Сюда же он перенес и Ковчег Завета. Вторым шагом Давида было назначение сразу двух главных священников — одного с юга, другого — с севера. Представителем Йегуды был главный священник Хеврона Цадок; интересы северных колен представлял один из жрецов Шило — Авиатар. Заметим, что первосвященники Хеврона вели свою родословную не от Моисея, как жрецы Шило, а от Аарона, его брата. Назначение двух первосвященников было не только данью двум частям Давидова царства, северной и южной, но и своего рода религиозным компромиссом между двумя древними священническими традициями — Моисеевой и Аароновой. Наконец, Давид создал постоянную профессиональную армию, которая подчинялась только ему и делала его независимым от военачальников отдельных колен. С помощью этой армии он добился значительных военных успехов — завоевал Эдом, Моав, Аммон, часть Сирии и подчинил своей гегемонии Филистию. В результате он создал империю, простиравшуюся от Нила до Евфрата. Давид стал родоначальником одной из самых долговечных в истории династий. Евреи настолько привыкли к царям «из рода Давидова», что впоследствии приписали это происхождение даже мессии (а христиане — Христу). Давид вообще занимает особое место в еврейской истории, сравнимое разве что с местом Моисея. ТАНАХ отводит ему почти такой же объем текста. Судя по этому тексту, Давид был действительно выдающейся личностью — замечательным полководцем, мудрым государственным деятелем, талантливым певцом, музыкантом и стихотворцем. Выдающейся личностью был и его преемник Соломон. Но между ними была одна существенная разница. В то время как Давид делал все для объединения своего царства, Соломон посеял семена его распада. Именно этот распад, как считают современные исследователи, как раз. и стал толчком к созданию первых библейских книг. Сейчас мы поймем, кто именно, когда и почему их создал. Длительное правление Соломона (965–928 гг. до н. э.) стало кульминационным пунктом в истории единого древнееврейского государства. Оно оставило глубокий след не только в еврейской памяти. Арабский фольклор тоже до сих пор хранит многочисленные легенды и предания о великом «царе Сулеймане ибн Дауде» (мир с ними обоими!). Но в это же время были заложены предпосылки для распада государства евреев. Этот распад, по мнению современных исследователей, как раз и подготовил почву для возникновения первых книг ТАНАХа. Поэтому поговорим сначала об истории этого времени. Важнейший вклад в изучение политической истории Соломонова царства внес американский библиевед (тогда еще выпускник Гарвардского университета) Барух Гальперин. Его работа была продолжена другим американским еврейским исследователем — Ричардом Фридманом. Результаты их работы, основанные на тщательном изучении библейских источников, а также исторических и археологических материалов, позволяют восстановить детальную картину интересующих нас событий. Мы выберем из них лишь самые необходимые. Соломон продолжил политику централизации монархии, начатую его отцом Давидом. Еще до восшествия на престол ему пришлось выдержать борьбу с одним из старших сыновей Давида Адонией, которого поддерживал первосвященник из Шило Авиатар. На стороне Соломона в этой борьбе был второй Давидов первосвященник — Цадок из Хеврона. Победив Адонию, Соломон изгнал Авиатара из столицы. Вместе с Авиатаром впали в немилость и все другие священники из северных областей царства, которые возводили свою родословную к Моисею. Главной опорой Соломона стали священники из колена Йегуды, потомки Аарона, во главе с Цадоком. Этот передел священнической власти оказал важное влияние на последующие события. Еще более важным шагом на пути к централизации власти было строительство Иерусалимского Храма. Соломон построил его с помощью финикийского царя Хирама. За это он отдал ему двадцать городов в Галилее, то есть северных областей царства. Утрата галилейских городов нанесла еще один удар по интересам северных колен. Еще более серьезным ударом стала для них проведенная Соломоном административная реформа. Вместо древнего деления страны на уделы двенадцати колен Соломон ввел разделение на 12 новых округов, границы которых не совпадали с традиционными уделами. Каждый из этих округов насчитывал около 50–60 тысяч человек и был обложен своей податью, предназначенной на покрытие расходов по строительству Храма. Распределение этих податей было неравномерным: самыми тяжелыми были поборы с северных округов. Кроме того, Соломон впервые ввел систему постоянных налогов или «мисим». Как подсчитал историк Олбрайт, каждый округ в среднем должен был сдавать в царскую казну почти 10 тонн зерна, 900 быков и 3000 овец в год. Но опять-таки, послабления были сделаны для округов, населенных коленами Йегуды и Биньямина, а главная тяжесть налогов легла на северные колена. Эта несправедливость вызвала глухое брожение на севере царства. Свидетельством этого недовольства может служить следующий показательный факт: когда, после смерти Соломона, в северных округах вспыхнуло восстание, первым царским чиновником, которого убили восставшие, был сборщик «мисим». Стоит отметить и другой важный факт: глашатаем восстания был пророк Ахия а-Шилони, представитель униженного царем священничества из Шило. Восстание началось после того, как преемник Соломона Рехаваам отказался отменить повинности, возложенные его отцом на северные колена. Во главе восставших встал Йороваам из колена Эфраима. Как свидетельствует 3-я книга Царств (12:16), восставшие выдвинули лозунг «Нет нам доли в сыне Ишая (то есть у Давида. — Р.Н.) По шатрам своим, Израиль!» Результатом восстания было отпадение десяти северных колен от царства Давида — Соломона и образование ими особого, северного — Израильского — царства, на власть в котором Ахия помазал Йороваама. Власть Рехаваама оказалась ограниченной наделами колен Иуды и Биньямина, которые с этого времени стали называться Иудейским царством. Израиль был многолюднее Иудеи, но его население не было однородным: значительную его часть составляли ханаанские племена. Их религия была языческой, пантеон их богов — Элогим возглавлял Баал, сын Илу, родоначальника Элогим, и под влиянием хананеян поклонение Баалу, а также другие языческие обряды широко распространились также среди еврейского населения Израильского царства — куда шире, чем в Иудее, где монотеистическая вера в Ягве не имела таких примесей язычества. Эта политическая и религиозная неоднородность Израиля создавала неустойчивое положение, и Йороваам поспешил укрепить свою власть — как среди евреев, так и среди хананеян. Он провозгласил столицей царства город Шхем (во многом еще ханаанейский) и стал утверждать собственный вариант иудаизма, в котором традиционный для евреев культ Ягве сочетался с некоторыми чертами ханаанейских Элогим. Для этого Йороваам создал новые религиозные центры, установил новые даты праздников, назначил новых священников и ввел новые религиозные символы. Эта своеобразная, «израильская» версия общееврейской религии вводилась им, в частности, еще и для того, чтобы подданные его не должны были отправляться на праздники в Иерусалимский Храм — в царство Рехаваама. Новые религиозные центры были продуманно построены на северной и южной границах царства — в еврейском городе Дан и в ханаанейском (судя по названию) городе Бейт-Эль. Дата праздника Суккот была перенесена на месяц позже, чем в Иудее (что, кстати, опять же соответствовало древней северной традиции). И если в Иерусалимском Храме подножьем для незримо присутствующего в «святая святых» Ягве служили два позолоченных херувима (в виде четвероногих животных с человеческой головой и птичьими крыльями), то в храмах Бейт-Эля и Дана Господь незримо опирался на двух отлитых из золота молодых быков («тельцов»). Заметим, что это был также жест в сторону ханаанейских подданных Йороваама — их Эль-Баал обычно изображался в виде молодого бычка. Создавая для себя опору в виде новой религиозной знати, Йороваам руководствовался принципом «политических назначений» — он отобрал новых священников из лично преданных ему людей, а не из левитов Шило, считавших себя потомками Моисея. Эти левиты, из среды которых вышли такие люди, как Самуил, Авиатар и Ахия, помазавший Йороваама на царство, могли ожидать награды за свои заслуги перед Израилем; оттесненные в сторону новыми «назначенцами» царя, они, несомненно, ощутили себя жестоко ущемленными. Запомним и эту деталь — она нам вскоре пригодится. Пока же заключим: несмотря на все усилия Йороваама его царство осталось нестабильным. Ни одна из царских династий Израиля не продержалась дольше двух-трех поколений. Да и само Израильское царство просуществовало не более 200 лет. В 722 году до новой эры оно было разгромлено и покорено Ассирией. 23 тысячи человек были уведены в плен; остальные рассеялись; многие бежали в соседнюю Иудею. 10 северных колен прекратили свое существование. Иудейское царство продержалось еще свыше ста лет, непрерывно управлямое потомками Давида. Но в 586 году до н. э. пало и оно — на сей раз под натиском вавилонян. А теперь вернемся к созданию ТАНАХа. Сквозь первые четыре книги Торы (мы уже об этом говорили) струятся, то переплетаясь, то расходясь, два повествовательных потока — два рассказа, выдающие свои отличия многочисленными повторами, противоречиями и разночтениями. Они рассказывают об одних и тех же событиях: Сотворении Мира, первом Человеке и его сыновьях, о поколении Ноя и Потопе, о Праотцах и египетском рабстве, о Моисее, Исходе из рабства и даровании Торы — и это свидетельствует о наличии в их основе общей древней традиции, принадлежащей одному народу. Но каждый рассказ повествует об этих событиях несколько иначе, и эти различия оказываются устойчивыми сквозными приметами, позволяющими отделить один рассказ от другого. Главным таким различием обычно считают наименование Бога. Так, в одном лишь рассказе о сотворении мира одна версия 35 раз называет Бога словом «Элогим» — и ни разу не употребляет слово «Ягве»; другая 11 раз употребляет для этого слова «Ягве Господь» — и ни разу не прибегает к слову «Элогим». На этом основании эти рассказы приписываются двум разным авторам — «Элогисту» (Т) и «Ягвисту» (J). Но само по себе это обстоятельство еще не является решающим — современный израильский автор вполне мог бы в одних местах своей хроники нынешних событий называть премьера «Нетаниягу», а в других — «Биби». Однако две упомянутые версии Торы имеют и множество других отличий, не менее, а может быть, даже более показательных. В том же рассказе о Сотворении Мира одна версия перечисляет такой порядок создания живых существ: растения; животные; человек (мужчина и женщина), тогда как вторая утверждает, что порядок был иной: человек (мужчина); растения; животные; человек (женщина). Одна версия утверждает, что Ной взял в ковчег по паре всех живых существ, а другая говорит, что «чистых» существ было взято по семь пар. Одна версия различает между «чистыми» и «нечистыми» (непригодными для жертвы) животными; другая такого различия не проводит. Одна рассказывает, что Ной отправил на поиск суши ворона, другая называет голубя. В одной потоп продолжается год, в другой 40 дней и ночей. (Дж. Фрезер в своей книге «Фольклор в Ветхом Завете» уточняет, что в «Ягвистской» версии потоп продолжается 61 день, так как после прекращения ливней Ной проводит в ковчеге еще три недели, пока «земля не обсохла»; в версии же «Элогиста» рассказ о потопе, обработанный более поздним «Жрецом», утверждает, что наводнение и обсыхание суши длились 12 лунных месяцев и еще 10 дней, то есть в сумме 364 дня, что и составляет почти полный солнечный год; это многозначительное прибавление к лунному году 10 дней для получения солнечного свидетельствует, что во времена «Жреца» древние евреи уже научились исправлять ошибку лунного календаря, наблюдая за Солнцем.) Этот перечень можно было бы продолжать еще долго. Но главное уже очевидно. Оба рассказа не только различны, но и целостны в своем различии: каждый из них представляет собой не только обособленное, но и полное повествование, со своим наименованием и своей концепцией Бога, своими деталями, своим порядком событий и своей хронологией. В то же время, как уже сказано, оба они, вне всякого сомнения, принадлежат одному народу, древняя традиция которого сохранила общие воспоминания, общие легенды и сказания, общий тип религии и общий характер Закона. Таким образом, перед нами не столько два совершенно различных рассказа, сколько именно две версии единого национального эпоса. Напрашивается гипотеза, что они были созданы в двух частях одной и той же страны, населенной одним и тем же народом, сохранившим общую традицию, но разделенным обстоятельствами жизни и потому создавшим две версии одной и той же религии. И мы знаем, что в истории еврейского народа действительно был такой период, когда его земля была разделена на два царства, в каждом из которых создавалась и пестовалась своя, особая версия общенациональной религии, и если в одном из этих царств, Иудейском, строго сохранялся культ Ягве, централизованный в его столичном храме, то в другом, Израильском, этот культ был «разбавлен» заимствованиями из ханаанейского, язычески-антропоморфного культа Элогим. Поэтому наша гипотеза (разумеется, не наша собственная: она была впервые робко высказана уже первыми библиеведами, а впоследствии развита и обоснована современными исследователями), в сущности, сводится к предположению, что рассказ Ягвиста (или источник J) был создан в южном, или Иудейском, царстве, а рассказ Элогиста (или источник Т) — в северном, Израильском; объединение же этих версий в единый канонический текст Торы произошло, по всей видимости, в те времена, когда на территории древней Эрец-Исраэль оставалось уже только одно из этих царств (как известно, то была Иудея), то есть в период между завоеванием Израиля ассирийцами и захватом Иудеи вавилонянами. Сейчас мы увидим, что текст Торы подтверждает эту историческую гипотезу. Более того, текст этот дает возможность уточнить и время своего создания. В чем же состоят эти текстуальные подтверждения? Первым из них является различие некоторых географических особенностей. В рассказах «Ягвиста» праотец Авраам неизменно связывается с Хевроном. Хеврон был главным городом колена Йегуды, столицей Давида до завоевания Иерусалима, родиной первого главного священника Иудейского царства Цадока. Заключая завет с Авраамом, Бог (в данном случае Ягве) обещает его потомкам «землю от реки Египетской… до реки Евфрат» — а это именно те границы, до которых раздвинул свои владения Давид, основатель правящей династии Иудейского царства. Зато рассказ о том, как Некто (то ли сам Бог, то ли его ангел) боролся с праотцом Яаковом, благословил его и дал имя «Израиль», мы находим только у «Элогиста», как и должно быть, если этот источник родом из Израильского царства. В этом же источнике говорится, что «нарек Яаков имя месту тому: Пну-Эль, ибо, говорил он, я видел Элогим лицом к лицу» (Бытие 32:30); а Пну-Эль — это город, построенный Йероваамом в Израиле. Оба источника рассказывают о городе Шхеме (который Йороваам сделал столицей Израиля). При этом «Элогист» излагает историю его приобретения евреями следующим образом (Бытие 33:18–20): «Яаков, возвратившись из Месопотамии… пришел в город Шхем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, да котором раскинул шатер свой, у сынов Хамора, отца Шхемова, за сто монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Элогим». Напротив, «Ягвист» (рассказ которого начинается уже в следующем стихе) излагает ту же историю куда драматичнее и жестче (Бытие 34:1–31): «Шхем, сын Хамора, обесчестил дочь Яакова Дину и предложил жениться на ней, а сыны Яакова потребовали от него и всех шхемцев совершить обрезание и, воспользовавшись их недомоганием после операции, перебили их всех до единого и таким образом захватили этот город силой». Заметим, что инициаторами побоища были Шимон и Леви. Это тотчас отражается в еще одной — и принципиально важной для нас — особенности рассказа «Ягвиста». Речь идет о т. н. «пророческом благословении» Яакова своим сыновьям и внукам. Как известно, после завоевания Ханаана евреи расселились в нем двенадцатью коленами. Каждое из них выводило свою родословную от одного из потомков праотца Яакова. В рассказах Торы о рождении этих потомков, как правило, произносится благодарность Богу. В рассказе «Ягвиста» эта благодарность адресуется Ягве, в рассказе «Элогиста» — Элогим. Эпизоды Торы, в которых таким «адресатом» является Элогим, рассказывают о рождении Дана, Нафтали, Гада, Ашера, Иссахара, Звулона, Биньямина, Менаше и Эфраима (двое последних — сыновья Иосифа). Иными словами, вся группа «Элогим» называет имена лишь тех колен, которые составляли Израильское царство. Напротив, в рассказах, где воздается благодарность Ягве, говорится только о рождении Реувена, Шимона, Леви и Йегуды. Трое первых не получили собственных наделов (мы сейчас увидим, почему), причем колено Леви (левиты) рассеялось среди наделенных землею колен, и поэтому единственным сыном, получившим свою территорию, у «Ягвиста» оказывается Йегуда как и следует ожидать от источника, составленного в Иудейском царстве. Но «Ягвист» идет еще дальше: он пытается обосновать особую выделенность колена Йегуды. Такому обоснованию в тексте «Ягвиста» посвящен специальный эпизод (которого нет у «Элогиста»!) — уже упомянутое «пророческое благословение» Яакова. По древним обычаям, придававшим особое значение очередности рождения (вспомним борьбу за «первородство» между Ицхаком и Эсавом), наибольшую часть отцовского наследия (главное благословение) должен получить первый сын. Первенцем Яакова был Реувен. Но у «Ягвиста» Яаков на смертном одре говорит (Бытие 49:3–4): «Реувен, первенец мой!., ты… не будешь преимуществовать, ибо ты вошел на ложе отца твоего; ты осквернил постель мою» (иными словами, Реувен переспал с какой-то из отцовских наложниц). Казалось бы, теперь главное благословение должно перейти ко второму и третьему сыновьям: Шимону и Леви. Но «Ягвист» и этим сыновьям отказывает в таком преимуществе перед Йегудой; его Яаков продолжает (Бытие 49:5–7): «Шимон и Леви братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не внимет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа… проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа; разделю их… и рассею…» Иначе говоря, Шимон и Леви не получают наделов, потому что устроили побоище в Шхеме. В результате единственным (у «Ягвиста») достойным отцовского благословения остается Йегуда, и о нем Яаков у этого автора произносит знаменательные слова (Бытие 49:8): «Йегуда! тебя восхвалят братья твои… поклонятся тебе сыны отца твоего», что как раз и означает, в сущности, что все прочие потомки Яакова должны подчиниться главенству Йегуды, прародителя Давида и его династии, правившей в Иудейском царстве. Более того, «Ягвист» уже знает не только о воцарении этой династии, но и о ее будущем — далее Яаков говорит (Бытие 49:10): «Не отойдет скипетр от Йегуды и законодатель от чресл его…» (Этим «законодателем», скорее всего, является не сам Давид, а его преемник Соломон; как мы видели, именно он установил новое религиозное и административное законодательство). Итак, у «Ягвиста» первородство получает Йегуда — как и можно ожидать от автора, который выражает версию, сложившуюся в Иудее. Кто же получает первородство у «Элогиста»? В Торе рассказу «Ягвиста» о «пророческом благословении Яакова» (изложенному выше) предшествует рассказ о последних днях Яакова (Бытие 48:1–22), в котором Бог именуется только словом «Элогим». Рассказ этот, следовательно, принадлежит «Элогисту» — это его, «израильская», версия того же «благословения Яакова». Она решительно отличается от «иудейской» версии «Ягвиста». «Элогист» рассказывает, что к умирающему Яакову прибыл Иосиф со своими сыновьями Менаше и Биньямином, «и сказал Яаков Иосифу: Элогим явился мне в Лузе… и благословил меня и сказал: «…дам землю сию потомству твоему…» И ныне два сына твои, родившиеся в земле Египетской, мои они, Эфраим и Менаше, как Реувен и Шимон, будут мои… Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе…» Это поразительное благословение. По сути, «Элогист» утверждает, что Яаков приравнял Эфраима к Реувену, то есть к своему первенцу, и отдал ему удел Реувена. «Элогист» не просто сообщает об этом — опасаясь, что не все поймут его скрытый намек, он подчеркивает этот намек еще одной любопытной деталью, которую можно понять лишь в контексте самого намека: «И взял Иосиф Эфраима в правую руку свою против левой Израиля (т. е. Яакова. — Р.Н.), а Менаше в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Эфраима, хотя сей был меньший…» Иосиф, как бы говорит «Элогист», хотел, чтобы главное благословение деда получил, как и положено, первенец Менаше, но Яаков, в нарушение традиционного порядка, нарочно переменил руки и первым благословил Эфраима, тем самым именно ему отдав первородство Реувена; Иосиф пытался протестовать, но Яаков настоял на своем, сославшись на волю Элогим. По «Элогисту», таким образом, главным из еврейских колен является колено Эфраима. Теперь остается лишь напомнить, что колено Эфраима было родовым племенем ИЗРАИЛЬСКОГО царя Йороваама, и Шхем, столица ИЗРАИЛЬСКОГО царства, был расположен на холмах, находившихся в традиционном наделе этого же колена. Тот факт, что отец Эфраима, Иосиф, завещал похоронить себя в том же Шхеме, в уделе сына, думается, известен всем читателям. Упомянем поэтому только изящный — и полный смысла — каламбур, содержащийся в самом конце этого текста, где Яаков говорит через Иосифа его детям (Бытие 48:22): «Я даю тебе, преимущественно пред братьями твоими, один участок…» Этот каламбур совершенно исчезает в русском переводе Библии: в ивритском тексте («Берешит», мем-хет: кав-бет) здесь стоит: «…вэ-ани натати леха ШХЕМ ахад аль-ахиха…» «Шхем» здесь — и «преимущество» (от глагола «леашхим» — опережать), и название все той же израильской столицы. Все эти красноречивые разночтения убедительно свидетельствуют в пользу северного (израильского) происхождения «Элогиста» и южного (иудейского) происхождения «Ягвиста». К ним можно было бы добавить и другие примеры. У «Элогиста» самым главным и самым верным учеником Моисея является Йегошуа бин-Нун — из колена Эфраима; у «Ягвиста» единственным (из двенадцати посланных в Ханаан соглядатаев), который поощряет к походу, является Калев — из колена Йегуды, родоначальник будущих Калевитов, чьи земли в Иудее включали позднее город Хеврон. Каждый из двух этих авторов явно опирается на древние сказания, наиболее популярные в его земле, каждый стремится подчеркнуть заслуги и превосходство легендарных героев именно этой земли, каждый превозносит то племя (колено), которое дало начало правящей династии именно этого, а не другого царства. Иными словами, каждый из них отражает традицию одной из двух племенных групп, двух частей единой нации, на которые распался еврейский народ после возникновения Израильского и Иудейского царств. Одновременно каждый из авторов отражает политическую, социальную и религиозно-культовую реальность того царства, в котором он жил. Еще более пристальное чтение их рассказов дает нам возможность проникнуть в скрытые пласты той далекой реальности и понять, какие причины побудили обоих авторов к созданию этих текстов — со всеми теми знаменательными разночтениями, которые мы отметили выше. Такое чтение позволяет также обнаружить многозначительные и характерные черты самих рассказчиков и тем самым ощутить, в чем состояло их индивидуальное различие. Мы увидим все это, как только обратимся непосредственно к тексту. Гипотеза о том, что рассказ Пятикнижия, именующий Бога словом «Элогим», был составлен и записан в Израильском царстве, а рассказ «Ягвиста» — в Иудейском, выдвинута достаточно давно. Тогда же были предложены и те первые соображения в ее пользу, которые мы привели в предыдущей главе нашего сериала. В последние годы эти соображения были серьезно подкреплены уже упоминавшимся нами американским исследователем Ричардом Фридманом. Замечания Фридмана чрезвычайно любопытны и стоят отдельного рассказа. Они позволяют конкретизировать высказанную выше гипотезу. Свои рассуждения Фридман начинает с анализа загадочных особенностей «элогистского» рассказа о так называемом «золотом тельце». Рассказ этот выглядит у «Элогиста» следующим образом. Пока Моисей находился на горе Синай (получая от Бога начертанные им на скрижалях законы и заповеди), оставшийся внизу первосвященник Аарон собрал у людей золотые украшения и сделал из них «литого тельца». «И сказали люди: вот Элогим твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской». Аарон же провозгласил: «Завтра праздник Ягве». Назавтра действительно состоялся бурный праздник, в разгар которого в лагерь спустился Моисей. Его встретил верный Йегошуа Бин-Нун, который предупредил вождя, что в «стане слышен военный крик». Увидев, что евреи вернулись к идолопоклонству, Моисей в гневе разбил скрижали, уничтожил тельца и собрал вокруг себя колено Леви. Левиты организовали в лагере кровавую «чистку», в ходе которой было уничтожено около трех тысяч человек. Моисей же, со своей стороны, умолил благосклонного к нему Бога не губить «жестоковыйный» народ Израиля. Этот рассказ вызывает ряд вопросов. Почему народ впадает в ересь как раз в момент своего освобождения? Почему инициатором этой ереси оказывается Аарон — ведь он первосвященник Господа? Почему они называют золотого тельца «Элогим», а Аарон говорит о «празднике Ягве»? Почему на роль орудия наказания еретиков выбраны левиты? Почему Йегошуа Бин-Нун упоминается среди тех, кто не поддался ереси? Фридман предлагает убедительное объяснение всех этих загадок. Оно кажется тем более убедительным, что не требует никаких дополнительных гипотез, кроме той, что «Элогист» жил и писал в Израильском царстве. Действительно, вспомним особенности становления этого царства (о них тоже было рассказано в предыдущей главе). Основатель царства, Йороваам сразу же начал утверждать собственную версию культа Ягве. И первым же его шагом, сразу после освобождения от власти Иерусалима, было как раз создание двух храмов, в Дане и Бейт-Эле, в каждом из которых Бог (Элогим) незримо восседал на двух отлитых из золота «тельцах» (молодых быках). Таким образом, рассказ о «золотом тельце» в «элогистской» версии книги Исхода несет в себе все черты того, что в действительности происходило в Израильском царстве: сразу же после освобождения (от власти потомков Соломона) народ впал в религиозную ересь. Рассказ «Элогиста» о золотом тельце в действительности является замаскированным осуждением этой ереси. Автор этого рассказа искусно использовал одну из традиционных легенд своего народа, чтобы выразить свое отношение к религиозной реформе Йороваама. Понятно, что таким автором мог быть, скорее всего, человек, которого живо интересовало то, что происходило именно в Израильском царстве. Этот специфический интерес обнаруживается и во многих других местах «элогистского», текста. Мы уже рассказывали о том, как настойчиво «Элогист» подчеркивает роль колена Эфраима, к которому принадлежала правившая в Израильском царстве династия, как часто он упоминает Шхем, который был столицей этого царства (и находился на территории того же колена Эфраима), как много внимания уделяет Иосифу, отцу Эфраима, похороненному в том же Шхеме, как подробно описывает передачу Яаковом «первородства» от Реувена к Эфраиму, с какой ненавистью относится к введенным Соломоном налогам («мисим»), особенно сильно ударившим именно по коленам, составившим впоследствии Израильское царство. Теперь к этому перечню добавляется и благосклонное упоминание Йегошуа Бин-Нуна в рассказе «Элогиста» о золотом тельце — ведь Йегошуа тоже был родом из колена Эфраима и его могила тоже находилась в Шхеме! Все это вместе окончательно убеждает, что автором «элогистского» текста, скорее всего, действительно был житель Израильского царства. Нельзя ли его опознать? Фридман утверждает, что это отчасти возможно. Он выдвигает предположение, что этим автором был один из левитов города Шило — прежней (до Иерусалима) религиозной столицы еврейских колен. И вот как он это доказывает. При царе Давиде жрецы Шило чрезвычайно возвысились — из их круга вышел пророк Самуил, помазавший Давида в противовес Саулу; из их числа был и Авиатар, объявленный Давидом вторым иерусалимским первосвященником (наравне с Цадоком из Давидова Хеврона). При Соломоне, однако, жрецы Шило получили сильный удар: Авиатар был смещен со своего поста и изгнан из Иерусалима, и в результате левиты Шило потеряли свои места в иерусалимском Храме. Неудивительно, что они стали поддерживать сепаратистские стремления Йороваама — напомним, что инициатором восстания северных колен под руководством Йороваама был жрец из Шило, пророк Ахия. Сыграв такую роль в создании независимого Израильского царства, левиты Шило, несомненно, рассчитывали на благодарность Йороваама, но они ее не получили. Напротив, Йороваам перенес религиозный центр своего царства в Дан и Бейт-Эль, создал там новые храмы (с золотыми тельцами как подножьями незримого бога), а жрецами в этих храмах назначил не левитов Шило, а «лично знакомых ему» людей. Как было не намекнуть царю и народу на несправедливость такой политики? Как было не напомнить о заслугах левитов Шило? Как было не осудить религиозные реформы Йороваама, пусть и в замаскированной форме рассказа о золотом тельце? Более того, намекая современникам, о чем в действительности этот рассказ, автор ввел в него (для облегчения расшифровки) прямую цитату из речи Йороваама. Загадочная фраза поклонников золотого тельца «Это Элогим твой, Израиль» дословно повторяет слова Йороваама в Первой книге Царств, произнесенные им в момент освящения золотых тельцов Дана и Бейт-Эля. Но «Элогист» преследует своим рассказом и другие, уже чисто клановые цели. В этом рассказе снова и снова прославляется Моисей, спасший народ от гнева Господня, — а ведь левиты Шило вели свою родословную именно от Моисея. Есть в нем и другие примечательные детали. Как мы помним, инициатором ереси у «Элогиста» оказывается Аарон. На первый взгляд, странно, что главным еретиком объявляется первосвященник. Но если вспомнить, что левиты Шило наверняка ненавидели иерусалимского первосвященника Цадока, в пользу которого Соломон изгнал «их» Авиатара, а Цадок (как и другие левиты Хеврона) вел свою родословную от Аарона, то все становится на свои места: приписав Аарону зарождение ереси, «Элогист» заодно свел давние счеты со своими конкурентами из иудейского Иерусалима. Напротив, в той версии тех же синайских событий, которую излагает «Ягвист», нет ни слова о неприглядных поступках Аарона. Более того, у него вообще нет истории с золотым тельцом. Зато у него мы находим неприкрытый выпад против жрецов из Израильского царства — его вариант одной из главных заповедей гласит: «Не делайте себе богов литых» (Исход 34:17) — а ведь именно литые «боги» (точнее — подножья Бога) стояли в храмах Дана и Бейт-Эля. (У «Элогиста» та же заповедь звучит иначе: «Не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых» (Исход 20:23), что обращено не только против Йороваама, но и против Соломона, в Храме которого служившие аналогичными подножьями Бога херувимы были хотя и не «литыми», но позолоченными.) Эта религиозная распря вообще является одной из главных линий различия между двумя источниками. «Ягвист», например, превозносит важность Ковчега Завета, который был центральным и самым священным объектом Иерусалимского Храма, но даже не упоминает о Скинии Завета, сооруженной Моисеем; «Элогист», напротив, совершенно не упоминает о Ковчеге, зато подробно описывает устройство Скинии, перенесенной из Синая в Шило. «Ягвист» всячески превозносит Аарона; «Элогист» продолжает свои нападки на него, рассказывая в 12-й главе Книги Чисел историю о том, как Аарон и его сестра Мириам упрекали Моисея за то, что он взял себе в жены «Эфиоплянку», и как Господь разгневался за это на них и даже наказывает Мириам временной проказой (у «Ягвиста», понятно, нет и следов этого эпизода). «Ягвист» сообщает, что Бог сказал Моисею: «Я… иду вывести [народ мой] из земли сей [из Египта]» (Исход 3:8), тогда как у «Элогиста» Господь освобождает народ не сам, а поручает это Моисею: «Итак, пойди… и выведи из Египта народ мой» (Исход 3:10). Это разное отношение обоих авторов к Моисею и Аарону проявляется и еще в одном важном эпизоде — встрече Моисея с Богом у «несгораемого тернового куста», когда Бог открыл Моисею свое Имя. До сих пор мы для простоты говорили, что двух наших авторов отличают прежде всего различные наименования Бога, поэтому они так и называются: «Ягвист» и «Элогист». На самом деле это не вполне точно. В рассказе «Ягвиста» имя Ягве действительно проходит через весь текст от начала до конца. Но у «Элогиста» Бог называется «Элогим» только до Его встречи с Моисеем. А во время этой встречи, говорит «Элогист» (Исход 3:13–14): ««…сказал Моисей Элогим: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Элогим отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «Как Ему имя?» Что сказать мне им? И сказал Элогим: Я есмь Сущий /Ягве/» — или, на иврите, «эхье ашер эхье» («Я есть [пребуду], кто Я есть [пребуду]»). И далее: «Так скажи сынам Израилевым: Ягве [ «эхье»] Элогим послал меня к вам». С этого момента и далее Бог в рассказе «Элогиста» именуется Ягве-Элогим (или даже просто Ягве, как, например, в рассказе о золотом тельце, когда Аарон сразу же после «людей», только что называвших тельца словом «Элогим», говорит, указывая на того же тельца: «Завтра праздник Ягве». Этой постепенной смены имен еврейского Бога — Элогим, затем Ягве-Элогим и, наконец, просто Ягве — нет у «Ягвиста». У него вообще нет истории открытия Богом своего Имени Моисею. Как мы уже сказали, «Ягвист» не очень жалует Моисея. Если бы в нашем распоряжении была только его версия, роль Моисея в еврейской истории, возможно, вообще выглядела бы совершенно иначе. Для «Элогиста», напротив, Моисей — центральный персонаж этой истории. Бог к нему благосклонен больше, чем к кому-либо другому, включая Аарона, Бог посылает его вывести евреев из Египта, Бог именно ему открывает свое Имя. «Элогисту» важно подчеркнуть, что только со времен Моисея евреи узнали настоящее имя Господа. Но он допускает, что до этого времени Бога называли Элогим. Иными словами, он снова отдает дань традиции Израильского царства, где многие евреи под влиянием местных ханаанейцев поклонялись одновременно Ягве и Баалу (даже царь Йороваам, как мы видели, поставил у подножия Ягве «литых тельцов», то есть молодых быков, которые в ханаанской мифологии были символами Баала). «Ягвист», как мы видели, не знает всех этих уступок — для него Ягве есть Ягве, и свое Имя он впервые открыл евреям не через Моисея, а еще через праотца Авраама. Знаменательно, однако, что оба автора, в конечном счете, одинаково преданны одному и тому же Богу — еврейскому Ягве. Это говорит об их глубоком религиозном сходстве. Оба одинаково нетерпимы к ереси идолопоклонства и отступления от монотеизма, В сущности, их религиозные различия состоят лишь в том, что один старается возвысить Моисея и исподтишка бросить тень на Аарона, тогда как другой довольно мало и сухо говорит о Моисее, но Аарона в обиду дать не хочет; один осуждает иерусалимских золоченых херувимов, а другой — израильских «литых богов». Каждый использует для этого общую древнюю традицию, выбирая из нее удобные для его целей детали и опуская неудобные; но важнейшие, основополагающие элементы этой традиции (сотворение мира, потоп, история праотцев, исход из Египта) сохраняют оба. Особенно тщательно оба сохраняют — и особенно детально излагают — все, что относится к закону и заповедям. Это позволяет думать, что оба они — из сословия жрецов. И если верно предположение, что «Элогистом» был человек из Израильского царства, жрец из города Шило, считавший себя потомком Моисея, то следует, видимо, по аналогии предположить, что «Ягвистом» был (судя по всему, что мы теперь о нем знаем) человек из Иудейского царства, священник из рода хевронских жрецов, которые вели свою родословную от Аарона. Два левита — случайно ли это? Некоторые исследователи предлагают этому факту любопытное объяснение. Они выдвигают предположение, что основная масса еврейских колен так и осталась в Ханаане со времен праотцев, а в Египет ушло и там попало в рабство только колено Леви. Они основывают это предположение на том, что именно среди этого колена часто встречаются египетские имена типа Моше, Хофни и т. п. Возможно, они-то и создали культ Ягве и стали его истовыми поклонниками. Когда эти левиты вышли из Египта и, ведомые Моисеем и Аароном, устремились в Ханаан, то здесь они встретились со своими сородичами — поклонниками Элогим, уже поделившими между собой всю землю. В компенсацию за отсутствие территории они были сделаны жреческим сословием и в этом качестве стали утверждать среди остальных еврейских колен свой культ Ягве и его бескомпромиссно-суровый монотеизм. Это предположение подкрепляет выдвинутую выше гипотезу о том, что авторами первых записанных текстов Пятикнижия были, скорее всего, два Священника-левита, один («Ягвист») — из южного Иудейского царства, другой («Элогист») — из северного Израильского. В свою очередь, такая гипотеза объясняет, как мы видели, причину и характер сходств и различий обоих текстов. Но ни это предположение, ни упомянутая гипотеза еще не дают нам ответа на вопрос о том, когда жили эти люди. Кто из них был первым по времени автором, а кто вторым? Кто и когда объединил их тексты? Зачем это было сделано? И почему именно так, как мы сейчас видим, а не иначе? Чтобы ответить и на эти вопросы, нужно проделать еще один виток историко-детективного расследования. Поскольку Израильское царство было разрушено уже в 722 г. до н. э., «Элогист» жил, по-видимому, раньше этой даты. Его очевидный гнев против Йороваама как будто свидетельствует о том, что он писал во времена этого царя или вскоре после него, когда воспоминания о религиозных реформах Йороваама и разочарование в нем были еще свежи среди левитов Шило. Текст «Ягвиста» тоже не мог быть написан позже 722 г. до н. э. — в нем рассказывается о рассеянии колен Шимона и Леви, но ни словом не упоминается о таком важнейшем для евреев Иудейского царства событии, как падение соседнего Израильского царства и уведение в плен десяти северных колен. С другой стороны, в нем имеются нападки на религиозные реформы Йороваама («литые боги»); стало быть, автор уже знал об этих реформах, то есть жил после образования независимого Израильского царства, иными словами — позже 922 г. до н. э. Этот промежуток можно сузить, если обратить внимание на тот факт, что в рассказе «Ягвиста» излагается история Яакова и Эсава, причем последний назван родоначальником эдомитов. Эдом отделился от Иудеи и стал независимым Эдемским царством только при потомке Соломона, иудейском царе Иероаме, который правил между 848 и 842 гг. до н. э., и, стало быть, создание текста «Ягвиста» можно отнести к промежутку 848–722 гг. до н. э. Текст «Элогиста» датировать точнее невозможно — для этого в нем пока не найдено никаких дополнительных примет. Время его написания остается в промежутке между 922 г. до н. э. (когда распалось царство Соломона) и 722-м, когда пало Израильское царство. Существенно, что оба рассказа, при всех своих различиях, основаны на одних и тех же традициях (культ Ягве), упоминают, в общем-то, одни и те же события израильского прошлого (сотворение мира, потоп, приход евреев в Ханаан, исход из Египта) и повествуют об одних и тех же героях (праотцы, Иосиф, Моисей, Аарон). Это неудивительно. Оба они были созданы представителями одного и того же еврейского народа, говорившего на общем языке (иврите), поклонявшегося одному Богу (Ягве) и имевшего общие религиозные традиции и исторические воспоминания. Разной была лишь та окраска, которую придал всему этому каждый из авторов, его трактовка, расставленные им акценты. Кто из них был первым? Быть может, после распада единого царства в каждом из них, независимо друг от друга, возникла потребность создать свою национальную версию священной еврейской истории, связав ее с задачами возвеличения своего царства и принижения другого (а в случае «Элогиста» — еще и критикой своего царя). Но могло быть и так, что кто-то из них написал свой текст раньше, и этот текст, попав в руки другого (царства-то были соседями), побудил его ответить собственной версией. Можно было бы задаться и еще более трудным вопросом: а нельзя ли определить пол каждого автора? Исследователи задумывались и над этим. Относительно «Элогиста» они почти сразу пришли к выводу, что это наверняка был мужчина, потому что он, скорее всего, был жрецом из Шило, а жрецы в древнем Израиле были исключительно мужчинами. К тому же и вся тональность, вся авторская позиция этого текста выдает «мужской» взгляд. С «Ягвистом» дело обстоит сложнее. Не так давно известный американский историк Гарольд Блюм опубликовал работу под названием «Книга J», где утверждает, что создателем этой «Книги», то есть «Ягвистского» текста, была женщина — по его мнению, одна из дочерей царя Соломона (ибо только при царском дворе могли быть женщины с достаточным образованием и правами). Блюм подкрепляет свою гипотезу детальным стилистическим анализом текста, обнаруживая в нем «свойственную женщинам более тонкую иронию» и другие «женские» признаки. Более того, он предполагает, что этот «женский» текст был создан в ходе придворного «литературного соревнования» с аристократами-мужчинами, один из которых изложил те же события в своей, «мужской» версии — что и привело, по Блюму, к появлению текста «Элогиста». Доказательства Блюма не показались мне убедительными; его гипотеза о «шутливом соревновании» двух авторов представляется довольно несерьезной, ибо проходит «поверх» всех перечисленных выше (и куда более убедительных) примет принадлежности «Элогиста» к Израильскому царству, игнорируя те серьезные задачи и религиозные цели, которые его воодушевляли. Ричард Фридман, не присоединяясь к этой гипотезе, тоже не исключает, однако, что автором «Ягвистского» текста могла быть женщина: по его мнению, те симпатии к женской доле, которые «Ягвист» выражает в своем рассказе о Фамари, были бы свойственны скорее женщине, чем суровому древнееврейскому мужчине. Добавим, что некоторые исследователи Полагают, что у этих двух рассказов могло быть больше двух авторов. Они выделяют в этих текстах ряд отрывков, которые, по их мнению, принадлежат разным лицам, и говорят на этом основании о целой «школе Ягвиста» и «школе Элогиста». Но и эти гипотезы выглядят недостаточно убедительными, поэтому мы не будем на них останавливаться. Куда важнее напомнить в заключение, что оба эти текста являются, как мы знаем, частью целого — кто-то третий (или третьи) свел их воедино в текст Пятикнижия. Что руководило этими редакторами? Кем они были? Когда жили? Об этом можно только гадать — они оставили слишком мало следов. Прежде всего — почему они не ограничились каким-нибудь одним текстом, а предпочли свести воедино оба, невзирая на их противоречия, повторы и разночтения? Самое простое и разумное предположение на сей счет состоит в том, что оба текста, видимо, были достаточно известны среди современников редакторов и оба одинаково почитались священными. Нельзя было отбросить один (или какие-то его существенные части) и оставить второй, не оскорбив национальные и религиозные чувства какой-то части читателей, — даже если каждый из текстов противоречил другому в деталях и интенциях авторов. Оставить их существовать раздельно тоже было затруднительно — тогда какой из них читатели должны были считать «истинным»? Эти предположения интересны еще и тем, что приводят нас к вопросу о том, кто, собственно, были эти «читатели», которым предназначался объединенный таким способом текст. Поскольку «Элогист» в свое время явно адресовался жителям Израильского царства, а «Ягвист» — жителям Иудейского, то предположение, будто среди «читателей» единого текста были почитатели как той, так и другой версии, в сущности, означает, что объединение («редактирование») текстов происходило в среде, где наличествовали как «израильтяне», так и «иудеи». Было ли в еврейской истории время, когда существовала такая ситуация? Да, было. Археологические раскопки в Иерусалиме показали, среди прочего, что после падения Израильского царства население столицы Иудеи резко увеличилось. Это можно объяснить тем, что сюда хлынули беженцы из Израиля, спасавшиеся от нашествия ассирийцев. Они могли принести с собой и свою священную книгу — текст «Элогиста». Тогда-то и могла возникнуть обстановка, когда в одной и той же еврейской среде, теперь уже — среди жителей одного и того же царства, получили хождение два разных «священных» источника. А это могло побудить редакторов взяться за работу по их объединению — ведь, кроме всего, это способствовало бы объединению беженцев из Израиля с аборигенами Иудеи в единый, сплоченный общей Книгой народ. Эти соображения позволяют, таким образом, указать и примерное время жизни и работы редакторов: то был период после падения Израиля и до падения Иудеи, иными словами — промежуток между 722 и 587 гг. до н. э. Вот, в сущности, все, что современная библейская критика может предположить о времени создания и авторах двух первых текстов Пятикнижия — «Элогистского» и «Ягвистского». Но не меньше загадок содержат и два других его текста: «Жреческий» и «Второзаконие» (на иврите «Дварим»). Какие это загадки? Какие ответы на них предлагают новейшие исследования? В Пятикнижии история евреев доведена до прихода еврейских колен в Заиорданье и смерти Моисея. Эти события описаны в последней книге Торы — «Дварим» на иврите, «Deuteronomy» по-английски, «Второзаконие» по-старославянски. У этой книги есть свои особенности. В отличие от четырех предшествующих, в ней прямо указан ее автор — она начинается фразой: «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за Иорданом». Это обращение или завещание Моисея четко распадается на две части: «историческую» и «законодательную». В первой кратко повторяется история Исхода; во второй — вторично излагается Закон, то есть заповеди Господни. (Это вторичное изложение Закона и дало основание назвать Моисееву книгу «Второзаконием».) Это, однако, не вполне дословное повторение. Автор опускает некоторые заповеди, упомянутые в первых четырех книгах, зато вводит новые, ранее не упоминавшиеся. Одно из важнейших новшеств такого рода, усиленно подчеркиваемое в тексте, провозглашает запрет совершать жертвоприношения в произвольных местах. Эта новая заповедь появляется уже в начале «законодательной» части книги, в первых стихах 12-й главы: «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом… Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши и жертвы ваши». Видимо, этот запрет крайне важен для автора, потому что буквально через несколько фраз он снова напоминает (Вт. 12:13–14): «Берегитесь приносить всесожжения… на всяком месте… но на том только месте, которое изберет Господь». Самой распространенной целью жертвоприношений у древних евреев было освящение трапезы, прежде всего — мясной. Смысл обряда состоял, видимо, в напоминании, что такой трапезе неизбежно предшествует убийство какого-либо животного. Убийство не должно было восприниматься как заурядное действие, и потому оно было превращено в некий сакральный акт, производимый по определенному ритуалу, специальным лицом (священником-левитом, которому отдавалась часть жертвы) и в специальном месте. Судя по словам «Второзакония», в древнем Ханаане такие места («жертвенники») существовали около каждой деревни, и церемонией там руководили местные священники. Новая заповедь, провозглашенная во «Второзаконии», предписывает евреям уничтожить все эти местные жертвенники «на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом» и приносить жертвы в одном-единственном месте. Иными словами, речь идет о централизации культа. Последовали ли евреи этому предписанию? Не сразу. В эпоху Судей и во времена Объединенного царства (при Давиде и Соломоне) жертвоприношения «на высотах» (то есть на местах) все еще были обычными. Сохранялись они и во времена существования раздельных Израильского и Иудейского царств. Но падение Израиля в 722 г. до н. э., видимо, было истолковано в Иудее как «наказание за грехи» — за невыполнение заповедей, — и тогдашний иудейский царь Хизкиягу предпринял первую серьезную попытку искоренить обычай жертвоприношений «на высотах» и сконцентрировать все богослужение в иерусалимском Храме. Однако реформа Хизкиягу была недолговечной: его сын и внук восстановили в Иудее многие элементы идолопоклонства, включая жертвоприношения на местах. Намного более серьезной была религиозная реформа следующего иудейского царя — Йошиягу (640–609 гг. до н. э.). Историки расценивают ее. как подлинное национально-духовное возрождение. По приказу царя были разрушены идолы и очищен Храм. Жертвоприношения «на высотах» были категорически запрещены. Культ Ягве был заново централизован в Иерусалиме. Всем подданным было вменено в обязанность приносить свои жертвы только на храмовом алтаре. Все провинциальные лейиты были переведены в Иерусалим на должности прислужников при левитах Храма. Поскольку Иудея при Йошиягу в значительной мере освободилась от ассирийского господства и даже захватила часть прежних израильских земель, то реформы были проведены и там: как рассказывает 2-я книга Царей, Йошиягу лично прибыл в Бейт-Эль, чтобы сокрушить тамошние жертвенники, «истер их в мелкий прах и бросил в поток». Во всем. ТАНАХе только еще один человек поступил с идолами столь же сурово — то был Моисей, который не просто уничтожил золотого тельца, но «истер его в мелкий прах и швырнул в поток». Параллелизм поступков великого Моисея и царя-реформатора не ограничивается этим. Куда более глубоким и важным было то, что оба они принесли народу «Книгу Завета». Моисей принес ее с горы Синай; Йошиягу нашел в Храме. Та же 2-я книга Царей повествует, что на 18-м году царствования (т. е. в 622 г. до н. э.) царь приказал провести очистку Храма, и во время этой очистки первосвященник Хилкиягу обнаружил некую книгу, которую передал царскому писцу Шафану. «И читал Шафан ее перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои… и собрали к нему весь народ… и прочел им все слова книги завета, найденной в доме Господнем… и заключил перед лицом Господним завет — последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы… И весь народ вступил в завет». Трижды повторенное слово «завет» не оставляет сомнений, что речь идет о повторении той великой церемонии, которая некогда произошла у горы Синай, где еврейский народ впервые целиком вступил в Завет с Господом. Вновь найденная «книга закона» возродила этот Завет. Ее обнаружение и последующая церемония общенародной клятвы в верности Господу стали сильнейшим стимулом ко всей религиозной реформе Йошиягу. Что же представляла собой эта загадочная книга? Историки давно уже выдвинули предположение, что этой книгой было «Второзаконие». Действительно, как мы помним, «Второзаконие» представляет собой «слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам». Но в ней самой указывается, что, вписав свои слова в эту книгу, Моисей приказал левитам: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную у ковчега завета…» После завоевания Иерусалима и создания Храма ковчег был перенесен туда и помещен в Святая Святых. И именно в Храме первосвященник Хилкиягу обнаружил свою «книгу закона». Моисей во «Второзаконии» адресует свою книгу тем поколениям израильтян, которые «развратятся» и «уклонятся» от завещанного им пути, за что их «постигнут бедствия», — и книга Хилкиягу найдена именно в те времена, как бы специально для того, чтобы вернуть евреев на правильный путь. Эти совпадения слишком знаменательны, чтобы счесть их случайными. Практически все сегодня согласны, что «Книгой Завета» царя Йошиягу является «Второзаконие». Это, однако, не предрешает вопроса о ее авторстве. Вокруг этого вопроса идут давние споры. Я уже говорил, что сомнения в Моисеевом авторстве Пятикнижия высказывались еще в средние века. Эти сомнения распространялись и на «Второзаконие». В 1805 году немецкий ученый де Ветте предположил, что эта книга была написана не Моисеем, а кем-то из приближенных царя Йошиягу с нарочитой целью побудить к проведению религиозной реформы и дать ей впечатляющее сакральное обоснование. Действительно, трудно представить более впечатляющее для народного воображения событие, чем находка древнего свитка Закона, написанного самим Моисеем и в первых же словах призывающего к прекращению жертвоприношений «на высотах» и к централизации всех культовых церемоний в Храме. «И более выгодное для царя и левитов Храма», — добавлял де Ветте. По мнению немецкого историка, «Второзаконие» было «благочестивой подделкой», обманом, совершенным в благих целях, творением самого Хилкиягу или писца Шафана, а то и целой группы придворных, окружавших и направлявших молодого (26-летнего в ту пору) царя. Теория де Ветте подверглась основательной критике. Окончательный удар по ней нанес в 1943 году другой немецкий ученый Мартин Нот. Он обратил внимание на поразительно тесную связь между «Второзаконием» и шестью последующими, чисто историческими хрониками ТАНАХа — книгами Йегошуа бин-Нуна, Судей, 1-й и 2-й Самуила, 1-й и 2-й Царей. «Второзаконие» завершается смертью Моисея в Заиорданье, «напротив Иерихона», а книга Йегошуа бин-Нуна начинается с перехода евреями Иордана и завоевания Иерихона. «Второзаконие» пронизано предсказаниями тех событий, которые осуществляются в исторических хрониках, описывающих последующие столетия. Его законодательные предписания излагаются как назидания на будущее («Когда вы овладеете этой землей…» — делайте то-то и то-то; «Когда вы отвернетесь от Господа..» — вас постигнет-то-то и то-то; «Когда Господь, Бог ваш, рассеет вас среди других народов…» — это будет наказанием за то-то и то-то). Иными словами, «Второзаконие» в целом имеет характер своеобразного исторического пророчества, некоего сквозного мотива всей дальнейшей еврейской истории, описанной в шести книгах танаховских «хроник». Но его связь с этими хрониками оказывается намного глубже. «Второзаконие» объединяет с ними не только преемственность и непрерывность рассказа, но также единство стиля и многих лингвистических особенностей. Все эти семь книг связаны цельной и целенаправленной композиционной структурой: «Второзаконие» занимает в ней место исторического и идейного предисловия, хроники — место «собственно содержания», призванного проиллюстрировать провозглашенную в предисловии центральную идею: все происходящее с еврейским народом обусловлено (и объясняется) исполнением или неисполнением Божественных заповедей. Неслучайно все древнееврейские цари, от Саула и до Йошиягу, оцениваются в «хрониках» исключительно с этой точки зрения. (При этом обо всех них сказано, что они «творили зло перед лицом Господа»; не обойден даже Соломон (его царство распалось «за грехи его»); и исключение сделано только для троих — Давида, Хизкиягу и Йошиягу: первый удостоился особого, «индивидуального завета с Господом, по которому его династия «пребудет вечно»», независимо от прегрешений давидовых потомков; о втором уважительно сказано, что он «ходил путями Господними»; а третий, как мы видели, вообще приравнен к Моисею, ибо только о нем, как и о Моисее, сказано: «Подобного ему не было прежде его… и после него не восстал подобный ему».) Все эти факты побудили Нота высказать гипотезу, что указанные семь книг ТАНАХа образуют единый цикл, принадлежащий одному и тому же автору. Этот свод из семи книг («Второзаконие» плюс шесть «хроник») Нот предложил называть «Дейтерономистской историей», а ее неведомого автора — «Дейтерономистом» (или, сокращенно, D). Разумеется, Нот не мог отрицать, что в этом своде имеются многочисленные вкрапления других авторов. Детальность рассказа о приключениях Давида до его вступления на трон выдает в его авторе человека, близкого к Давиду; многие разделы книг пророка Самуила, по мнению специалистов, принадлежат особому автору. Тем не менее, «Дейтерономистская история» в целом демонстрирует почти очевидные признаки того, что она является произведением одного гения. Этот неведомый автор обработал все доступные ему прежние источники и рассказы таким образом, чтобы они служили раскрытию его центральной идеи, пронизывающей, одушевляющей, организующей и осмысляющей эту грандиозную эпопею национальной истории. Желая утвердить эту идею в сознании единоплеменников, он умышленно приписал ее авторство и авторитет великому Моисею, любимцу Господа. Именно поэтому он предпослал всему своему циклу «предисловие» в виде книги «Второзакония». Эта книга была для него главной, важнейшей книгой цикла, где он изложил свое представление о сквозном законе еврейской истории. Возможно, пишет Нот в заключение, это вообще была его единственная собственная книга — во всем остальном цикле он выступал, скорее, как гениальный составитель и редактор, отбирающий и соединяющий чужие источники так, чтобы наиболее ярко и убедительно проиллюстрировать неумолимое действие этого закона в реальной истории еврейского народа. Эта гипотеза Мартина Нота, утверждающая, что «Второзаконие» вместе с шестью последующими книгами исторических хроник ТАНАХа образует единую «Дейтерономистскую историю», принадлежащую одному автору, получила подтверждение и развитие в работах двух других современных исследователей — американцев Франка Гросса и Баруха Гальперина. Эти работы позволили не только установить время создания грандиозного «Дейтерономистского цикла», но и высказать предположение о личности его автора. Кто же был этим загадочным «автором»? Когда он жил? И могло ли быть, что имя столь гениального писателя, создателя грандиозной общенациональной эпопеи, не сохранилось в еврейской истории? Несколько выше мы говорили о том, что автор этот подчиняет весь свой цикл доказательству некой общей религиозной идеи: судьбы еврейского народа зависят от исполнения или неисполнения им «Господних заповедей». Этот критерий он прилагает и к оценке деятельности различных царей, о которых рассказывает в своих «хрониках». Почти все эти правители получают у автора однообразно-негативную оценку: «И делал он неугодное в очах Господа». Только для двух (не считая Давида) сделано исключение. Это Хизкиягу, правивший в Иудее во времена падения Израильского царства (727–696 гг. до н. э.), и его правнук Йошиягу, время правления которого (640–609 гг. до н, э.) непосредственно предшествовало падению самой Иудеи под натиском вавилонян. Об этих правителях одобрительно говорится: «И делал он угодное в очах Господних». Объяснить эту исключительность политическими успехами обоих царей невозможно: хотя каждый из них пытался проводить независимую политику и предпринимал попытки расширения Иудеи за счет бывшего Израиля, обе эти попытки закончились плачевно: Иерусалим при Хизкиягу был осажден ассирийцами Санхериба, отступившими только после получения огромной дани и признания зависимости Иудеи от Ассирии, а выступление Йошиягу против ассирийцев (уже во времена их борьбы с вавилонянами) завершилось гибелью самого царя в сражении при Мегиддо; через 4 года после этого победоносные вавилоняне вторглись в Иудею, а еще через 20 лет полностью завоевали ее и ликвидировали давидову династию, которой Ягве, по утверждению автора «Дейтерономистской истории», обещал вечное правление. Последний царь этой династии Цидкиягу был ослеплен и вместе с основной частью народа отправлен в вавилонский плен, его дети были убиты, а Иерусалимский Храм разрушен. Даже самый патриотически настроенный автор вряд ли назвал бы «угодными Господу» эти несчастливые политические затеи, навлекшие на страну разрушения и беды. Несомненно, особое отношение «Дейтерономиста» к Хизкиягу и Йошиягу продиктовано иными причинами. И, действительно, в его рассказе о них основное внимание уделяется не столько политическим акциям обоих царей, сколько инициированным ими религиозным реформам. Этот рассказ рисует Хизкиягу и Йошиягу решительными и последовательными борцами против местных культовых традиций и за централизацию культа Ягве, то есть исполнителями той заповеди, которую особенно настойчиво подчеркивает «Второзаконие» («Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом… не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите… жертвы ваши»). Это делает понятным, почему «Дейтерономист» восхваляет именно тех двух царей, которые предприняли религиозную реформу, направленную на такую централизацию. Гросс обратил внимание на тот факт, что из этих двух любимцев автора Йошиягу выделен особо. В историческом цикле «Дейтерономиста» ему отведено поистине выдающееся место. Его религиозным реформам посвящены две полные главы этого цикла (22-я и 23-я во 2-й книге Царств). Ой постоянно сравнивается с самим Моисеем. Только о них двух в ТАНАХе сказано — и притом подчеркнуто одинаковыми словами — что они «возлюбили Господа всем сердцем своим и всей душою своею, и всеми силами своими». Только о них двух сказано — и опять подчеркнуто одинаковыми словами, — что «подобного ему не было прежде его… и после него не восстал подобный ему». Но Гросс подметил и еще одно, вовсе уникальное свидетельство особого внимания «Дейтерономиста» к личности Йошиягу. Речь идет о пророчестве, произнесенном за 300 лет до воцарения этого правителя Иудеи, еще во времена первого израильского царя Йороваама. Едва отделившись от Иудеи, этот царь воздвиг — в противовес Иерусалимскому Храму — в Бейт-Эле и Дане собственные святилища Ягве. 1-я книга Царств, рассказывая об этом, событии, внезапно прерывает свое повествование, дабы сообщить, что в этот момент «человек Божий пришел из Иудеи в Бейт-Эль… и произнес слово Господне, и сказал: жертвенник! жертвенник!.. вот, родится сын дому Давидову, имя ему Йошиягу, и принесет на тебе в жертву священников высот… и человеческие кости сожжет на тебе». Это прямое называние ИМЕНИ будущего царя и само по себе уникально: ему нет аналогов во всем ТАНАХе. Но еще более поразительно, что спустя несколько десятков страниц и, как уже сказано, триста лет во второй Книге Царств, рассказывая о временах Йошиягу, автор специально упоминает об исполнении древнего пророчества: «Также и жертвенник в Бейт-Эле, высоту, устроенную Йороваамом… он разрушил… и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике… по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, ПРЕДРЕКШИЙ СОБЫТИЯ СИИ». С помощью этой явно продуманной связки «Дейтерономист» представляет еврейскую историю от времен Йороваама до эпохи Йошиягу. как предвестие религиозных реформ этого последнего. Все эти детали побудили Гросса еще в 1973 году предположить, что автор «Дейтерономистской истории» жил и творил именно во времена Йошиягу и был страстно заинтересован в успехе его религиозной реформы, считая ее (в общем духе своего понимания законов еврейской истории) судьбоносной для еврейского народа. Однако другой американский исследователь, Эрнест Райт, подверг эту гипотезу резкой критике. Он указал на тот факт, что в «Дейтерономистской истории» изложение доведено до гибели давидовой династии, а это не согласуется с проходящим сквозь все книги этого цикла утверждением, будто Господь обещал «дому Давида» вечное правление. Критика Райта побудила Гросса уточнить свою гипотезу. В последующих работах он предположил, что у «Дейтерономистской истории» было два автора. Первый действительно жил во времена Йошиягу, когда еще не были ясны ни судьба затеянной царем религиозной реформы, ни судьба самой давидовой династии, второй же, по мнению Гросса, дописывал печальный конец этого цикла уже в Вавилонском плену, не очень заботясь (в силу трагических обстоятельств) о том, чтобы согласовать и «причесать» весь текст лод одну гребенку. В такой видоизмененной форме гипотеза Гросса была принята большинством современных исследователей ТАНАХа, и сегодня мы можем говорить, что новейшая библеистика признает неведомого первого «Дейтерономиста» современником царя Йошиягу. Тем самым она принимает за данность, что «Второзаконие» и примыкающий к нему цикл исторических «хроник» были собраны, обработаны и частично заново написаны одним человеком, жившим в самом конце VII в. до н. э., за каких-нибудь два десятилетия до разрушения Первого Храма и гибели давидовой династии. Быть может, он даже успел дожить до этих страшных событий, похоронивших все его мечты и надежды на религиозное обновление еврейского народа. А мечты и надежды эти были, бесспорно, пламенно сильными — недаром же он сравнивал своего героя, царя Йошиягу, с величайшим еврейским религиозным реформатором всех времен — самим Моисеем… Эта пламенная религиозная пылкость сближает «Дейтерономиста» с самыми выдающимися еврейскими пророками. Не среди них следует ли его искать? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к результатам другого исследователя «Дейтерономистского цикла» — уже упомянутого выше Баруха Гальперина. Эти результаты позволяют еще более сузить тот круг людей, из которого вышел первый «Дейтерономист». Работа Гальперина была опубликована в 1974 году, когда этот молодой ученый только оканчивал Гарвардский университет. В своей работе, посвященной «Второзаконию», Гальперин собрал ряд неоспоримых фактов, свидетельствующих о том, что главная, «законодательная» часть книги (главы 12–26) восходит к источникам, которые, по всей видимости, сложились намного раньше эпохи Йошиягу, возможно, даже за столетия до этой эпохи. Многие ее предписания отражают обычаи намного более древних времен, в некоторых случаях — даже более ранних, чем времена Объединенного царства. Например, перечисленные там законы призыва народа на войну соответствуют системе всеобщей мобилизации колен, характерной для эпохи Судей: с появлением у евреев царей ополчения отдельных колен были заменены профессиональной царской армией. Но с этими древними предписаниями соседствуют другие, явно выдающие свое более позднее происхождение, — например, настойчиво подчеркиваемый и страстный призыв к борьбе с местными культами (жертвенниками на «высотах»). Иными словами, «Второзаконие» имеет более сложный характер, чем полагали прежние исследователи: древний источник здесь включен в более позднюю общую рамку, созданную, судя по всему, уже во времена борьбы за централизацию культа Ягве. Анализируя эту рамку, Гальперин пришел к выводу, что книга в целом, судя по всему, была написана во времена Йошиягу, что подтверждает гипотезу Гросса. Далее, однако, Гальперину удалось продвинуться намного ближе к загадке авторства «Второзакония» — а стало быть, если верить Ноту, и всего «Дейтерономистского цикла». Он обратил внимание на то, что более поздние предписания книги явно свидетельствуют о ее «пролевитской» направленности. Эти предписания ограничивают право царей накапливать богатства и наложниц, что никак не соответствует царским интересам. Такие особенности трудно согласовать с предположением, что книга возникла при царском дворе. С другой стороны, она предписывает царям следовать советам левитов и пророков, а народу — обеспечивать служителей Ягве всем необходимым для жизни. По мнению Гальперина, эти особенности позволяют думать, что «Второзаконие» возникло в кругу левитов Иудеи — современников Йошиягу. С этим предположением согласуется и общая религиозная направленность книги и всего «Дейтерономистского цикла». Остается выяснить, интересы какой именно группы левитов этот цикл отражает. То не могли быть, говорит Гальперин, первосвященник и другие законослужители Иерусалимского Храма. При всем его упоре на необходимость, централизации культа в «избранном Господом месте» «Дейтерономистский цикл» нигде не упоминает, что таким местом должен быть Иерусалимский Храм. Создателем книги не мог быть и провинциальный, «деревенский» левит из числа тех, кто проводил Богослужения «на высотах», — ведь предписания «Второзакония» направлены именно против них. В Иудее наверняка сохранялись еще потомки некогда бежавших туда из Израиля, от нашествия ассирийцев, священников Израильского царства, которых Йороваам когда-то назначил в храмы Бейт-Эля и Дана, но они вообще не были из числа левитов. Перебрав, таким образом, все возможности, Гальперин приходит к выводу, что религиозный кодекс «Второзакония» полнее всего совпадает с интересами и характером потомков давних левитов Шило, этого первого религиозного центра древних евреев, откуда вышел и автор «Элогистского» текста Торы. Действительно, эта группа имела все основания стремиться к централизации культа; будучи отлученной Йороваамом от храмов, она издавна нуждалась в помощи народа; она принимала власть царя, но хотела ее ограничения; она была резкой противницей сползания монархии в идолопоклонство; наконец, она еще хранила память о домонархических порядках (частично сохранявшихся среди северных, израильских колен до самого падения Израиля). Кто-то из этих левитов, продолжает Гальперин, мог еще во времена существования Израильского царства (т. е. до 722 г. до н. э.) записать древний устный закон и обработать его так, чтобы он соответствовал интересам данной жреческой группы; а после падения Израиля этот драгоценный свиток мог быть унесен (для его спасения) в Иудею… Разумеется, этот первый составитель «кодекса Второзакония» не был искомым нами «Дейтерономистом» — он жил на добрых 100, а то и больше лет раньше него. Этот «предтеча Дейтерономиста» попросту зафиксировал давнюю традицию — «Дейтерономист» же, уже во времена Йошиягу, воспользовался этим источником и положил его в основу своей грандиозной схемы еврейской истории. Он прибавил к «кодексу жрецов Шило» свое историческое вступление, в котором описал деяния Моисея, а также заключение, в котором рассказал, как умирающий Моисей записал «книгу Закона» (то есть Тору) на свитке и велел положить этот свиток в ковчег Завета, где он и был «найден» во времена Йошиягу. Так возникла совершенно новая книга — та, которую мы ныне называем «Второзаконием» и которую «Дейтерономист» сделал началом и основой им же созданного исторического цикла, излагающего всю еврейскую историю как последовательное развитие нескольких центральных сюжетов — верности/неверности Ягве; завета Бога с Давидом и его династией; идеи централизации культа и борьбы с местными святилищами; Моисеева Закона. Благодаря такому построению все важнейшие события этой истории получили у «Дейтет рономиста» единообразное причинное объяснение; вся она обретает глубокий религиозный смысл и целенаправленность. Ее конечной целью становится создание религиозной утопии, начатое царем Йошиягу, нашедшим спрятанную Моисеем Тору и решившим поступать в строгом соответствии с ней. Но если все положения Закона, исполнение которых «Дейтерономист» считает обязательным для выживания еврейского народа, соответствуют принципам «кодекса жрецов Шило», то и сам этот автор, заключает Гальперин, скорее всего тоже принадлежал к потомкам этих жрецов. В таком случае он, как и они, должен был вести свою родословную от Моисея (а не от Аарона, как левиты Иерусалима). Это предположение действительно подтверждается текстом цикла: в нем прославляется Моисей и всего лишь дважды упоминается Аарон: один раз, чтобы сообщить, что он умер раньше Моисея, второй — чтобы напомнить, что Господь готов был истребить его за создание золотого тельца. Подобно жрецам из Шило, «Дейтерономист» недоброжелательно относится к Йоровааму и Соломону: его герои, религиозные реформаторы Хизкиягу и особенно Йошиягу, уничтожают идолов Бейт-Эля и Дана, созданных Йороваамом, и медного змия, установленного Соломоном. Итак, автора «Дейтерономистской истории» следует искать среди современников царя Йошиягу, симпатизировавших религиозной реформе царя (или даже инициировавших ее) и одновременно принадлежавших к числу потомков жрецов из Шило, бежавших в Иудею за столетие до того, после разрушения Израильского царства. В то же время чисто литературные особенности «Дейтерономистского цикла», как мы уже говорили выше, сближают этого автора и с еврейскими пророками. Исходя из этих двух примет, Гальперин решил проверить, не было ли среди современников Йошиягу человека, удовлетворявшего обоим требованиям сразу. И он действительно нашел такого человека. По утверждению Гальперина, им был не кто иной, как великий пророк Йеремиягу. Именно Йеремиягу, или Иеремия, по мнению Гальперина, был создателем книги «Второзакония» и всего «Дейтерономистского цикла» в целом. По его гипотезе, он и был искомым всеми гениальным «Дейтерономистом». Эту дерзкую гипотезу, разумеется, трудно принять на веру. Но оказывается, и у нее есть убедительные основания: Мы уже говорили, что «Второзаконие» нельзя рассматривать в отрыве от последующих книг ТАНАХа — так называемых исторических сочинений (книг Йегошуа бин-Нуна, Судей, Самуила и Царств). Их объединяет слишком много лингвистических, исторических и религиозных особенностей, присущих им всем вместе и не встречающихся в других книгах ТАНАХа. Кроме того, их объединяет единая сквозная идея — особое религиозное толкование еврейской историй, заявленное уже во «Второзаконии» и затем последовательно проведенное через все книги «исторического 4 цикла». Эта общность, присущая «Дейтерономистскому циклу», заставляет говорить, что весь он был] составлен (с использованием массы более древних источников) одновременно. А поскольку этот цикл вдобавок объединен еще и настойчивым выпячиванием великой религиозно-реформаторской роли царя Йошиягу, который изображается как «второй Моисей» (появление этого царя предсказывается, если помните, уже в ранних книгах «Дейтерономистского цикла», задолго до его фактического царствования), то остается, пожалуй, лишь одна непротиворечивая гипотеза, способная объяснить все эти особенности. И это — как раз изложенная нами выше гипотеза немецкого исследователя Мартина Нота, согласно которой весь «Дейтерономистский цикл», начиная с «Второзакония» и кончая 2-й книгой Царств, был написан во времена самого Йошиягу. Неслучайно именно эта гипотеза является сегодня практически общепринятой в библейской критике. Но, как мы только что рассказывали, молодой американский ученый Барух Гальперин пошел дальше Нота, проанализировал многие неявные дополнительные признаки «Дейтерономистского цикла» и на основании полученных результатов выдвинул предположение, что автором этого грандиозного историко-религиозного цикла, охватывающего семь книг ТАНАХа, был не кто иной, как пророк Йермиягу. Каковы же те признаки, обнаружение которых позволило Гальперину прийти к столь дерзкому выводу? Прежде всего, это особое место, отводимое в цикле царю Йошиягу. Но из книги пророка Йермиягу известно, что он был пылким сторонником царя Йошиягу и его реформ; что его пророческая деятельность началась во времена этого царя; и, что именно он /согласно свидетельству «Хроник») после гибели царя составил «Плач на смерть Йошиягу». Далее, для всего «Дейтерономистского цикла» характерна сквозная мысль о том, что зигзаги еврейской истории определяются, прежде всего и более всего, выполнением или невыполнением евреями заповедей Господних. Но в точности та же мысль является главной и для пророческой книги Йермиягу: в ней он предсказывает Иудее судьбу Израиля, поскольку она, как некогда Израиль, «отступила от Завета», и видит в вавилонянах орудие этой Божьей кары (кстати, именно поэтому он призывает там евреев покорно подчиниться вавилонянам, сдав им Иерусалим, и даже, кажется, подобно Иосифу Флавию, пытался перейти на сторону врага). У гипотезы Гальперина есть и более конкретные подтверждения. Оказывается, Йермиягу был связан со всеми теми людьми, которые имели отношение к «находке» книги «Второзакония» в Храме. Например, письмо пророка к евреям, находившимся в вавилонском плену, было послано через Гемарию, сына первосвященника Хилкиягу, и Эласу, сына писца Шафана. Пророчества Йермиягу, направленные против преемника погибшего Йошиягу, царя Иегоякима, были зачитаны при дворе другим сыном того же Шафана, Гемарией. Тот же Гемария и его брат Ахикам спасли пророка от побиения камнями за эту книгу. А сын Ахикама (и внук Шафана) Гедалия, которого вавилоняне назначили наместником завоеванной ими Иудеи, взял пророка, под свое покровительство. Когда Гедалия был убит восставшими иерусалимцами и на Иудею двинулись разгневанные этим вавилоняне, пророку пришлось бежать вместе с остатками населения города в Египет, (где он и умер). Все эти факты свидетельствуют о том, что Йермиягу имел прямое касательство к тому кругу, где появилась (была «найдена») книга «Второзакония», так удачно обосновавшая реформы царя Йошиягу. И в этом кругу пророк был «своим». Судя по сказанному, то был круг главных инициаторов религиозных реформ, а затем — наиболее влиятельных сторонников провавилонской политики при дворе иудейских царей. В этом кругу Йермиягу, несомненно, был человеком самого большого литературного дарования, как о том свидетельствует его собственная пророческая книга. Поэтому было бы только логично заключить, что когда здесь возникла идея создать убедительное обоснование актуальности и важности религиозных реформ («восстановления Завета») в виде какой-нибудь книги или цикла книг, за реализацию этого замысла взялся именно Йермиягу. Тому есть и косвенное свидетельство: многие литературные особенности пророческой книги Йермиягу дословно соответствуют особенностям стиля «Второзакония» и «Дейтерономистского цикла» в целом. Йермиягу, например, пишет: «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца своего…» — а во «Второзаконии» мы читаем: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего…» У Йермиягу: «…перед всем воинством небесным»; во «Второзаконии»: «…перед всем воинством небесным». У Йермиягу: «…из земли Египетской, из железной печи»; во «Второзаконии»: «…из печи железной, из Египта». И так далее. Если бы такие выражения и словосочетания встречались и в других местах ТАНАХа, этим совпадениям можно было бы не придавать особого значения; но они встречаются именно и только в двух книгах — у Йермиягу и во «Второзаконии». На основании всех этих многозначительных совпадений и фактов Гальперин и заключил, что религиозный закон, составляющий основу «Второзакония», равно как и весь «Дейтерономистский цикл», содержащий семь книг ТАНАХа, а также книга пророка Йермиягу вышли из одного и того же круга людей, к которому принадлежал и сам пророк. В этом кругу Йермиягу действительно кажется самым вероятным автором. И эта вероятность становится еще выше, если учесть одно дополнительное обстоятельство. Как мы видели, основу этого «Дейтерономистского кружка», объединенного страстным стремлением подтолкнуть Йошиягу к проведению религиозных реформ, составляли видные царские придворные — первосвященник Хилкиягу, царский писец Шафан. Один лишь Йермиягу был там представителем совершенно иных, далеких от двора слоев. Как мы уже говорили в предыдущей главе, весь «Дейтерономистский цикл», включая «Второзаконие», написан с позиций жрецов-левитов — выходцев из израильского города Шило. Так вот, Йермиягу, утверждает Гальперин, является одним из этих левитов. В самом деле, он — единственный библейский пророк, в чьей книге прямо упоминается Шило (и даже целых четыре раза). При этом оно именуется там в точном соответствии со стилем «Второзакония» — как «место, где Господь повелел пребывать Имени своему». В терминах «Второзакония» это означает центральное место культа Ягве. Наконец, Шило в ТАНАХе связано с именем жреца Авиатара, которого Давид назначил одним из двух иерусалимских первосвященников, а Соломон отправил в ссылку в село Анатот под Иерусалимом. Между тем, первая же фраза пророческой книги Йермиягу гласит: «Слова Йермиягу, сына Хилкиягу, из священников, которые в Анатоте». Иными словами, пророк действительно был потомком левитов Шило. Этот факт сильнейшим образом подкрепляет гипотезу о том, что именно он был автором «Дейтерономистского цикла». Гипотеза Гальперина была развита другим американским исследователем, Ричардом Фридманом, который, пользуясь теми же приемами и методами доказательства, показал, что окончание «Дейтерономистского цикла», описывающее начальный период вавилонского плена (и созданный, следовательно, уже после взятия Иерусалима вавилонянами в 597 г. до н. э.), было, скорее всего, дописано тем же Йермиягу, но уже после его бегства в Египет. Мы не будем приводить здесь все аргументы и доводы Фридмана (они представляются весьма логичными и правдоподобными, хотя, как и у Гальперина, не на сто процентов убедительными; но от библейской критики такой абсолютной доказательности нельзя и требовать). Отметим лишь, что в заключение своего анализа Фридман напоминает о любопытном подтверждении из самого неожиданного источника — Талмуда. Оказывается, та же талмудическая традиция, которая приписывает авторство Пятикнижия Моисею, а книги Йегошуа бин-Нуна — самому Йегошуа, утверждает, что автором обеих книг Царств был пророк Йермиягу! Работы Фридмана, опубликованные в середине и конце 70-х годов, отчасти решили давний спор о так называемой «Дейтерономистской школе». Некоторые историки-библеисты утверждали, что «Дейтерономистский цикл» был создан не одним автором, а несколькими, но принадлежавшими к одной и той же школе и потому писавшими в одном стиле, с одинаковыми литературными и прочими особенностями. По Фридману, мера близости основного корпуса Дейтерономистских книг друг к другу и к заключению всего цикла (написанному в изгнании) является настолько феноменальной, что написать все это мог только один й тот же человек, но никак не группа людей. В этой связи хотелось бы отметить одну любопытную деталь. Существуют историки, которые утверждают, что книгу пророка Йермиягу (а, возможно, и все другие произведения этого пророка, включая «Дейтерономистский цикл») написал в действительности часто упоминаемый в этой книге писец «Барух, сын Нерия». О нем известно, что он переписывал для Йермиягу ряд документов, был близким к нему человеком и отправился с ним в изгнание в Египет. В сущности, не так уж важно в действительности, кто написал книги пророка — сам он или его писец; куда важнее, что все они были написаны одним и тем же человеком. Но любопытная — и я бы даже сказал, волнующая — деталь, связанная с писцом Барухом, состоит совсем в другом. В 1980 году израильский археолог Нахман Авигад нашел оттиск печати, запечатленный на древнем (между VII и VI вв. до н. э.) папирусе, где совершенно ясно и недвусмысленно читается: «Принадлежит Баруху, сыну Нерия, писцу»! Это был первый в истории предмет, лично связанный с человеком, имя которого упоминается в тексте ТАНАХа. И какого человека — писца пророка Йермиягу, возможно, даже автора великого танахического Семикнижия! Ощущение поистине волнующее — словно прикоснулся к живому Йермиягу… Теперь, завершив затянувшийся рассказ о создании и авторстве «Второзакония», мы должны сделать еще одно, последнее, усилие и разобраться в том, что говорит библейская критика о двух оставшихся главных источниках (или, как их еще называют, «документах»), из которых состоит еврейская Библия, — текстах «Жреца» и «Редактора». Кто их авторы, когда они были созданы, каков их исторический контекст и значение? Прежде, однако, подытожим уже сказанное — это поможет нам лучше понять последующее. История научной библеистики, или, как ее еще называют, «библейской критики», распадается на два отчетливых исторических периода. Водоразделом является вышедшая в 1878 году книга Вельхаузена «История Израиля». Эта работа оказала огромное влияние на развитие научной библеистики. Вельхаузен обобщил все, сделанное до него в этой области такими исследователями, как Спиноза, Гоббс, Симон, Астрюк, Эйхгорн, Граф и де Ветте; он впервые соединил методы и результаты исторического и литературно-лингвистического анализа Пятикнижия; наконец, он предложил систематическую трактовку возникновения библейского текста. Эта трактовка была основана на специфическом представлении об эволюции еврейской религии (во многом навеянном идеями Гегеля). По Вельхаузену, эта эволюция прошла три этапа. На первом то был культ богов природы и плодородия; на втором — духовно-этический монотеизм; а на третьем — формальная жреческо-законническая религия. Вслед за своими предшественниками Вельхаузен выделил в Пятикнижии четыре источника (или четыре «документа», как он их назвал) — Элогистский (Т), Ягвистский (J), Дейтерономистский (D) и Жреческий (Р) — и связал их с указанными этапами эволюции иудаизма. Он утверждал, что «документы» J и T отражают характерные черты еврейской жизни и верований первого этапа; «документ» D относится ко второму этапу, а «документ» H был составлен самым последним — уже на третьем, «жреческом» этапе развития еврейской религии. Исключительно четко изложенная, аргументированная колоссальным количеством материала «документальная гипотеза» Вельхаузена произвела огромное впечатление на научные круги и легла в основу всего дальнейшего развития научной библеистики. Она составляет ее основу и сегодня. Разумеется, многое в трактовке Вельхаузена устарело и отброшено, а многое, напротив, развито и углублено. Сегодня уже понятно, что основные четыре «документа» сами являются контаминацией множества более древних источников; поэтому понятие «времени создания» того или иного «документа» означает не более чем датировку объединения этих источников в связный текст (J, T и т. п.), который затем вошел в библейский канон. Как мы видели выше, сегодня куда более точно и детально известно также время и обстоятельства создания этих окончательных текстов, а в некоторых случаях выдвигаются даже гипотезы относительно личности их авторов. В частности, согласно этим гипотезам, тексты T и J были составлены во времена разделенного царства: T — в Израиле, J — в Иудее; первый — между 922 и 722 гг. до н. э. (период существования Израильского царства), второй — между 848 и 722 гг. (поскольку в нем упоминаются события, произошедшие при иудейском царе Йегораме, вступившем на трон в 848 г.). По тем же гипотезам, вскоре после того, как беглецы из завоеванного ассирийцами Израиля принесли текст T («свою» Тору) в Иудею, этот текст был соединен с «местной» Торой, т. е. с текстом J, в единый источник, послуживший первой основой будущего Пятикнижия. Таким образом, по современным представлениям, эта основа, или текст TJ, возникла в ее окончательном виде в Иудее и после 722 г. до н. э. Мы посвятили много места увлекательной истории поиска времени и места создания и авторства третьего «документа» — D, или Дейтерономистского (составляющего основу книги «Второзаконие»). Как мы видели, совокупные усилия многих ученых, включая израильских, позволили выдвинуть довольно убедительную гипотезу, относящую, создание «Второзакония» (а также примыкающих к нему исторических книг, совместно образующих т. н. «Дейтеронимистский исторический цикл») ко временам иудейского царя Йошиягу (639–609 гг. до н. э.), а завершение — ко временам вавилонского плена (587–537 гг. до н. э.), и приписывающую его авторство пророку Йеремиягу (или его писцу Баруху). Не следует думать, будто это единственная гипотеза; в современной библеистике есть и другие предположения относительно времени создания и авторства «Второзакония» и исторических книг ТАНАХа; мы выбрали гипотезу Гальперина — Фридмана лишь в силу ее большей простоты и правдоподобности, а также для показа с ее помощью приемов и методов анализа, используемых в библейской критике. Чтобы завершить заявленную в заглавии тему, нам остается еще рассказать о том, как представляет себе современная библеистика возникновение последнего из четырех основных «документов», составляющих Пятикнижие, — источника P, или т. н. «Жреческого кодекса». Как мы только что отмечали, Вельхаузен выдвинул предположение, что этот текст был создан позже всех остальных — уже в послепленную эпоху (т. е. после возвращения евреев из вавилонского плена, которое произошло в 537 г. до н. э.). Эта датировка опиралась на ту специфическую периодизацию еврейской религиозной эволюции, которая лежала в основе всей работы Вельхаузена. Однако со временем вельхаузеновская периодизация была подвергнута серьезной критике (в работах Макса Вебера и его продолжателей, а также в «Истории еврейской религии» израильского исследователя Кауфмана и др.), а новейшие археологические открытия в Эрец-Исраэль вовсе поставили под сомнение ряд ее основных положений. Поэтому вопрос о датировке «документа» H тоже подвергся пересмотру. Что же говорит об этом документе современная библеистика, то есть библейская критика конца XX века? Грубо говоря, текст P — это все то в Пятикнижии (в Торе), что не есть T, J или D. Вообще-то можно было бы ожидать, что этот «остаток» представляет собой беспорядочную смесь всевозможных вкраплений. Но поразительный факт (обнаруженный уже первыми исследователями Библии) состоит в том, что если вычленить из Торы такой остаток, то окажется, что на самом деле он представляет собой вполне связный текст, некое особое повествование, которое почти без пропусков излагает примерно то же, что и текст E-J, — всю историю мира, от сотворения до праотцев, и всю историю евреев, от праотцев до египетского рабства, исхода и возвращения в Ханаан. К этой обширной исторической части автор P добавляет еще более пространную обрядово-культовую часть, которой почти не было в E-J. Из нее видно, что, в отличие от авторов текстов T и J, автора H вопросы культа и его исполнения интересуют едва ли не в первую очередь, как могут интересовать только жреца (отсюда и название данного текста — «Жреческий»). Неслучайно они занимают основную часть его текста — половину книги Исхода, половину книги Чисел и почти всю книгу Левит. А в целом текст H оказывается самым большим в Пятикнижии — его объем равен объему всех трех остальных источников, вместе взятых. И при этом весь он лингвистически и стилистически однороден и индивидуален, как может быть однороден лишь текст, принадлежащий перу одного автора. Уже в 1833 году Э. Рейсс обратил внимание на тот странный факт, что в книгах пророков имеются отсылки лишь к тексту E-J, но не упоминаются те пункты 1 (заповеди) Закона, которые содержатся в P. Из этого он сделал вывод, что текст H был записан позже основных пророческих книг. Поскольку эти книги (Исайи, Йермиягу и Йехезкеля) были завершены уже после разрушения Первого Храма, во времена вавилонского плена, следовало предположить, что в эпоху Первого Храма текст H еще не существовал. Поэтому Рейсс отнес его создание к более поздней эпохе, то есть ко временам Второго Храма. Впоследствии ученик Рейсса, Граф, вычленил в тексте H его основные моменты: четко оформленную легально-юридическую культовую систему, концепцию сосредоточения всех культовых отправлений в одном месте и представление о центральности этого места (и его жрецов) в религиозной жизни народа — и, проанализировав их, высказал предположение, что такая детальная разработанность указанных концепций, какая характерна для текста H, может быть только результатом длительного религиозно-исторического развития, и, стало быть, опять же — текст H является весьма Поздним. Наконец, уже упоминавшийся выше Вельхаузен добавил к этим аргументам свои. Поскольку в его схеме развитие еврейской религии шло от духовно-этического монотеизма к «бездуховной» жреческой теократии, то и внешние формы религиозности, по его мнению, развивались от децентрализации культа к его централизации. В тексте E-J нет упоминаний о необходимости такой централизации — стало быть, заключал Вельхаузен, этот текст является самым ранним; в тексте D идет яростная борьба за централизацию богослужений в едином месте, «избранном самим Богом», — стало быть, этот текст, по Вельхаузену, более поздний; и, наконец, в тексте H централизация упоминается как нечто само собой разумеющееся, то есть существующее и укоренившееся, — а такое, заключает Вельхаузен, может быть только на самом позднем этапе — этапе «жреческой теократии», установившейся в Иудее при Эзре и Нехемии, после возвращения евреев из вавилонского плена. Противники гипотезы Рейсса — Графа — Вельхаузена давно указывали на весьма важный сомнительный пункт в ней: если текст H написан во времена Эзры, когда Храм играл центральную роль в религиозной жизни евреев, почему в самом тексте нет никаких упоминаний о Храме? Граф и Вельхаузен ответили на это утверждением, что такое упоминание есть, только «замаскированное»: повсюду, где в источнике H идет речь о т. н. «Скинии Завета», «в действительности» подразумевается Храм. На первый взгляд, это утверждение кажется не только изобретательным, но и отчасти обоснованным. В самом деле, текст H уделяет Скинии подчеркнуто большое внимание: если в E-J она упоминается лишь трижды, а в D не упоминается вообще, то в H о ней — свыше двухсот упоминаний! Более того, там даны подробные указания, как и из чего она должна быть сооружена, каковы должны быть ее размеры, какие обряды в ней следует отправлять и т. д. Второе обстоятельство, позволяющее думать, что под Скинией имелся в виду. Храм, состоит в том, что размеры Скинии, указываемые в тексте P, подозрительно точно соответствуют размерам Храма, названным в 6-й главе 1-й книги Царств: если Храм имел 60 локтей в длину и 20 в ширину, то Скиния — 30 локтей в длину и 10 в ширину, то есть была ровно вдвое меньше. Исходя из этих соображений, Граф заключил, что никакой Скинии не было вообще (в самом деле — кто бы мог нести такое громоздкое сооружение по пустыне до самого Ханаана?!), и весь рассказ о ней придуман автором текста H. Этот автор, живший во времена Второго Храма, стремился, по Графу, придать этому Храму надлежащий авторитет и святость. Поэтому он решил приписать этому центру еврейского культа преувеличенную историческую давность и для этого ввел в свой текст рассказ о том, будто заповедь построить некое единое (и единственно законное) помещение для жертвоприношений и Богослужений (в виде упомянутой Скинии Завета) была дана уже во времена Моисея самим Господом у горы Синай. Как показали современные исследования, все эти хитроумные гипотетические конструкции были излишними. Гипотеза Графа — Вельхаузена о позднем происхождении текста H оказалась ложной в своих основных посылках. Сначала в книге Йермиягу, а затем в книге Йехезкеля были обнаружены хоть и немногочисленные, но достаточно достоверные ссылки на источник H. Их не могли найти раньше, потому что они были ссылками, так сказать, «от обратного»: Йермиягу, например, цитировал H, переворачивая — и тем самым отрицая — его текст. Там, где H говорит: «Вначале создал Ягве небо и землю, и земля была безвидна и пуста… и сказал Ягве: «Да будет свет»», — Йермиягу пишет: «Смотрю на землю, и вот она безвидна и пуста, — на небеса, и нет на них света». Автор H в книге Левит говорит о «Торе (то есть о заповеди) всесожжении и жертв», а у Йермиягу Господь провозглашает: «…отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди о всесожжении и жертве». И так далее, все в том же духе. Аналогичные скрытые переклички с H имеются и у Йехезкеля. Это означает, что пророкам данный источник был знаком, и, стало быть, он существовал уже до разрушения Первого Храма. К тому же выводу привели многолетние лингвистические исследования израильского ученого Ави Гурвица из Еврейского университета, показавшего, что язык источника H представляет собой более ранний вариант иврита, чем язык книги Йехезкеля. Это заключение было впоследствии подтверждено несколькими лингвистами из США и Канады. Что же касается «кратности» размеров Скинии и размеров Храма, то Ричард Фридман, посвятивший этому вопросу специальное исследование, обратил внимание специалистов на два важных факта. Во-первых, те «размеры Храма», о которых говорили Граф и Вельхаузен, относятся к Первому, а не ко Второму Храму; поэтому заключать из этого, будто под Скинией «подразумевается» Второй Храм, нет никаких оснований; а, следовательно, нет и оснований думать, будто рассказ источника H о Скинии был создан во времена Второго Храма. А, кроме того, более детальное изучение предписаний книги Левит о постройке Скинии показывает, что ее истинные размеры вообще были несколько иными, нежели названные в тексте (деревянные рамы, из которых она составлялась, немного находили друг на друга — для прочности, и потому истинная длина всей постройки была чуть меньше 30 локтей; это доказывается размерами покрывала, накрывавшего все сооружение). Поэтому о «кратности» размеров Скинии и Храма вообще не может быть речи. С другой стороны, подсчитав истинные (с учетом наложения деревянных рам) размеры Скинии, Фридман обнаружил совершенно иную «кратность», даже полное совпадение. Оказалось, что эти размеры были в точности такими же, как впоследствии и размеры самого внутреннего помещения Соломонова (т. е. Первого) Храма — его знаменитой «Святая Святых», где находились позолоченные херувимы, под распростертыми крыльями которых помещался Ковчег Завета. В этой связи Фридман напомнил, что уже при описании Соломонова Храма сказано, что туда принесли не только Ковчег Ягве, но и «Скинию со всем, что в ней было». О переносе Скинии в Храм согласно говорят также Иосиф Флавий и Вавилонский Талмуд. В Псалмах Храм и Скиния тоже всегда упоминаются совместно, а в «Хрониках» («Паралипоменон») о Храме говорится как о «доме Ягве, доме Скинии». Собрав все эти факты, Фридман выдвинул предположение, принципиально противоположное гипотезе Графа — Вельхаузена: не Скиния была «придумана» автором H по образцу существовавшего в его время Храма, а сам этот Храм (его Святая Святых) был задуман по образцу задолго до него существовавшей Скинии. Сама же она после постройки Храма была перенесена из Шило в Иерусалим и помещена во внутреннем храмовом помещении (т. е. в Святая Святых). Автор H, поместивший Скинию в центр своего рассказа и поднявший ее до уровня центрального символа всей еврейской религиозной жизни, имел поэтому все основания отождествлять Скинию с самим Храмом (ведь она в нем находилась!) — но только с Первым Храмом, а не со Вторым! Иными словами, по Фридману, текст H мог быть написан лишь в те времена, когда Первый Храм еще существовал. По всей видимости, он был записан там же, где этот Храм существовал, — то есть в Иудее, может быть, — в самом Иерусалиме. Его автором был, скорее всего, храмовый священнослужитель (ибо весь текст, как мы уже отмечали, выражает интересы жреческой группы), а поскольку священнослужителями Иерусалимского Храма были коэны-аарониды (прямые потомки Аарона), то и автор H был, надо думать, одним из этих коэнов. Время создания текста можно еще более сузить. Как показал шведский ученый Мовинкель, автор H целых 25 раз повторяет рассказы из текста E-J (начиная с истории сотворения мира). А это значит, что он писал уже после создания этого единого текста, то есть, как мы говорили выше, после 722 г. до н. э. С другой стороны, текст H, как мы видели, был известен пророку Йермиягу, предположительно, — автору «Дейтерономистского цикла», начатого при царе Йошиягу (639–609 гг. до н. э.); стало быть, H был написан раньше этого царствования. В целом это дает следующие (разумеется, гипотетические) временные рамки для его написания: между 722 и 639 гг. до н. э. Фридман выдвигает еще более точное предположение, относя создание текста H ко временам царя Хизкиягу (727–698 гг. до н. э.), когда была предпринята первая попытка религиозной реформы — уничтожения местных жертвенников и централизации всех культовых отправлений в Храме. По мнению Фридмана, подчеркивание роли Скинии («Храма») выражает желание автора H обосновать эту реформу, приписав традиции сосредоточения культа в одном месте давнее (еще от Моисея) и сакральное (одна из Господних заповедей) происхождение. Текст H не имеет тех литературных и прочих достоинств, которые отличают тексты T и J, но и он по-своему замечателен. Прежде всего, замечательны его повторы, или «дублеты», как мы назвали их в первой главе. Сравнение рассказов H и E-J сразу обнаруживает, что автор H был решительно недоволен тем образом Бога, который возникал из книги его предшественника, и пытался последовательно провести свое, иное представление о Нем. Так, уже в первом дублете (рассказ о сотворении мира) у E-J сказано (Бытие 2:4): «Элогим создал землю и небо», а у H (Бытие 1:1): «Вначале сотворил Ягве небо и землю». Эта, казалось бы, простая перестановка слов — «небо и земля» вместо «земля и небо» — на самом деле скрывает за собой стремление придать Богу более «небесные», более трансцендентные черты. Автор H решительно борется с той антропоморфизацией Бога, которая присуща T и J. Бог Элогиста и Ягвиста ходит по райскому саду, разговаривает с первыми людьми, закрывает за Ноем и его семейством двери ковчега и с удовольствием обоняет запах жертвы (одного из семи «чистых» животных), принесенной Ноем по случаю завершения Потопа. У H этого Ноева жертвоприношения нет, ибо Ною велено взять с собой лишь одну (а не семь) пару от каждого вида «чистых» тварей, и он не может убить ни одну из этих тварей, ибо тогда не останется пары для размножения данного вида. Соответственно, H получает возможность изгнать из рассказа режущее его слух слово «обонять» применительно к Господу. Господь у H не обоняет, не ходит, не разговаривает, не творит людей «по Своему образу и подобию», ибо у Него нет «образа» — Он бестелесен и безлик. Он пребывает на небесах. Он — творец того грандиозного космического порядка, что запечатлен в Торе и является основой также и порядка земного, подчиняющего себе всю жизнь еврейского народа: Храм, коэны, жертвы, праздники, строжайшее соблюдение заповедей и ритуала. Нарушителей этого порядка ждет суровое наказание, ибо, если у E-J Бог прежде всего «милосерд», «человеколюбив» и тому подобное (вспомним, как Он пощадил Ицхака, как уступал Аврааму в торге за Содом и множество других аналогичных случаев), то H рисует Его прежде всего суровым и беспощадным (хотя и справедливым) судьей. Судьба Кораха и его сторонников, описанная в 16-й главе книги Чисел, — яркая тому иллюстрация. Раз уж мы коснулись этого эпизода с Корахом, используем его, чтобы показать еще одну особенность Жреческого кодекса. Как уже было сказано, автор его — не просто жрец, но, скорее всего, жрец-ааронид. И, действительно, — для всех его дублетов, в которых речь идет об Аароне, характерен сквозной мотив возвеличивания этого первого еврейского первосвященника (порой даже за счет преуменьшения заслуг Моисея). И это тоже элемент скрытой полемики с текстом E-J (одна из составных частей которого T создана левитами из Шило — потомками Моисея — и потому всячески возвеличивает Моисея). Там, где у E-J: «Ягве сказал Моисею», у P (в том же рассказе) добавлено: «Моисею и Аарону». Где Аарон для Моисея «брат-левит» (то есть из одного колена), у H он — родной, кровный брат, причем — первенец. P изгоняет из своего повествования имевшиеся в E-J не только рассказ о жертвоприношении Ноя, но также рассказы о жертвоприношениях других библейских героев: Каина, Авеля и праотцев — и все для того, чтобы получить возможность утверждать, будто первое жертвоприно шение было произведено в честь назначения Аарона первосвященником; отсюда следует и сама концепция — коэнов: все последующие жертвоприношения могут, производиться либо самим Аароном, либо его прямыми потомками, ибо они выше всех по святости, они — избранные среди избранных, единственные законные посредники между народом и Богом. Упомянутый выше рассказ о восстании Кораха ярко иллюстрирует эту тенденцию автора Жреческого «документа». Две с половиною тысячи лет миллионы людей читали этот рассказ, не подозревая, что перед ними на самом деле — некая литературная мистификация. Действительно, если вчитаться в текст 16-й главы книги Чисел, то неизбежно возникает ощущение; некой странности, чтобы не сказать — сумбура. Здесь есть Корах из колена Леви и, как бы отдельно от него, три других руководителя мятежа — Дафан, Авирон и Авнан из колена Реувена, и рассказ о каждой из этих групп совершенно не соотносится с рассказом о другой. Скажем, события связанные с Корахом, происходят вблизи Скинии, между тем как события, связанные с реувенидами, — в их шатрах; Корах предъявляет Моисею одни требования, реувениды — совершенно иные; Кораха Моисей увещевает, реувенидам грозит. Вообще куски рассказа, связанные с Корахом, настолько лишены связи с кусками, посвященными реувенидам, что возникает ужасное подозрение: а в самом ли деле это один общий рассказ? Попробуйте сами произвести над текстом несложную операцию: извлеките из него всё, что относится к реувенидам (вторая часть первого стиха и начальные слова — «восстали на Моисея» — стиха второго, стихи 12–15-й, 25-й, вторую фразу 27-го и стихи 28–31-й, первую часть 32-го, а также 33-й и 34-й стихи), — и вы тотчас увидите, что, будучи вычлененными, они образуют вполне связный, последовательный и ОТДЕЛЬНЫЙ рассказ о восстании (и наказании) потомков Реувена, разочарованных тем, что Моисей не выполнил своего обещания привести народ в землю, текущую молоком и медом. А что же оставшиеся стихи? Поразительно, но они, оказывается, тоже образуют связный рассказ — только совсем иной: о бунтаре Корахе. В нем никаких упоминаний о реувенидах и их восстании: речь идет исключительно о представителе колена Леви (Корахе), который посмел выразить недовольство определенных левитских кругов тем, что Моисей назначил Аарона первосвященником: по мнению Кораха, в «царстве священников» (каковым, по слову Господню, должно быть еврейское сообщество) любой левит имеет право на такой сан и прерогативы. Моисей поначалу пытается пристыдить недовольных, напоминая им, каким почетом пользуются в народе левиты, как велика милость Господня к ним, какова их слава, и авторитет; и лишь затем, видя, что их дерзость зашла слишком далеко, предлагает им «испытание Божье»: пусть они наравне с Аароном попытаются возжечь курения перед Господом, а Господь сам решит, чьи претензии законны. Попытка Кораха оборачивается страшной карой: его самого и других недовольных левитов поглощает расступившаяся земля — и это служит доказательством кощунственности их претензий: Господь благоволит только к Аарону и его прямым потомкам — коэнам. Только им Он вручил право руководить (теперь и впредь) «царством священников». Первый рассказ — вполне естественная и живаядеталь истории Исхода: уставшие, разочарованные люди слабодушно ропщут против руководителя трудной затеи, их наказывают, другие в страхе замолкают, и поход продолжается. Второй рассказ производит впечатление неуклюжей вставки, вся цель которой состоит исключительно в прославлении Аарона и утверждении власти Ааронидов. Два эти рассказа явно написаны разными авторами, в разные времена и по разным причинам. И действительно: рассказ о реувенидах принадлежит тексту E-J, рассказ о Корахе сочинен и вставлен в этом место истории Исхода намного — позже — автором H. Еще более поздний редактор, для которого оба текста были одинаково древними и святыми, не решился выбрасывать что-либо и попросту постарался как можно более незаметно, пусть и чисто механически, соединить оба повествования. Все сказанное выше об особенностях текста H поддается обобщению: его автор как бы сознательно, шаг за шагом, противопоставляет Торе E-J «свою» версию Торы, последовательно проводящую идею трансцендентного Божества вместо антропоморфного Бога и идеал еврейской теократии, возглавляемой жрецами-коэнами вместо племенной демократии и Светской монархии. Текст H написан в идеологической полемике с текстом E-J; но если припомнить сказанное чуть выше о скрытой полемике «Дейтерономиста» с автором текста Н, то мы увидим любопытную закономерность: ВСЕ главные источники («документы») Торы написаны как идеологическое отрицание друг друга. Иудейский текст J записан в противовес израильскому тексту T; в ответ на их объединение тотчас возникает полемически противопоставленный им текст H, а еще через два поколения — текст «Дейтерономиста» (Йермиягу?), полемизирующий с H. Каждый из них проводит свои религиозные идеи, воплощая их в своих рассказах и в их композиции. Поэтому одна из самых поразительных особенностей Пятикнижия в целом состоит, пожалуй, в том, что какой-то безвестный (и, несомненно, гениальный) редактор ухитрился так продуманно и искусно соединить все эти четыре разных и внутренне ПОЛЕМИЧНЫХ документа, что они образовали единое целое, и притом — не просто целое, а такое целое, которое превышает сумму своих частей. Дублированные рассказы стали оттенять и углублять друг друга в литературном, психологическом и смысловом плане (что, конечно, никак не могло быть задумано ни одним из авторов, который и предполагать не мог, что его текст будет соединен с текстами его антагонистов); а сама концепция Бога (то есть еврейского монотеизма) обрела глубочайшие взаимодополняющие измерения — отвлеченной трансцендентности и антропоморфного человеколюбия, гневной справедливости и любовного милосердия, качественной непостижимости и диалогической близости. Такая редактура была, несомненно, творческим актом, который поставил редактора вровень с титанами T, J, H и D, составившими окончательный свод основных «источников» Торы. Кто мог быть этим редактором? Многие исследователи полагают, что составление канонического текста Пятикнижия происходило не в один прием, а через множество этапов, возможно, — в разные времена, и поэтому редакторов тоже было несколько. Мне более симпатична другая гипотеза, которая приписывает редактуру одному человеку — Эзре, тому ааронидскому священнослужителю и «книжнику, сведущему в Законе Моисеевом», второму (после Моисея) «законоучителю» еврейского народа, который в 458 году до н. э. вернулся в Иудею с предписанием персидского царя Артаксеркса учить народ «закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей». «Закон, находящийся в руке…» — это наверняка свиток Торы, и мы действительно знаем, что главным деянием Эзры было перезаключение Завета евреев с Господом (Эзра 10:3). Впрочем, может быть, это был вовсе не Эзра, а какой-нибудь иной, неведомый книжник тех же времен; а, может быть, редакторов и в самом деле было несколько. Послепленные времена темны и загадочны: неизвестно, что происходило с евреями в вавилонском плену и египетском галуте; неизвестно, куда исчезли (именно в это время) Ковчег Завета и Скиния; неизвестно, куда девались потомки дома Давидова Шешбазар и Зерубавель, приведшие назад в Иудею первую группу отпущенных из плена евреев в 537 г. до н. э. (они исчезают бесследно, так и не восстановив почему-то давидову династию), и так далее. От всего почти 150-летнего периода, начиная с разрушения Первого Храма (587 г. до н. э.) и до составления книги Эзры (после 458 г. до н. э.), сохранилось лишь несколько имен, названных Эзрой в его книге, упоминание о постройке Шешбазаром и Зерубавелем скромного и неказистого Второго Храма да рассказ об одном-единственном событии, которому, собственно, и посвящена книга Эзры, — о расторжении им еврейских браков с нееврейками. Понятно, что в отсутствие других сведений исследователи невольно хватаются за тот скудный набор фактов, который сообщает Эзра, и за него самого. Но все это не принципиально. Принципиальным является вывод, который мы можем теперь сделать на основании всего сказанного в предыдущих страницах этого очерка. Этот вывод, подкрепленный всей совокупностью собранных за прошедшие два столетия культурно-исторических, лингва-текстологических и других фактов и их научного анализа, состоит в том, что ТАНАХ (во всяком случае, Пятикнижие, ибо мы говорили здесь преимущественно о нем) писался (записывался) на протяжении многих сотен лет, разными людьми, в разные исторические эпохи, с разными целями. Таков, в самом кратком виде, суммарный итог всех библейских исследований. Подчеркнем, однако, снова: речь идет о составлении (порой на основе более древних источников) окончательных текстов. Это, несомненно, сделали люди. Но это не отвечает на вопрос: кто или что вдохновляло этих людей? Писали T, J, H и D «по откровению Божьему» или по собственному, чисто человеческому вдохновению — это было и остается вопросом веры. (В конце концов, ведь и устную Тору, когда ее записали, пришлось задним числом «сакрализовать», провозгласив, что и она была — вместе с Торой Письменной — дана Моисею на горе Синай, но с тех пор передавалась изустно, хотя — без искажения даже единой буквы за все эти столетия.) Напомним в этой связи, что когда-то, еще в XIV веке, Йосеф Бонфильс, первый еврейский ученый, провозгласивший по поводу одного из стихов Торы, что «Моисей этого не писал», многозначительно добавил! «Впрочем, что мне до того, писал это Моисей или другой пророк, коль скоро слова всех этих людей суть истина, явленная в пророчестве». Действительно, тексты могут быть написаны разными людьми; истина, в них содержащаяся, может быть при этом единой. Неслучайно еврейские религиозные мыслители, размышляя над теми же противоречиями и разночтениями Торы, что и светские библеисты, всегда использовали для объяснения этих загадок принцип объединения противоположностей, полагая, что только в таком объединении и вскрывается истинная, глубинная суть кажущегося «несообразным» отрывка. Вот один из примеров такого подхода. Книга Исхода (12:15), говоря, о празднике Песах, предписывает: «СЕМЬ дней ешьте пресный хлеб» — между тем как «Второзаконие» (16:8) говорит: «ШЕСТЬ дней ешь пресные хлебы»; и раввины, естественно, вынуждены объяснить, как совместить оба этих предписания. Они разъясняют это следующим образом: «Седьмой день был сначала включен в более полное («объемлющее») высказывание, а затем изъят из него». То, что изъято из более полного высказывания, предназначено для более глубокого уяснения нами самого этого высказывания. Следовательно, если в седьмой день это (съедение пресного хлеба. — Р.Н.) возможно, но не обязательно, то и во все остальные дни это возможно, но не обязательно. Может ли быть, что так же, как в седьмой день это возможно, но не обязательно, так и в остальные, ВКЛЮЧАЯ ПЕРВУЮ НОЧЬ? Решает сказанное (Исход 12:18): «В первый месяц С ВЕЧЕРА ешьте пресный хлеб…» Стало быть, в первую ночь есть пресный хлеб заповедано (а в прочие, как видим, не обязательно; обязательным и безусловным. является только ЗАПРЕТ есть хлеб дрожжевой (как и вообще употреблять «хамец»). Я хотел было завершить свой рассказ еще несколькими примерами такого же рода, но он без того затянулся и буквально взывает к немедленному завершению: слишком много пришлось бы еще рассказывать — и о современных взглядах на загадки пророческих и других книг ТАНАХа; и о нынешних, после Гункеля и Вебера, Луццато и Кауфмана, представлениях об эволюции еврейской религии; и о поразительных тайнах ТАНАХа в целом — постепенном «сокрытии Божьего лица» из истории и нарастании сферы свободы человеческой воли, равно как и о многом другом, не менее интересном — и, увы, не менее пространном. Последуем же примеру Шехерезады и прекратим дозволенные речи. Лишь поблагодарим напоследок долготерпеливых читателей, которые сопровождали нас на протяжении всего этого многостраничного пути сквозь лабиринты светской библеистики. >ГЛАВА 4 В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА (по мотивам книги Г. Хэнкока «Знак и печать») Сказано в Книге Исхода, в обращении Господа к Моисею: «Сделайте ковчег из дерева ситтим; длина ему два локтя с половиною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя… И положи крышку на ковчег сверху; в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе. Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою… о всем, что не буду заповедыватьчрез тебя сынам Израилевым». И сказано в первой книге Царей (III книге Царств), в речи Соломона при освящении Первого Иерусалимского Храма: «Я вступил на место отца моего Давида, и сел на престоле Израилевом… и построил храм… и приготовил там место для ковчега, в котором Завет Господа, заключенный Им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли Египетской». С этим Ковчегом (Скинией) Завета в еврейской истории связана странная и до сих пор до конца не проясненная загадка. Исход (или «вывод») евреев из «земли Египетской» датируется современными учеными серединой XIII века до новой эры; царствование Соломона — серединой X. Их разделяет, таким образом, около трех столетий. События этих столетий — скитания в пустыне, обретение Торы, завоевание Ханаана, эпоха Судей, царствования Саула и Давида — весьма подробно описаны в Библии. В этих описаниях Ковчег Завета, сооруженный Моисеем в самом начале 40-летних странствий по пустыне, упоминается не менее 200 раз. Но после воцарения Соломона Ковчег навсегда исчезает из поля зрения еврейских источников. Этот странный и необъяснимый факт не может не вызывать недоумения. Видимо, что-то произошло в ту пору с Ковчегом. Но что? Огромный вопросительный знак повисает над древней еврейской историей. Первым приходит на ум предположение: а, может, Ковчег исчез? Был-похищен или перенесен куда-то и спрятан? Но Библия не могла бы умолчать о такой трагической утрате. Сами евреи посягнуть на Ковчег не могли: то была, как-никак, национальная святыня! — а завоеватели в те годы к Иерусалиму еще не подступали. Тогда, быть может, дело обстояло проще: с появлением Храма Ковчег утратил былое значение? Но ведь Храм и был построен для хранения Ковчега. Опять неувязка. К тому же и первое, и второе предположения противоречат духу одного из последних упоминаний о Ковчеге, которое мы находим в книге пророка Иеремии. Там, в главе 3-й, сказано о грядущих временах: «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни… не будут говорить более: «Ковчег Завета Господня»; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет». Иеремия жил, как считает, современная наука, в конце VI века до новой эры. И если пророк говорит об эпохе, когда Ковчега «уже не будет» и к нему «не будут приходить», как о далеком будущем, значит — в его время Ковчег существовал и к нему приходили. Более того — вся тональность этого отрывка свидетельствует, что во времена Иеремии Ковчег все еще рассматривался как важнейшая национальная святыня. Ведь Иеремия известен как пророк, восставший против внешней религиозной символики — жертвоприношений в Храме, храмовых богослужений и так далее. В сущности, приведенный выше отрывок выдержан в том же духе: вот сейчас вы поклоняетесь Ковчегу, а придет время, исполнится завет Господень, и поклонение это станет излишним. Стало быть, современники еще поклонялись. Утопические времена, описанные Иеремией, не наступили, Завет не «исполнился», но поклонение Ковчегу, тем не менее, прекратилось. В конце жизни Иеремии, в 597 г. до н. э., знаменитый вавилонский владыка Навуходоносор штурмом взял Иерусалим, разрушил Храм и увел часть народа в «вавилонский плен». И поскольку Иеремия был самым последним, кто упоминал Ковчег в качестве существующего, историки получили отличную возможность связать решительное исчезновение всяких дальнейших упоминаний о Ковчеге с этими трагическими событиями. Теперь уже не было надобности в искусственных предположениях. Загадка объяснялась просто и логично. Ковчег был захвачен победителями при взятии Храма вместе со всей прочей добычей и увезен в Вавилон — гласила одна из версий. Ковчег был спрятан последними жрецами Храма, а после возвращения народа из плена уже не найден — гласила другая. Но была еще третья версия, самая романтическая. Она не довольствовалась предложенными объяснениями и снова ставила вопрос: почему источники упоминают о разрушении Храма, но ни словом не поминают судьбу хранившегося там Ковчега? И давала ответ: а потому, что ко времени взятия Иерусалима Ковчег давно уже исчез из Храма и был укрыт в совершенно иных местах, далеко от Страны Израиля, а умолчание ТАНАХа об этом, что ни говори, сенсационном факте продиктовано вполне серьезными и вескими причинами… Эта версия бытовала в еврейских и нееврейских кругах долгие столетия. Она породила множество догадок о местонахождении Ковчега и длинную вереницу его искателей, а уже в наши дни отразилась, хоть и в совсем уж вульгарной форме, в фильме «Искатели утраченного ковчега», а также в незаслуженно нашумевшем детективе Д. Брауна «Код да Винчи» (почти дословно повторяющем серьезную книгу М. Бежана, Р. Лея и Г. Линкольна «Святая кровь и святой Грааль»). Несколько лет назад на прилавках книжных магазинов (в том числе западных, российских и израильских) появилась книга английского журналиста Грэма Хэнкока «Знак и печать». Эта объемистая (ровно 600 страниц) книга сразу сделалась сенсацией года. И неудивительно: Хэнкок утверждал, что ему, наконец, удалось разгадать тайну пропавшего Ковчега, установить место его нахождения и проследить всю его загадочную судьбу с самого момента исчезновения из Храма. Многолетние поиски Ковчега привели автора из Лондона в далекую Эфиопию, оттуда в Шартр и снова в Лондон, а затем — назад в Эфиопию. Рассказ и гипотезы Хэнкока настолько интересны сами по себе, что даже если и не убеждают читателя до конца, заслуживают подробного изложения. Любители исторических загадок наверняка найдут в них пищу для увлекательных размышлений. Вопреки всем правилам детективного повествования, Хэнкок начинает свой рассказ сразу с разгадки. Как мы увидим, у него есть на то основания: напряженность сюжета от этого не только не уменьшается, но даже возрастает. Так вот, с этим-то дальним прицелом на постепенное усложнение загадки Хэнкок в первой же главе повествует о том, как в 1983 году судьба забросила его в Эфиопию. Интерес к старине привел его в древний город Аксум, что стоит на одном Из притоков Голубого Нила. В книгах, посвященных истории Эфиопии, он прочел, что, согласно местным легендам, именно в Аксуме, в одном их старинных храмов, хранится знаменитый Ковчег Завета, столь многократно упоминаемый в Библии. Хэнкоку удалось разыскать этот храм и разговорить его настоятеля. Тот подтвердил, что легенда истинна: в его храме действительно находится тот выложенный золотом деревянный ящик, в который Моисей некогда поместил Иерусалимский Храм. — Оттуда, — сказал старик, — эта святыня вскоре была принесена в Эфиопию. — Кем? — нетерпеливо спросил Хэнкок. — Из ваших легенд я знаю только, что знаменитая царица Савская была владычицей Эфиопии, именно отсюда отправилась в Иерусалим к Соломону и там родила ему сына… — Его звали Менелик, — подхватил настоятель, — и хотя он был зачат в Иерусалиме, но родился в Эфиопии, куда царица вернулась, едва узнала, что понесла. В 20 лет Менелик и сам отправился в Иерусалим и какое-то время жил при Дворе отца. Но уже через год он стал ощущать, что придворные завидуют его возвышению и требуют, чтобы Соломон удалил от себя принца. Видя это, Менелик решил не искушать судьбу и вернуться домой. Царь дал сыну в спутники самых знатных юношей своего двора, и среди них — Азарию, сына верховного жреца Иерусалимского Храма. Этот-то Азария перед уходом и украл Ковчег из Святая Святых Храма, но признался в этом Менелику. Менелик счел, что такое воровство не могло свершиться без воли Господней, и потому оставил Ковчег у себя. Так Ковчег, в конце концов, и попал в Аксум… Рассказ был похож на тысячи других аналогичных легенд, но, в отличие от них, имел ту особенность, что мог быть немедленно проверен. — Могу ли я увидеть этот Ковчег? — осторожно спросил Хэнкок. — Нет, — ответил старик. — Только мне одному разрешено к нему приближаться. Но каждый год, в январе, мы выносим его для специальной церемонии Тимкат… — Значит, я смогу увидеть его в январе? — Не знаю, — уклончиво произнес настоятель. — В стране идет гражданская война, вокруг много злых людей, я не уверен, что в этом году мы вынесем Ковчег на всеобщее обозрение… Но и тогда вы ничего не сможете увидеть — Ковчег завернут в ткани. — Зачем?! — Чтобы защитить людей от него. Он способен проявить страшную силу. Хэнкок явился в храм подготовленным. Накануне он беседовал с одним из эфиопских администраторов в Аксуме и именно от него впервые услышал легенду о Ковчеге. По словам администратора, свергнутый незадолго до того император Хайле Селассие считал себя 225-м прямым потомком пресловутого Менелика, сына Соломона и царицы Савской, и даже именовал себя так в некоторых официальных документах. Сама легенда о Ковчеге, несомненно, была очень древней, поскольку называла первым местом его хранения храм Богородицы, построенный в Аксуме в самом начале IV века, когда христианство только что проникло в Эфиопию. В XVI в., во время вторжения в страну мусульманских полчищ, Ковчег был перепрятан, а затем, сто лет спустя, по утверждению легенды, возвращен на прежнее место и лишь в 1965 году перемещен в более пышный храм, построенный Хайле Селассие. Именно там Хэнкок и встретился со старым настоятелем. Дела Хэнкока в Эфиопии подходили к концу, продолжать расспросы о судьбе Ковчега в той накаленной эфиопской обстановке показалось ему опасным, и он покинул страну, чтобы, вернувшись в Лондон, обратиться за консультацией к специалистам. Одним из лучших знатоков эфиопских древностей считался в Великобритании профессор Панкхерст, основатель императорского Института эфиопских исследований в Аддис-Абебе, и Хэнкок направился к нему. Панкхерст подтвердил, что легенда о Менелике бытует в Эфиопии с незапамятных времен, а самая первая ее письменная версия содержится в манускрипте XIII века, именуемом «Кебра Нагаст». Сам Панкхерст, однако, не очень верил этой легенде. Связи между Эфиопией и древним Израилем, несомненно, существовали: эфиопская культура неслучайно имеет сильный привкус иудаизма, а одно из племен страны, фалаши, совершенно явно исповедует еврейскую религию; но это может быть результатом длительных контактов с древней еврейской общиной в Йемене, возникшей в I в. н. э., после завоевания Палестины римлянами. Что же касается Ковчега, то во времена Соломона он просто физически не мог быть доставлен в Аксум, потому что город этот возник лишь через восемь столетий после смерти Соломона. Разумеется, он мог быть перенесен в любое другое место, но легенда содержит и многие другие анахронизмы и сомнительные моменты. Например, в ней говорится, что со времен появления Ковчега в Эфиопии все христианские церкви усвоили обычай помещать в своих алтарях миниатюрные его копии, получившие название «табот» (сам Ковчег иногда именуется поэтому «Табота Цион»). Знает ли Хэнкок, как выглядят эти «таботы»? Нет? Так вот — это попросту несколько деревянных брусков, аккуратно уложенных в деревянный ящик. Если это — копия Ковчега, то как же выглядел тогда настоящий Ковчег? — Выходит, тут и конец красивой легенде? — пробормотал Хэнкок и разочарованно усмехнулся. Он не знал тогда, что для него это только начало. * * *Итак, эфиопская легенда о Похищении Ковчега из Иерусалима оказалась, по-видимому, красивой выдумкой. И, тем не менее, мысль о ней продолжала жить где-то в подсознании Хэнкока и заставляла его время от времени возвращаться к размышлениям о загадке Ковчега. Порой его возвращали к ней случайные упоминания в печати. Так, в одной из английских газет он натолкнулся на перепечатку рассказа группы израильских туристов, которые побывали на торжественной и таинственной религиозной церемонии в эфиопском городе Алибела, неподалеку от Аксума, где Хэнкок некогда разговаривал с хранителем Ковчега. Туристы рассказывали, что в этом древнем городе, с его высеченными в красных скалах одиннадцатью христианскими церквами, они стали свидетелями многотысячного ежегодного шествия, во главе которого выступали наряженные в ритуальные одеяния священнослужители, несшие на плечах покрытый тканью «Ковчег Завета». Этот Ковчег — или что бы там, ни было под тканью — священники вносили в шатер на берегу озера, и всю ночь, пока Ковчег пребывал в шатре, проводили в молитвах над ним. На следующий день, после торжественного молебна, который открывал сам архиепископ Аксума, Ковчег возвращался в храм и вновь поступал в распоряжение своего «хранителя». На все просьбы израильтян показать им Ковчег хранитель отвечал, что это невозможно. «Ковчег — это огонь живой, страх Господень, и он поглотит любого, кто явится к нему без спроса». Эти слова живо напомнили Хэнкоку ответ хранителя на его собственную просьбу показать Ковчег. Были и другие поводы для воспоминаний. В ходе работы над очередной книгой об Эфиопии Хэнкоку пришлось заняться изучением фалашей, и это заставило его прочесть, наконец, перевод того знаменитого манускрипта «Кобра Нагаст», о котором ему рассказывал профессор Пэнкхерст и в котором содержалась самая ранняя письменная версия эфиопской легенды о царице Савской и царе Соломоне, их сыне Менелике и похищении им Ковчега Завета из Иерусалимского Храма. И снова легенда произвела неотразимое впечатление на Хэнкока, хотя к тому времени он уже знал, что историки считают царицу Савскую вовсе не эфиопской, а йеменской владычицей, трон которой находился в Сабе, или Саве, и поныне остающейся столицей Йемена. Но самое глубокое впечатление, по сути — подлинное потрясение, заставившее Хэнкока. снова вернуться к поискам Ковчега, ожидало его впереди. И настигло оно его в совершенно неожиданном месте. Летом 1989 года, закончив упомянутую книгу об Эфиопии, он вместе с семьей отправился в отпуск во Францию. Отпускные маршруты привели его в город Шартр, и он решил осмотреть тамошний знаменитый собор — чудо готической архитектуры, сооружение которого было начато в XI и завершено в XII веке. Путеводители рассказывали, что строители собора широко пользовались так называемой «гематрией» — древним еврейским шифром, связывающим числа с буквами алфавита, и с ее помощью зашифровали в архитектурных пропорциях собора множество сакральных тайн. Такие же сложные и понятные только посвященному знаки были скрыты в других деталях собора — в его скульптурах, арках и витражах. Вооружившись путеводителем, Хэнкок провел все утро в разглядывании этих сложнейших архитектурных ребусов. Проголодавшись, он направился в кафе напротив. Каково же было его удивление, когда он увидел вывеску. Кафе называлось «Царица Савская». Как очутилась здесь героиня древней легенды? Хозяин кафе охотно объяснил: «Прямо напротив, в южной арке собора, стоит статуя этой царицы». Действительно, присмотревшись к скульптурам и сверясь с путеводителем, Хэнкок убедился, что среди одиннадцати скульптурных фигур арки, изображавших еврейских пророков и царей, была и фигура царицы Савской с цветком в левой руке. Путеводитель извещал также, что арка с ее фигурами была сооружена в первой четверти XIII века как раз в то время, когда в Эфиопии был написан манускрипт «Кебра Нагаст», содержавший историю Менелика и Ковчега. Появление языческой царицы среди героев еврейской истории было довольно странным. Библейский рассказ о ней ни словом не упоминает о ее переходе в иудаизм, который мог бы объяснить ее соседство с Соломоном и Давидом в арке собора. Зато в «Кебра Нагаст», напротив, утверждалось, что во время пребывания в Иерусалиме царица приняла иудаизм. И дополнялось это утверждение рассказом о том, как ее сын, принц Менелик, тоже бывший правоверным иудеем, принес иудаизм в Эфиопию. Но как могли создатели Шартрского собора узнать о легендах, содержащихся в манускрипте, написанном почти в то же время в далекой Эфиопии? С другой стороны, совпадение дат наводило на размышления. Охваченный этими размышлениями Хэнкок снова заглянул в путеводитель и к своему изумлению обнаружил, что в соборе есть еще одна статуя царицы Савской. Она находилась в северном портале, куда Хэнкок торопливо и направился. В правой арке портала он увидел фигуру царицы, у ног которой свернулся маленький африканец. Путеводитель сообщал, что это фигурка «эфиопского слуги». Иными словами, путеводитель недвусмысленно отсылал царицу в Африку, как будто создатели собора действительно были уверены в ее эфиопском происхождении, на котором настаивала книга «Кебра Нагаст». Но еще более любопытным было то, что на колонне, отделявшей статую царицы от стоявшей в центральной арке статуи легендарного библейского царя-жреца Мельхиседека, Хэнкок обнаружил изображение небольшой тележки с установленным на ней ящиком или сундуком. Тележка стояла точно посредине между двумя фигурами, а под ней красовалась какая-то плохо различимая надпись. Угадать можно было только два слова: Archa Cederis — но и их Хэнкоку оказалось достаточно, потому что первое из этих слов тотчас напомнило ему английское «Ark», то есть «Ковчег». В лихорадочном возбуждении он начал рассматривать колонну и, обойдя ее кругом, обнаружил еще одно каменное изображение той же тележки. На этот раз над ней склонился какой-то человек, а надпись под изображением тоже по-латыни — была подлинной. Что особенно поразило Хэнкока — так это то, что, на сей раз, тележка была изображена удаляющейся от Мельхиседека и приближающейся к царице Савской. Как будто бы строители собора намеренно хотели запечатлеть в камне эфиопскую легенду о похищении Ковчега из древнего Израиля (символом которого был Мельхиседек, поименованный в Библии «царем Салема», что обычно толковалось как древнее название Иерусалима) и переход его во владение Эфиопии (которую символизировала фигура царицы Савской). Хэнкок заметил еще, что царица здесь изображена без цветка, зато Мельхиседек держит в правой руке кадило (очень похожее на те, которые он видел в эфиопских церквях), а в левой — что-то вроде чаши или кубка, но не с жидкостью, а с каким-то цилиндрическим предметом внутри. На сей раз путеводители не дали ответа. Правда, в путеводителе надпись, сопровождающая изображение тележки с Ковчегом, приводилась полностью, но познаний Хэнкока в латыни оказалось недостаточно, чтобы этот текст понять. Что же касается странных предметов в руках Мельхиседека, то один путеводитель сообщал, что это символы христианского причастия (поскольку легендарный царственный жрец считается предшественником Христа), зато другой утверждал нечто неожиданное: «Мельхиседек держит в левой руке чашу святого Грааля, в которой находится Камень» — и добавлял: «Это позволяет связать данную фигуру с известной поэмой Вольфрама фон Эшенбаха (согласно некоторым преданиям, члена ордена тамплиеров), считавшего, что Грааль — это Камень». В истории Ковчега — и без того запутанной — явно проступали новые, загадочные детали. Тележка с Ковчегом, направлявшаяся от статуи Мельхиседека к статуе царицы Савской, явно связывала историю похищения Ковчега (если создатели собора действительно хотели рассказать о нем) с легендарным «царем Салема», а он был изображен, если верить путеводителю, с чашей святого Грааля в руке. Таким образом, эфиопская легенда о Ковчеге неожиданно переплеталась с христианской легендой о Граале. Тут было над чем подумать. Но в одиночку распутать все эти нити Хэнкок не мог — ему нужна была квалифицированная помощь. Он нашел ее в Тулузе, где в это самое время проводил свой отпуск его давний знакомый, известный историк искусства профессор Питер Ласско. С трудом дождавшись встречи, возбужденный Хэнкок обрушил на Ласско поток недоуменных вопросов. «Что означает чаша в руке Мельхиседека? Могла ли проникнуть в средневековую Европу эфиопская легенда? Что гласят латинские надписи на колонне Шартрского собора?» Легче всего оказалось ответить на последний вопрос. Слою Arena действительно обозначало «Ковчег». Зато Ctdtris могло быть либо искаженным словом Foederis, то есть «Завет», либо необычной формой латинского глагола «cedere», то есть «отдавать» или «отпускать на волю». В сочетании это давало либо просто «Ковчег Завета», либо «Ковчег, который ты отдашь». Что же касается второй — более длинной надписи, то ее Ласско истолковал как «Сим отпускается Ковчег, который ты отдаешь» или как «Здесь скрыт Ковчег, который ты отдаешь» — в зависимости от того, каким образом были искажены резчиками старинные латинские слова. С толкованием Мельхиседека как символа древнего Израиля Ласско, однако, решительно не согласился: «Мельхиседек большинством ученых воспринимается как библейский прообраз Христа, поэтому чаша и прочие предметы в его руках, скорее всего, — символы христианского причастия». А вот на второй вопрос Ласско затруднился ответить: «Нет, я никогда не слышал, чтобы строители Шартрского собора вдохновлялись какими-либо иными рассказами, кроме библейских и христианских. Я не знаю ни одного источника, где бы отмечалось влияние эфиопских, да и вообще африканских мотивов на архитектуру собора…» Потом он замолчал, задумался и неожиданно добавил: «Впрочем, ошибаюсь… Мне кажется, что когда-то я читал статью, в которой говорилось о проникновении эфиопских идей в средневековую Европу. И знаете — речь там шла именно о святом Граале! Насколько я помню, автор утверждал, что Вольфрам фон Эшенбах находился под влиянием какой-то эфиопской христианской традиции». — «Да кто он такой, этот Эшенбах?» — нетерпеливо вскричал Хэнкок. «О, это довольно известная личность. Один из первых, кто писал о святом Граале. Он написал целую книгу о его поисках. Она называется «Парсифаль»…» — «По-моему, так называется опера Вагнера…» — неуверенно пробормотал Хэнкок. «Вот именно! Вагнер вдохновлялся романом Эшейбаха». — «И этот Эшенбах… когда он жил?» — «В конце двенадцатого — начале тринадцатого века. Тогда же, когда создавался северный портал Шартрского собора». Какое-то время оба собеседника молчали. Потом Хэнкок с надеждой спросил: «Эта статья, о которой вы упоминали, — кем она написана?» — «Убейте, не помню, — сконфуженно ответил Ласско. — Это было лет двадцать назад. Помню только, что это был какой-то Адольф. Имя немецкое, и оно связалось в моей памяти с именем Эшенбаха — он ведь тоже был немец». Теперь в руках Хэнкока была уже не одна, а целых три загадки: загадка исчезнувшего Ковчега, загадка его непонятной связи с легендой о святом Граале и загадка имени автора той давней статьи, который, судя по воспоминаниям Ласско, уже двадцать лет назад заинтересовался той же проблемой. Прошло больше года, прежде чем он нашел ответ на третью загадку. И этот ответ действительно пролил некий свет на первые две. Но, как это часто бывает, в более ярком, свете стали видны новые, еще более загадочные детали. * * *Итак, Хэнкок обнаружил загадочную цепочку: древняя Эфиопия — средневековая Франция, легенда о похищенном Ковчеге — легенда о святом Граале. Но что могло связывать эти отдаленные друг от друга места? Что могло быть общего между древнееврейской святыней и мистическим христианским сокровищем? Если о Ковчеге история, как мы уже знаем, молчала, то о Граале она упоминала часто и пространно. Стоило Хэнкоку погрузиться в эти упоминания, как поиск немедленно привел его к любопытным и неожиданным выводам. Самым известным источником сведений о фантастической чаше Грааля был знаменитый роман Томаса Мэллори «Смерть Артура». Написанный в XV веке, этот свод легенд о знаменитом английском короле Артуре, за Круглым столом которого собирались самые выдающиеся рыцари страны, посвящал Граалю одну из семи своих книг, озаглавленную в духе эпохи витиевато и велеречиво: «Повесть о святом Граале в кратком изводе с французского языка, каковая есть повесть, трактующая о самом истинном и самом священном, что есть на этом свете». Начиналась повесть с того, что однажды ко двору короля Артура явилась девица благородных кровей, которая попросила помощи королевских рыцарей в неком важном и запутанном деле. Эта просьба, которую рыцари, разумеется, сочли необходимым уважить, привела к запутанной череде невероятных приключений славного рыцарского коллектива, включавшего сэра Ланселота, сэра Галахада, сэра Гавейна и других сэров. В конце концов, им удалось найти искомый заколдованный замок, в глубинах которого обнаружилась скрытая комната, в центре которой виднелся серебряный престол, на каковом престоле покоилась некая таинственная чаша. Чаша эта оказалась способной на всевозможные необыкновенные чудеса. Одним из первых таких чудес было явление благообразного седовласого старца, который сообщил рыцарям, что он является первым христианским епископом Британии Иосифом Аримафейским, умершим двести лет назад. Поведав это, — старец исчез, уступив место самому Иисусу Христу, который сообщил пораженным рыцарям, что из найденной ими чаши он некогда ел и пил на Пасху, а позже ученик его, вышеупомянутый Иосиф Аримафейский, собрал в нее его кровь, пролитую во время распятия. Из примечаний к книге Хэнкок узнал, что упоминание о ее французском, первоисточнике не было случайным — сочиняя свой роман в одиночестве тюремной камеры, куда его привели политические авантюры, английский дворянин Томас Мэллори действительно вдохновлялся более ранними французскими хрониками. Обратившись к этим хроникам, Хэнкок столь же быстро выяснил, что у их авторов не было еще никаких представлений ни о священной чаше, ни об Иосифе Аримафейском, ни об «Иисусовой крови». Король Артур в этих ранних рыцарских романах отправлялся не на поиски заколдованного замка, а, наподобие многих фольклорных героев, спускался в царство мертвых и искал там вовсе не чашу, а сказочный «котел изобилия» по имени «Анвен». Лишь позднее, к началу XII века, в романах артурова цикла стала появляться фигура пресловутого Иосифа, которая все чаще и чаще наделялась чертами «первокрестителя» бриттов и англосаксов. Одновременно с этим стала упоминаться в этих романах и христианская легенда о некой чаше, в которую тот же Иосиф якобы собрал кровь Иисуса. А потом произошло «сращение» двух предметов: артуров «котел изобилия» слился в воображении хронистов с чашей Иосифа. Даже название чудесной чаши пошло отсюда: кельтское слово «сгуо!» (корзина изобилия) превратилось в старофранцузское «sang real», или «истинную кровь», а это, в свою очередь, стало читаться, как «san great», то есть святой Грааль. С этого момента похождения рыцарей короля Артура стали приобретать совершенно новый, христианско-мистический смысл. Теперь это были уже не просто странствия в поисках схваток и приключений, а целенаправленные поиски чаши святого Грааля, предпринимаемые ради содержащейся в ней Божественной благодати. Чудесная чаша начинает появляться также в живописи и скульптуре того времени, в том числе и на стенах тогдашних соборов, вроде Шартрского. А немного позже она уже оказывается в центре пространных романов, посвященных ее поиску и обретению. Первый такой роман написал в конце XII века знаменитый бретонский автор Кретьен де Труа, создатель пятитомного цикла о короле Артуре. О Граале там говорится много и возвышенно: он-де способен на то и на се, и на это, и вообще он «поддерживает жизнь во всей ее силе», но, как ни странно, при этом ни разу не сказано, как же выглядит этот необыкновенный предмет. Из контекста же совершенно невозможно понять, то ли это действительно чаша, то ли сосуд побольше, вроде супового котла (в одном месте Кретьен так и заявляет: герою, мол, подали в Граале очередную порцию пищи), то ли еще что-то третье. На мысль о «третьем» Хэнкока навело чтение второго по времени появления прославленного романа о Граале — написанной уже в начале XIII века книги немецкого автора Вольфрама фон Эшенбаха «Парциваль». Тут Грааль вообще именовался… «Камнем». В тексте Эшенбаха прямо и недвусмысленно говорилось: «Как бы ни был болен человек, с того дня, что он увидит Камень, он проживет, по меньшей мере, неделю, и даже цвет лица у него не изменится. Такая сила дана этому Камню над смертными, что их плоть и кости вскоре делаются такими же, как у молодых. Камень этот называется Грааль». История явно усложняется. Оказывается, в момент своего первого появления в литературе Грааль не имел фиксированного облика: Кретьен представлял себе что-то вроде сосуда, Эшенбах — что-то вроде камня. Как же он превратился в «чашу»? Кто был «виновником» этого превращения? Как и в детективных романах, исторический «преступник» тоже оставляет за собой следы, и в данном случае цепочка таких следов вела, как вскоре выяснил Хэнкок, к знаменитому в раннем средневековье монашескому ордену цистерцианцев. Это его братья первыми составили свод апокрифов под общим названием «В поисках святого Крааля», после появления которого загадочный «сосуд» из романа Кретьена и «Камень» из книги Эшенбаха были полностью вытеснены новым представлением о Граале как о чаше с кровью Христовой. Но вскоре представление это претерпело еще один неожиданный и странный поворот. В конце XII века орден цистерцианцев был преобразован и устроен совершенно по-новому. Инициатором и руководителем этого преобразования был знаменитый церковный деятель того времени — епископ Бернард Клервосский. Влияние Бернарда сказалось не только на деятельности ордена цистерцианцев и на христианском богословии; он наложил свой отпечаток также на тогдашнюю церковную живопись и архитектуру. А одной из основных его идей в этой области было символическое отождествление Богородицы со «священным сосудом», а проще говоря — с чашей Грааля. Подобно тому, как чаша эта, согласно легенде об Иосифе Аримафейском, содержала Иисусову кровь, чрево Богородицы в свое время содержало Иисусову плоть. Вот почему в скульптурах соборов, посвященных Богородице, строительство которых было вдохновлено Бернардом Клервосским, так часто появлялось изображение-чаши Грааля — это был попросту символ девы Марии. Но у Бернарда, оказывается, была еще одна навязчивая идея. Он считал, что дева Мария подобна не только сосуду с плотью Христовой, но и хранилищу Христова учения! Вместе с Божественным младенцем ее чрево содержало в себе также и будущий Завет Христа с человечеством — так называемый Новый Завет, который, по убеждению христиан, отменил и заменил собой Ветхий Завет, заключенный Богом с праотцем Авраамом. И вот тут-то и возник в сознании Бернарда тот неожиданный поворот мысли, о котором мы только что упомянули. Если дева Мария хранила в себе Новый Завет в облике Иисуса, то она была подобна в этом тому знаменитому Ковчегу, который, согласно Библии, хранил в себе Ветхий Завет в виде скрижалей Моисея! И вот в молитвах, сочиненных епископом из Клерво, появляется выражение «Богоматерь Ковчега Завета». Родившись в XII веке, оно сохранилось до нашего времени: в Кирьят-Йаарим, что между Тель-Авивом и Иерусалимом, стоит построенная в 1924 году доминиканская церковь, которая так и называется «Храм девы Марии-Ковчега Завета». И украшен он изображением Ковчега. Итак, дева Мария и «живой Грааль» с его Иисусовой кровью, и «живой Ковчег» с его каменными скрижалями. Это позволяет понять, почему Мельхиседек в арке Шартрского собора — посвященного, кстати, той же деве Марии! — держит в руках чашу Грааля, а рядом с ним находится скульптурное изображение Ковчега. Остаются, однако, две загадочные детали: «камень» в чаше, что в руках Мельхиседека, и тележка, на которой лежит Ковчег. Камень в чаше Грааля явно намекает на очень архаичное, еще доцистерцианское, эшенбаховское толкование Грааля как «Камня», а тележка напоминает об эфиопской легенде, рассказывающей о похищении Ковчега из Иерусалима и транспортировке его в Эфиопию. И тут в мозгу Хэнкока вспыхнула дерзкая догадка: а не могло ли быть так, что именно эта эфиопская легенда, проникнув в христианскую Европу, и легла здесь в основу рассказа о чаше святого Грааля? Вообразим такую цепочку: европейским христианам известен евангельский рассказ о чаше, в которую тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого учителя; с другой стороны, имеются смутные воспоминания, что какой-то Иосиф когда-то пришел из Иерусалима проповедовать христианство; а? с третьей, становится популярной легенда, что кто-то унес из того же Иерусалима Ковчег Завета, который есть символ девы Марии, которая, в свою очередь, есть символ чаши с кровью Иисуса. Так, может, чаша эта и есть вместилище каменных скрижалей, унесенное не каким-то там Менеликом, а Иосифом, и не в Эфиопию, а в Европу?! Если это так, то никакой чаши Грааля никогда и не было. В обоих рассказах — о короле Артуре и о принце Менелйке — речь шла не о двух разных предметах, а об одном и том же — и предметом этим в обоих случаях был утраченный Ковчег! Догадка была действительно дерзкой. Но хуже того — она была еще и фантастичной. В самом деле, даже согласившись с тем, что святой Грааль — это просто Ковчег Завета, как объяснить проникновение эфиопской легенды в средневековую Европу? И не просто проникновение, но и такое распространение, которое позволило Вольфраму фон Эшенбаху назвать Грааль «Камнем», а великому Бернарду Клервосскому связать оба предмета в единый религиозный символ? Мыслимо ли это и как это могло произойти? Свет на загадку пролила та статья, о которой в давнем разговоре с Хэнкоком упомянул, если помните, профессор Ласко. В конце концов, Хэнкок все-таки статью эту разыскал. Ее автором оказалась известная медиевистка (специалистка по средним векам) Елена Адольф. Название статьи было сложным и академически занудным: «Новые соображения о восточных источниках романа «Парциваль» Вольфрама фон Эшенбаха». Одно слово в этом названии приковало внимание Хэнкока: «ВОСТОЧНЫЕ…» Он трясущимися руками развернул журнал. И сразу же понял: да, Елена Адольф утверждает, что Эшенбах «знал историю Грааля в ее восточном, точнее — эфиопском, варианте». Эфиопский вариант легенды о Граале… Это означало, что его дерзкая гипотеза переставала, по крайней мере, быть фантастичной. Ибо слова Елены Адольф Давали этой гипотезе первое, но зато вполне серьезное подтверждение. И подталкивали мысль к новому поиску. Следы утраченного Ковчега, несомненно, следовало искать в Эфиопии. Елену Адольф, эту авторитетную специалистку по средневековой литературе, интересовал чисто литературоведческий вопрос: почему Вольфрам фон Эшенбах, взявшись завершить незаконченный роман Кретьена де Труа о поисках святого Грааля, вдруг повернул своего «Парцифаля» в совершенно неожиданную сторону — превратил тот Грааль, что у Кретьена выглядел скорее как сосуд, в какой-то непонятный «Камень»? Эту загадку она объясняла тем, что Эшенбах, судя по всему, был знаком с эфиопским источником под названием «Кебра Нагаст» — тем самым, в котором рассказывается история похищения иерусалимского Ковчега Завета Менеликом, сыном царя Соломона и царицы Савской, первым «царем Эфиопии». Легенда из «Кебра Нагаст», утверждала Адольф, видимо, произвела на Эшенбаха такое впечатление, что он решил как-то совместить ее с легендой о Граале. Может быть, он рассчитывал, что это сделает его роман еще более популярным среди читателей, чем роман Кретьена. * * *Елена Адольф не пыталась объяснить, каким образом эфиопская легенда могла попасть в средневековую Европу. Ее как литературоведа это и не особенно интересовало. Она лишь мельком заметила, «что переносчиками предания могли быть еврейские купцы, которые в те времена смело странствовали по различным частям света, наверняка бывали в Эфиопии, где было свое иудейское население, фалаши, а уж в Европе и вообще чувствовали себя как дома». Хэнкока, напротив, не интересовали литературные влияния. Ему было куда важнее, что Адольф тоже, в сущности, связала Грааль с Ковчегом. Но его предположения шли куда дальше, чем гипотезы Елены Адольф. Не может ли быть, что Эшенбах не столько намеревался расцветить свое повествование о Граале еще одной красивой легендой, сколько хотел рассказать именно о судьбе и поисках загадочно исчезнувшего Ковчега, а для этого зашифровал его историю — скрыл ее под маской рассказа о поисках Грааля? Коль скоро дело было так, то. и в тексте романа могли содержаться — скрытые, конечно, и понятные лишь для посвященных — указания на место, где и доселе хранится эта древняя священная реликвия. Как дешифруются тайные послания? Один способ состоит в поиске ключа к шифру. Для этого применяются всевозможные научные методы в сочетании с интуицией и косвенными соображениями. Однако куда надежнее другой способ: нужно хорошо знать, что вы хотите найти. И тогда успешная расшифровка вам почти гарантирована. Хэнкок выбрал именно этот путь. Он стал вчитываться в текст «Парцифаля». Мелкие детали, не замеченные при первом чтении, теперь останавливали его буквально на каждом шагу. Вот, например, у Эшенбаха говорится, что Грааль способен прорицать будущее, и в Библии о Ковчеге сказано примерно то же самое. Грааль — источник плодородия, и библейский Ковчег — источник плодородия. Грааль сам собой светится, и Моисей, возвратившийся с горы Синай со скрижалями Завета, тоже светился, да так, что сыны Израиля боялись к нему приближаться. Мало того! Когда Моисей первый раз спустился со скрижалями, он увидел, что евреи за время его отсутствия начали поклоняться Золотому тельцу. А у Эшенбаха рассказывается о неком Флегетанисе, который тоже «поклонялся тельцу, как Богу». Совпадение? Нет, явно не просто совпадение. Этому Флегетанису в романе отведена важная роль: именно ему небеса открывают имя Грааля. Иными словами, Грааль имеет прямую связь с небесами. Но ведь и скрижали Завета имеют такую связь! Сказано же в Библии, что они продиктованы («открыты») Моисею Богом. Какой реальный смысл может стоять за этим настойчивым упоминанием о небесном характере обоих предметов? Не идет ли речь о метеорите? Некоторые историки давно предположили, что моисеевы «скрижали» были в действительности двумя кусками «небесного камня». Древние народы весьма почитали такие «послания небес». Знаменитый черный камень, вмурованный в угол мекканской Каабы и почитаемый всеми мусульманами мира, — это ведь тоже не что иное, как метеорит. По преданию, он упал с неба на землю еще во времена Адама, чтобы вобрать в себя адамов «первородный грех»; затем перешел к Аврааму; а уже потом оказался во владении пророка Магомета. Любопытная деталь вдруг приковала внимание Хэнкока: у мусульман амулеты из метеоритного камня назывались «бетиль», что в средневековой Европе превратилось в «ляпис бетилис». А у Эшенбаха имя Камня-Грааля, открывшееся Флегетанису, было «ляпис экзилис» — словно нарочито искаженное «ляпис бетилис», да еще со своим многозначительно намекающим смыслом: ведь «ляпис экзилис», если перевести с латыни, — это «камень с неба». Нет, решительно все дороги, то бишь все намеки и совпадения, вели в Эфиопию. Недоставало лишь прямо указующего туда перста. Но и перст, оказывается, был! Нужно было только проникнуть в еще более глубокие пласты эшенбаховского шифра — и Хэнкок это сделал. Вчитываясь в текст «Парцифаля», он обнаружил одно странное и, на первый взгляд, мало связанное с основным сюжетом место — что-то вроде вставной легенды. Рассказывалось о неком рыцаре Гамурете, который отправился в страну Зазаманк и там встретился, с прекрасной ТЕМНОКОЖЕЙ царицей Белаканой. От этой встречи родился сын по имени Фейрефиз, но случилось это уже после того, как рыцарь Гамурет покинул свою темную возлюбленную и вернулся в Европу. Там он сошелся еще с одной красавицей, на сей раз белой, которая родила ему Парцифаля — истинного героя романа и главного искателя Грааля. Оставим на время Парцифаля и зададимся вопросом: что можно сказать о его отце? Или его история — роман любвеобильного белого аристократа и темнокожей царицы из экзотической страны — не напоминает нам что-то мучительно знакомое? Разумеется! При некотором усилии воображения можно немедленно опознать в рассказе основные черты истории Соломона и царицы Савской: любвеобильный герой, темная царица, экзотическая страна, незаконный сын. А вот и решающее доказательство: в «Кебра Нагаст» царь Соломон прямо говорит: «Этот сын, который похитил Ковчег Завета, он от женщины иного цвета, из другой страны, и даже вовсе черный…» Кстати, что это за имя такое — Фейрефиз? Звучит, конечно, экзотически, но поскольку автор романа — европеец, легко предположить, что свои экзотические имена и названия он изобретал, искажая знакомые слова какого-нибудь европейского языка. И, действительно, знающему человеку в слове «Фейрефиз» тотчас и отчетливо слышится французское «vrai fils», то бишь «истинный сын». И тут уж ему легко припомнить, что в той же «Кебра Нагаст» Соломон приветствует Менелика словами: «Ты мой истинный сын». Если у кого-то еще оставались сомнения в тождестве Фейрефиза и Менелика, то теперь они наверняка развеялись. И только повисший в воздухе след этих сомнений, их, можно сказать, исчезающий аромат заставляет все-таки вяло запротестовать: зачем же, зачем понадобилось Эшенбаху так сложно зашифровывать имена и географические названия? Написал бы просто: Менелик, Соломон, Эфиопия!.. Ответ на этот вопрос у Хэнкока готов — поскольку немецкий автор писал поверх французского первоисточника, явно используя роман о Граале для зашифровки истории Ковчега, то, видимо, у него были на то серьезные основания, и, дальнейшее терпеливое изучение текста должно вскрыть и эти основания, и самый шифр. Оставим поэтому вредные сомнения и всмотримся в дальнейшие злоключения Фейрефиза, уже обнаружившего себя в качестве зашифрованного Менелика — похитителя Ковчега. Достигнув соответствующего возраста и совершив положенное по жанру рыцарского романа количество подвигов, сей темнокожий принц, сообщает нам Эшенбах, женился на благородной даме Репансде Шойе, о которой ранее в романе мельком сообщалось, что она была той, кому Святой Грааль дал себя нести! Но мало этого — от брака Фейрефиза и Репанс родился сын, имя которого так знакомо, так легендарно, так знаменито, что не может не отозваться в сердце каждого знатока средневековых легенд. Имя это — пресвитер Иоанн. Тут мы окончательно убеждаемся, что Вольфрам фон Эшенбах весьма последовательно держался правила приплетать к истории Грааля все интересное и загадочное, о чем рассказывалось в то время длинными зимними вечерами в немецких деревнях. Сначала он поселил в своем романе Менелика-Фейрефиза из эфиопской легенды, а теперь впустил туда еще и пресвитера Иоанна. Напомним для начала, кто такой этот Иоанн. Впервые поведал о нем европейцам епископ Отто из Фрейзингена в 1145 году. Сославшись на сообщение некого «сирийца», епископ заявил, что где-то на Востоке живет могущественный царь-христианин, который готов предоставить в распоряжение крестоносцев свои огромные армии для отражения арабской угрозы. Еще через 20 лет в Европе распространился слух, что этот царь прислал европейским монархам личное письмо, в котором называл себя «пресвитером Иоанном, владыкой четырех Индий» и повторял предложение прийти на выручку крестоносцам в Святой земле. На письмо «пресвитера» ответил сам папа римский Александр III, который счел необходимым упомянуть, что о царе Иоанне ему давно известно из другого источника: сообщили, мол, из Святой Земли, что посланцы «пресвитера» просили выделить для своего монарха один из алтарей в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. (Запомним эту деталь, она сейчас окажется существенной.) * * *История пресвитера Иоанна положила начало розыскам — христианского царства «на Востоке» (об этом увлекательно рассказывал Лев Гумилев в книге «В поисках вымышленного царства», написанной еще до того, как автор всецело отдался делу разоблачения «врагов рода человеческого» в лице коварных евреев). Во всех этих исканиях царство Иоанна неизменно помещали «в Индиях». У Эшенбаха место, где поселились Фейрефиз и Рапанс и родился их сын, будущий пресвитер Иоанн, называется иногда «Трибалибот», иногда «Зазаманк», а иногда просто «Индия». Получается как будто, что и темнокожая царица Белакана — тоже родом из Индии (она ведь из Зазаманка). Но вся эта географическая путаница заметно упрощается, если вспомнить, что уже византийский монах Руфинус, первым описавший распространение христианства в Эфиопии, упоминая в своей книге мельчайшие детали ЭФИОПСКОЙ географии, саму страну, тем не менее, упорно именует ИНДИЕЙ. В средние века знаменитый Марко Поло тоже писал: «Абиссиния — это большая провинция, которая называется срединной, или второй Индией». А падре Альварец, который в 1520-526 гг. совершил путешествие по Эфиопии, прямо назвал свою книгу об этом путешествии «Правдивое описание страны Пресвитера Иоанна из Индий». Вслед за Альварецом многие другие европейские путешественники и картографы начали именовать христианского монарха Эфиопии «пресвитером Иоанном». Да и как было именовать его иначе, если в «Индиях» никакого христианского царства не обнаруживалось, зато в Эфиопии оно было издавна?! Обратим внимание, что такой авторитетный источник, как «Энциклопедия Британника», «сведя воедино все рассказы о «пресвитере Иоанне», недвусмысленно заявляет, что этот титул издавна присваивался абиссинскому королю, хотя какое-то время его — царство помещали в Азии». Итак, можно считать доказанным, что страна, в которой происходит действие вставной новеллы о Гамурете, Белакане, Фейрефизе, Репанс де Шойе и «пресвитере Иоанне», — это Эфиопия, как бы она ни называлась у любителя экзотических имен Эшенбаха. А теперь обратим внимание на некий совсем уж малоизвестный факт. Оказывается, у Эшенбаха, в свою очередь, был продолжатель. Через 50 лет после его смерти некто Альбрехт фон Шарфенберг решил довести до счастливого конца историю поисков святого Грааля, рассказанную Эшенбахом в «Парцифале», и написал роман «Молодой Титурель», утверждая, что в его основе лежит неопубликованный эпилог «Парцифаля». Чтобы сделать свое утверждение правдоподобным, Альбрехт так рабски следовал в своей книге манере Эшенбаха, что многие исследователи до сих пор убеждены в наличии прямой связи между обеими книгами. Так вот, в финале «Титуреля» святой Грааль найден и благополучно доставлен на вечное хранение — куда бы вы думали? В страну пресвитера Иоанна! Добивать — так добивать окончательно. Если вы помните, папа римский, отвечая «пресвитеру» (ответ датирован 1177 годом), писал, что узнал о нем благодаря просьбе о выделении алтаря. Так вот, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, начиная с 1189 года, действительно был такой алтарь — только принадлежал он ЭФИОПСКОЙ церкви, а пожалован был не крестоносцами, а великим арабским полководцем Саладином, который в 1187 году изгнал крестоносцев из Святого города. Этот переход святых мест в руки мусульман произошел буквально за несколько лет до того, как Вольфрам фон Эшенбах начал писать свой роман о поисках Грааля-Ковчега, а мастера Шартрского собора приступили к созданию скульптур, изображающих историю тогр же загадочно исчезнувшего предмета. Такое совпадение во времени явно не случайно. Человек с живым воображением не может не ощутить во всем этом привкус тайны. Наложение дат, имен и событий слишком уж осязаемо, чтобы от него отмахнуться. И, если вдуматься, то есть только одна правдоподобная гипотеза, которая способна прочертить вразумительный пунктир причинно-следственной связи сквозь всю эту запутанную сеть совпадений и намеков. Отдадим должное Грэму Хэнкоку — он сформулировал этот факт очень четко и убедительно. Гипотеза, навязываемая всей совокупностью отмеченных выше совпадений, формулирует Хэнкок, требует предположить, что захват арабами Иерусалима и изгнание оттуда крестоносцев почему-то заставили размышлять о судьбе Ковчега Завета. Кому-то каким-то образом стало известно, что эта великая реликвия не досталась Саладину, а была спрятана в Эфиопии, причем место его пребывания является величайшим секретом — знать о нем надлежит только «посвященным в тайну». Этот «кто-то» сообщил о тайне Вольфраму фон Эшенбаху; возможно, он же поведал секрет и мастерам из Шартра, ученикам Бернарда Клервоского: этим мастерам, строившим в то время храм Пресвятой Богородицы, которую их учитель Бернард считал мистически связанной с Граалем и Ковчегом, тайна Ковчега наверняка тоже была интересна. Мастера запечатлели основные моменты рассказа в глухих намеках скульптурной процессии, изображенной на колоннах северной арки собора. Что же касается Эшенбаха, то он попытался сохранить и передать потомкам тайну местопребывания Ковчега, только зашифровал все это в форме рассказа о Граале — чтобы поняли только «посвященные». * * *Кто же был этот загадочный «кто-то»? То должен был быть человек (или группа людей), хорошо осведомленный о событиях в далеком Иерусалиме, знавший легенды, связанные с утраченным Ковчегом (в том числе и легенды из эфиопской книги «Кебра Нагаст»), и заинтересованный в сохранении всей этой истории для «посвященных» из следующего поколения. Этот человек (или люди) должен был находиться в Святой Земле уже в момент прибытия туда посланцев «пресвитера Иоанна», то есть в 1145 году, и, по всей видимости, оставался там до прибытия посланцев эфиопского царя, то есть до 1177 года (контакт с этими посланцами мог, кстати говоря, объяснить знакомство с эфиопской легендой о Ковчеге). С другой стороны, этот человек (или люди), до поры до времени хранивший все эти сведения при себе, с какого-то момента стал проявлять решительное желание сохранить их для потомства хотя бы и в зашифрованном виде. И, судя по всему, он имел достаточные связи в Европе, чтобы это желание реализовать — например, через. Вольфрама фон Эшенбаха, подсказав тому облечь сообщение в форму рыцарского романа о Граале. Мысль, построившая эту логическую цепочку, неизбежно и немедленно должна устремиться на поиски следов этого загадочного человека. Но отдельный человек вряд ли способен осуществить такой сложный и разветвленный план. Стало быть, здесь действовала целая группа. Нет ли в истории упоминаний о; какой-то группе, которая, находясь в Иерусалиме, в то же время сохраняла связи с Европой, имела там, недюжинное влияние и к тому же была по каким-то своим причинам заинтересована сохранить для будущего тайну утраченного Ковчега? Стоит нам так поставить вопрос, как мы тотчас вспоминаем, что мы, в сущности, знаем такую группу. О ее могуществе, тайнах и разветвленном влиянии, о ее возникновении и кровавом конце написаны сотни научных трудов и увлекательных романов. И, что самое важное в данном контексте, о ней прямо упоминает сам Эшенбах, который, судя по некоторым сведениям, к группе этой и принадлежал. Речь идет о знаменитом ордене «Нищенствующих рыцарей Иисуса Христа и храма Соломона», а, проще говоря, «храмовниках» или — «тамплиерах» (от французского «temple», то есть «храм»). Основанный в 1118–1119 годах в Иерусалиме, орден этот имел свою — штаб-квартиру как раз на месте бывшего Соломонова Храма — того самого, откуда некогда, в библейские времена, так загадочно исчез Ковчег Завета. После изгнания крестоносцев из Палестины тамплиеры обосновались во Франции, где в начале следующего — XIII — века против них был возбужден знаменитый инквизиторский процесс, закончившийся казнью руководителей ордена и не менее знаменитым проклятием французским королям, которое провозгласил перед смертью великий магистр храмовников (и которое, добавим, не замедлило сбыться). В этом промежутке, между возникновением и исчезновением ордена, тамплиеры, судя по всему, и проникли в тайну Ковчега. Что ж, значит, поиск этой утраченной святыни ведет нас теперь прямиком к недолгой, но бурной истории загадочного, окруженного мистической тайной ордена, и нам остается лишь, перефразируя популярное нынче название «назад в будущее», воскликнуть: вперед в прошлое, и пусть любознательность нам поможет! * * *Итак, мы вернулись в XII век, к истокам рыцарского ордена храмовников-тамплиеров. Согласно гипотезе Хэнкока, именно они находились в центре всех тех загадочных событий, которые разыгрались вокруг утраченного Ковчега. Напомним, в чем состояла загадка. Ковчег Завета, столько раз упоминавшийся в Библии вплоть до нашествия вавилонян, внезапно и без всякого объяснения перестает упоминаться. Складывается впечатление, что Ковчег исчез. То ли евреи взяли его с собой в вавилонский плен, то ли он был спрятан, чтоб не попасть в руки захватчиков, а позже так и не найден. Существует, однако, и третья, куда более романтическая версия: Ковчег был похищен из Иерусалима еще во времена царя Соломона и увезен в другую страну. Эта версия основана на легендах, излагаемых в древнем эфиопском манускрипте «Кобра Нагаст». Там рассказывается, что сын Соломона и знаменитой царицы Савской, Менелик, тайком доставил Ковчег в Эфиопию, где эта священная реликвия находится до сих пор. Каким-то странным образом эта легенда проникла в средневековую Европу. Во времена крестовых походов в Европе неожиданно стали распространяться романы о поисках святого Грааля, который, судя по многим приметам, есть иное имя Ковчега Завета. В одном из самых знаменитых таких романов «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха местопребывание Ковчега-Грааля напрямую связывается с Эфиопией. Легенды «Кобра Нагаст» находят также отражение и в скульптурных изображениях относящегося к той же эпохе Шартрского собора, строители которого были вдохновлены знаменитым религиозным деятелем того времени епископом Бернардом Клервоским. Видимо, кто-то, знавший эфиопскую версию судьбы Ковчега, познакомил с ней и Бернарда и Эшенбаха, а, может быть, и содействовал тому, чтобы эта версия была зашифрована как в «Парцифале», так и в шартрских скульптурах. Проблема осложняется еще одним обстоятельством. Примерно в то же время, когда в Европе вспыхнул неожиданный интерес к судьбе давно утраченного Ковчега, получило распространение странное «Письмо», якобы присланное папе и европейским монархам неким «пресвитером Иоанном», который именовал себя повелителем христианского царства на Востоке и предлагал крестоносцам свою помощь в борьбе с полчищами арабского полководца Саладина. В качестве платы за это он просил выделить его подданным место для молитвы в иерусалимском храме Гроба Господня. Многочисленные факты говорят за то, что «царство пресвитера», если оно вообще существовало, находилось все в той же Эфиопии. Это подтверждается и тем. обстоятельством, что посланцы эфиопских христиан действительно побывали в то время в Иерусалиме и добивались для себя такого места в храме. (Они и получили его, но только после захвата города Саладином в 1187 году.) И словно для того, чтобы окончательно запутать всю историю, в романе «Молодой Титурель», продолжившем и завершившем эпопею поисков Грааля-Ковчега; местом его окончательного упокоения было названо «царство пресвитера Иоанна». Теперь уже и непосвященному становится ясно, что нити загадки тянутся в Палестину и Эфиопию времен крестовых походов, и остается лишь опознать тех людей, которые были связаны с этими местами и обладали достаточным влиянием, чтобы внушить европейцам мысль о том, что Ковчег существует и находится в Эфиопии. Заслуга Хэнкока состоит в том, что он такую «подходящую» группу людей нашел. Согласно его гипотезе, то были члены знаменитого рыцарского ордена тамплиеров. Действительно, история этого ордена с первых же шагов связана с Палестиной. В 1119 году, когда палестинское государство крестоносцев возглавлял король Болдуин, девять французских аристократов прибыли в Иерусалим и попросили разрешения основать здесь новое «Братство бедных рыцарей Христовых и Соломонова Храма», в просторечье — храмовников, или тамплиеров. Болдуин разрешил им построить здание на Храмовой горе, неподалеку от мечети Эль-Акса. Храмовники заявили, что их главной задачей будет охрана дороги Иерусалим-Яффа от нападений арабских отрядов. На самом же деле охраной они почти не занимались — это вполне успешно делали их конкуренты из ордена иоаннитов. Храмовники же занимались чем-то другим. Судя по сохранившимся сведениям, они усиленно исследовали недра Храмовой горы. Спустя почти 800 лет израильские археологи обнаружили пробитый ими туннель, уходивший далеко под основание Эль-Аксы — туда, где в Соломоновы времена находилось основание Первого Храма. Что именно искали там храмовники, неизвестно — этот орден с самого начала окружил свою деятельность непроницаемой завесой тайны. Нарушителям клятвы молчания грозило исключение из ордена и суровое наказание. Можно, однако, догадаться, что воображение; храмовников, по всей видимости, воспламеняла еврейская легенда, согласно которой в недрах Храмовой горы спрятаны сокровища древнего Храма, в том числе и сам Ковчег Завета. Надежда на обретение этих древних реликвий сыграла немалую роль в истории крестовых походов вообще. Как пишет в своем исследовании «Поиски Грааля» Эмма Юнг (жена знаменитого Карла Густава Юнга), «глубоко укорененная в средневековом воображении мысль о «скрытых сокровищах» была одной из причин того, что призыв к освобождению Гроба Господня вызвал такой мощный отклик во всей тогдашней Европе». Видимо, первые храмовники не нашли того, что искали, потому что семь лет спустя они вернулись в Европу и здесь обратились за помощью к уже упоминавшемуся Бернарду Клервоскому (среди членов «девятки» был родной дядя епископа). По настоянию Бернарда церковь собрала специальный собор в Труа и утвердила там новый орден и его устав. В уставе ничего не говорилось о тайных целях ордена, но один из более поздних источников утверждает, что «истинной задачей храмовников были поиски свитков, запечатлевших тайные традиции древних евреев и египтян». Бернард начал чуть не в каждой проповеди прославлять новый орден и призывать к вступлению в него. Толпы молодых людей хлынули в ряды храмовников, и уже к концу века их орден стал одним из самых могущественных, самых богатых и, добавим, самых засекреченных среди европейских монашеских орденов того времени. * * *Хэнкок полагает, что первые храмовники все же что-то нашли. Не Ковчег, конечно, — об этом сразу стало бы широко известно, но, возможно, какие-нибудь древние рукописи. Во всяком случае, именно со времен храмовников в Европе — под влиянием того же Бернарда — зарождается совершенно новая, готическая архитектура, одним из первых образцов которой и был Шартрский собор. Не исключено, говорит Хэнкок, что эта архитектура и была воплощением «древних традиций», открытых храмовниками в каких-то документах, относящихся к постройке Первого Храма. Как я уже сказал, Шартрский собор впервые отразил в своих скульптурах эфиопскую легенду о похищении Ковчега Менеликом. А вслед за тем — почти в те же годы легенда эта проникла и в рыцарский роман о поисках Грааля — с легкой руки Эшенбаха и его продолжателей. Можно думать, что и она пришла в Европу через храмовников. Вспомним, что храмовники должны были стать свидетелями прибытия в Иерусалим посланцев эфиопских христиан. От них они могли узнать и о существовании в Эфиопии огромного христианского царства, и о легендах, изложенных в манускрипте «Кобра Нагаст». Первая новость могла положить начало слухам о «царстве пресвитера Иоанна» — тем более что официальный титул тогдашних эфиопских царей включал слово «Иан» (произведенный от «Иано», что означало пурпурное одеяние царей), а это слово легко могло превратиться в европейское «Иоанн». Что же до второй новости — о местонахождении исчезнувшего Ковчега, — то она тем более могла подхлестнуть воображение храмовников, которые вот уже долгие годы разыскивали эту реликвию. Более того, она могла дать новый толчок этим заглохшим к тому времени поискам. Подтвердить или опровергнуть все эти догадки могут только детальные исследования. Прежде всего, необходимо установить, не содержится ли в источниках упоминаний о связях между храмовниками и Эфиопией. История тогдашней Эфиопии известна относительно неплохо. Примерно в 1000 г. н. э. здесь была свергнута царствовавшая до того династия потомков Менелика, этого легендарного сына Соломона и царицы Савской, и на престол взошла некая Гудит (возможно — Йегудит), предводительница эфиопских еврейских племен, давно воевавших с христианскими царями страны. Однако в северной части Эфиопии сохранилась власть другой Династии, Загве, и царем ее во второй половине XII века стал некто Харбай. Свое правление он начал с того, что изгнал из страны младшего брата Лалибелу, опасаясь, что тот покусится на трон. В 1160 году Лалибела бежал из Эфиопии в Иерусалим, где и провел последующие четверть века. Отметим несомненную возможность прямого контакта Лалибелы с Иерусалимскими храмовниками и пересказа им эфиопской легенды о судьбе Ковчега. Но, прежде чем вдаваться в последствия этого знакомства, проследим за дальнейшей судьбой изгнанного принца. В 1185 году, после смерти Харбая, он вернулся в Эфиопию, вступил на трон и перенес столицу царства в свой родной город Роха. Здесь он воздвиг 11 великолепных христианских церквей, высеченных из монолитных скал (они сохранились до наших дней и совсем недавно — решением ЮНЕСКО — объявлены одними из Величайших архитектурных памятников мира, подлежащих тщательной охране). В память о своем пребывании в Иерусалиме Лалибела переименовал реку, текущую через город, в Иордан, а холм над нею — в «Дебра Зейт» («Масличную гору»). Судя по всему, он хотел превратить Роху в Новый Иерусалим — неслучайно одна из новых церквей получила название «Бета Голгота», по аналогии с иерусалимским Храмом Гроба Господня, где Лалибела получил от Саладина специальный «эфиопский алтарь». Чтобы закончить историю принца, скажем еще, что вскоре после его смерти династия Загве сошла со сцены — ее последний монарх отрекся от трона в пользу потомков Менелйка, и с 1270 года династия этих «Соломонидов» продолжала царствовать в Эфиопии: ее последним представителем был император Хайле Селассие, свергнутый марксистами в 1974 году. А теперь вернемся к храмовникам-тамплиерам. Мы отметили возможность их личного знакомства с Лалибелой, а через него — с легендами эфиопской книги «Кебра Нагаст». Косвенным подтверждением этого знакомства являются все упомянутые выше факты, говорящие о том, что именно с этого момента начинается распространение в Европе «эфиопской версии» судьбы Ковчега, причем — прежде всего в, кругах, связанных с тамплиерами: через Бернарда Клервоского и Вольфрама фон Эшенбаха. О связях Бернарда с храмовниками мы уже говорили; что же; касается Эшенбаха; то согласно некоторым источникам ом сам был тайным членом этого ордена. Более того, перед тем как приступить к своему роману, он, по слухам, побывал в Иерусалиме. Но самое интересное состоит в том, что в своем «Парцифале» Эшенбах прямо пишет, что «хранителями Грааля» (а Грааль. у него, судя по всему, символ или шифр Ковчега) были «рыцари достойнейшего ордена тамплиеров». Если исходить из того, что в тексте «Парцифаля» зашифрованы реальные события, поведанные Эшенбаху иерусалимскими храмовниками, то из этого следует, что они действительно добрались до местонахождения Ковчега. А этим местом была, если верить легендам «Кебра Нагаст», Эфиопия. Не могло ли быть так, что, познакомившись с Лалибелой и узнав от него, что Ковчег хранится в Эфиопии, храмовники последовали за принцем, когда он вернулся на свою родину? Глухие намеки на такую возможность содержатся в том же «Парцифале». Эшенбах, упомянув, что хранителями Грааля-Ковчега являются тамплиеры, сообщает далее такую странную подробность: «Бог повелел им помогать, изгнанникам вернуть свои законные права… И если какая-нибудь страна потеряла своего повелителя и ее люди просят нового монарха из Братства Грааля, Бог отвечает на их молитвы и посылает людей этого Братства в великой тайне». Не слышен ли здесь отзвук реальной истории принца Лалибелы, изгнанного своим братом из Эфиопии и возвратившего себе трон после смерти Харбая? Если так, то слова Эшенбаха следует понимать буквально: воцарение Лалибелы совершилось с тайной помощью «Братства Грааля», то есть тамплиеров. Тому есть еще одно «перекрестное» доказательство. Вчитываясь в пресловутое «Письмо пресвитера Иоанна», Хэнкок подметил в нем один загадочный пассаж: рассказывая о могуществе своей армии, автор неожиданно добавляет: «Есть среди нас и французы, из тех, что сражаются с сарацинами (явный намек на иерусалимских крестоносцев. — Р.Н.). Вы (имеются в виду адресаты письма: папа и европейские монархи) им доверяете, но на самом деле они лживы и коварны, поэтому соберитесь с мужеством и предайте казни этих коварных тамплиеров». Теперь, зная историческую обстановку, в которой появилось «Письмо», и, зная, что «царством пресвитера Иоанна» скорее всего, была тогдашняя Эфиопия царя Харбая (появление «Письма» в. Европе датируется 1165 годом), мы легко можем объяснить все эти странности. По-видимому, храмовники, движимые стремлением проникнуть в страну, где находился вожделенный Ковчег, предложили Лалибеле свою помощь в свержении Харбая, а, возможно, и направили в Эфиопию отряд своих рыцарей. Первые попытки свергнуть Харбая успехом не увенчались (мы знаем, что Лалибела воцарился лишь в 1185 году), но они достаточно напугали царя, чтобы тот начал искать в Европе союзников в борьбе с тамплиерами, — отсюда его «Письмо» с предложением помощи в борьбе с Саладином, расхваливанием своего могущества и призывом к военному союзу. Атмосфера секретности и тайны, неизменно окружавшая дела храмовников, окутала и эту первую; их вылазку — военную экспедицию из Иерусалима в Эфиопию. Но простая логика подсказывает, что тамплиеры не могли на этом успокоиться, тем более что в 1185 году им представился редчайший шанс: смерть Харбая и воцарение их давнего знакомого Лалибелы. Могли ли они не воспользоваться этим обстоятельством для новой попытки обрести Ковчег? Но если дело обстояло так, то в Эфиопии могли сохраниться следы их пребывания. И Хэнкок такие следы обнаружил! Первый след запечатлен, оказывается, все в том же эшенбаховском «Парцифале», только раньше его никто не замечал, потому что не искал. Поведав о том, что «Братство Грааля» помогает изгнанным монархам вернуть свои права, Эшенбах приводит далее рассказ одного из членов «Братства» об одной такой благодетельной экспедиции «далеко в Африку… за Роху»! Исследователи романа, не имея никакого понятия о Лалибеле и эфиопских связях тамплиеров (и начисто игнорируя упоминание об «Африке»), простодушно расшифровали слово «Роха» как искаженное название Роховой горы в австрийской Штирии. Хэнкок же, с его пристальным вниманием ко всему «эфиопскому», тотчас опознал в Рохе — Роху, название столицы Эфиопии при Лалибеле. Но мало того. Перебирая записи, сделанные во время посещения Эфиопии в 1983 году, Хэнкок обнаружил пометку: «Расспросить специалистов о значении красного креста». Речь шла о странном красном кресте, который он увидел на стене одного из знаменитых храмов в Рохе. Крест был необычный: он был образован четырьмя треугольниками, а не двумя перпендикулярными прямыми, как обычно. Теперь, погрузившись в изучение истории тамплиеров, Хэнкок сам ответил на свой вопрос: это был тот самый крест, который на соборе в Труа был утвержден в качестве символа ордена храмовников! * * *Как это обычно бывает, одно открытие повлекло за собой цепь других. Историков давно волновала загадка Рохских скальных храмов. Их архитектурные особенности отдаленно напоминали стиль только что возникшей в Европе готической архитектуры, а их инженерно-технические данные намного превосходили возможности тогдашних эфиопских строителей. Теперь на основании прослеженных взаимосвязей, можно было предположить, что в создании этих храмов участвовали те же люди, которые вдохновили появление европейской готики, — иерусалимские тамплиеры. И Хэнкок нашел подтверждение этой смелой гипотезе. В старинной книге путешественника XVI века падре Франсиско Альвареца, посетившего Эфиопию в 1520–1526 гг., он обнаружил описание храмов Лалибелы, завершавшееся словами: «И они рассказали мне, что вся эта работа была завершена за 24 года и была сделана белыми людьми по приказу царя Лалибелы». Итак, тамплиеры, видимо, действительно последовали за Лалибелой в Эфиопию и оставались. в ней достаточно долго, помогая строить знаменитые храмы Рохи, а заодно, вероятно, занимаясь и собственными поисками утраченного Ковчега. И, если мы хотим узнать историю этих поисков, нам не миновать еще большего погружения в тайную историю ордена храмовников. История эта не менее увлекательна и загадочна, чем история самого Ковчега, и обещает повести нас сквозь века и события, под знакомым обликом которых нам откроется теперь нить запутанной исторической интриги. С падением государства крестоносцев орден тамплиеров окончательно перебрался в Европу. На протяжении всего XIII века орден усиливался и обогащался. Его финансовые связи охватывали все главные европейские столицы. Во Франции представители ордена не раз заведовали финансами всего государства. И все это время тамплиеры, по всей видимости, поддерживали тайные контакты со своими соратниками, оставшимися в далекой Эфиопии — стране исчезнувшего Ковчега. Что они искали там? Если сам Ковчег, то благодаря близости ко двору эфиопских христианских царей, которым именно тамплиеры помогли вернуться на трон, они давно должны были открыть тайну его местонахождения. Тогда остается предположить, что они ждали удобного момента, когда можно будет похитить великую реликвию и доставить ее в Европу. Обладание религиозными реликвиями, мощами и святынями возвысило уже не один европейский средневековый монастырь и монашеский орден. Понятно; что орден, располагающий такой реликвией, как Ковчег Завета, мог рассчитывать на еще большую славу, а, стало быть, — и на власть над умами современников. Поэтому гипотезу о стремлении тамплиеров обрести Ковчег нельзя сбрасывать со счетов. Но что, если в Эфиопии они — Ковчега не нашли и продолжали безрезультатные поиски, уверовав в истинность эфиопских легенд, изложенных в манускрипте «Кебра Нагаст»? Что еще, кроме этого манускрипта да туманных намеков в романе Вольфрама фон Эшенбаха (восходивших, судя по всему, к тому же манускрипту), могло свидетельствовать, что Ковчег действительно находится в Эфиопии? Разумный вопрос. Попробуем на него ответить. Прежде всего, вспомним, что чуть ли не во всех эфиопских христианских храмах — и это удостоверяется всеми, кто побывал в современной Эфиопии, — хранятся особые реликвии, так называемые «табот», которые сами эфиопы называют «табот Моисея». В дни богослужений эти табот играют центральную роль во всей церемонии. Знатоки эфиопских легенд утверждают, что табот — это копии Ковчега, оригинал которого хранится в храме девы Марии в Аксуме, куда он был привезен родоначальником эфиопской царской династии Менеликом из поездки к своему отцу, царю Соломону. Но табот — всего лишь прямоугольные деревянные бруски, к тому же весьма небольшого размера. Как они могут быть копиями Ковчега? Те же знатоки дают ответ и на этот вопрос. Конечно, бруски — не Ковчег и даже не его копия. Правильней сказать, они копия того, что некогда содержалось в Ковчеге, — копия Скрижалей Завета, с которыми Моисей спустился с горы Синай. Это уже звучит убедительней. Скрижали действительно изображаются в виде двух прямоугольных пластин с надписями. Вполне вероятно, что древние эфиопы перенесли представление о самом Ковчеге на то, что в нем хранилось, на святая святых — Моисеевы Скрижали. Отсюда могло пойти и выражение «табот Моисея». Такая гипотеза тотчас находит филологическое подтверждение. В иврите Ковчег всегда именуется «арон», то есть «ящик». Но есть в этом языке и еще одно слово, означающее ящик или контейнер. И слово это — «тейва». Оно встречается в Библии дважды; когда описывается Ноев ковчег и в рассказе о корзине, в которую мать положила младенца Моисея. Очень многозначительные совпадения. И очевидно также, что из «тейва» легко произвести «табот».1:0 в пользу легенды «Кебра Нагаст». Такова первая ниточка. Но она немедленно введет к вопросу: как могло быть заимствовано древнее и редко употребляемое еврейское слово эфиопскими христианами? Да и вообще, откуда взялись в Эфиопии христиане во времена царя Соломона? Уж если кто и мог принести Ковчег в тогдашнюю Эфиопию и хранить его там веками до появления первых христиан, то только евреи. Но разве эфиопские евреи такой древний народ? Еще один разумный вопрос. Он заставляет присмотреться к истории эфиопских евреев. Что мы о них знаем? Сегодня фалаши — это граждане Израиля. Но фалаши — всего лишь остатки эфиопского еврейства. Источники говорят, что некогда евреи в той стране были куда могущественней и многочисленней. Легенды из «Кебра Нагаст» выводят их все от того же Менелика I, сына Соломона и царицы Савской. А на самом деле? Многие авторы утверждают, что иудаизм в Эфиопии появился сравнительно недавно, что-то около начала новой эры, после разрушения Второго Храма, когда евреи бежали из Палестины и рассеивались по всему свету. Эти авторы считают, что первые евреи пришли в Эфиопию из Йемена, где в ту пору возникла крупная еврейская община (просуществовавшая до наших дней). И было это, значит, в первых веках новой эры. Рассуждение вполне логичное, но не учитывающее некоторых странных особенностей эфиопского иудаизма. Во-первых, эфиопские евреи ничего не знают о таких праздниках, как Ханука и даже Пурим. Между тем праздник Хануки был установлен в честь освобождения Иерусалима Маккавеями уже во II в. до н. э., а праздник Пурим — и того раньше: у евреев Эрец-Исраэль он начал входить в моду в конце V в. до н. э. Неизвестен эфиопским евреям и запрет на жертвоприношения вне Храма. В момент создания Храма царем Соломоном (X в. до н. э.) этот запрет еще не был абсолютным, и многие евреи, следуя древним обычаям (времен скитаний в пустыне), приносили жертвы просто на камне, расположенном в центре деревни. Но в конце VII века (опять же, до новой эры) царь Иошиягу (Иосия) наложил окончательный запрет на этот обычай. Что же получается? Эфиопские евреи следуют обычаям, существовавшим в Эрец-Исраэль до VII века, и не знают обычаев, запретов и праздников, возникших позже. Почему? Самое естественное объяснение этому состоит в предположении, что их связь с материнской еврейской общиной прервалась ранее VII в. до н. э. Стало быть, они никак не могут быть потомками йеменских евреев — община в Йемене возникла на много столетий позже. Но если евреи появились в Эфиопии за 7–8 веков до новой эры, то это почти совпадает со временами царствования Соломона! 2:0 в пользу легенды о Менелике. Если за плечами эфиопских евреев столько веков, можно ли хоть отчасти восстановить их древнюю историю? Выясняется, что и здесь кое-что поддается логической реконструкции. Авторитетный эфиопский источник «История и генеалогия древних царей» утверждает: «Христианство пришло в Абиссинию через 331 год после рождения Христа. До этого половину населения составляли евреи, исповедовавшие иудаизм, а вторую половину — поклонники дракона». Шотландский исследователь Брюс (первооткрыватель истоков Нила), хорошо знакомый с эфиопской древностью, продолжает: «Эфиопские евреи видели в новой христианской религии опасную ересь. Поэтому они объединились для борьбы с ней под руководством принца из рода Менелика, сына, Соломона. Но эфиопские христиане тоже провозгласили, что их цари ведут свою генеалогию от Соломона. Наличие двух царей с одинаковыми генеалогическими претензиями привело к многочисленным войнам». Пока шла и развивалась история европейских евреев — сначала в их гетто, а потом в эпоху эмансипации, в далекой Эфиопии их черные соплеменники вели, оказывается, многовековые кровавые войны в защиту своей веры и своего государства от посягательств христиан. И были не раз близки к победе. Зря говорят, будто в рассеянии евреи утратили искусство управлять и воевать… Еврейско-христианские войны в Эфиопии выплеснулись даже за пределы страны; в VI в. н. э. христианский царь Калеб собрал огромное войско для похода на йеменских евреев. В эфиопских хрониках этому царю приписываются самые кровожадные высказывания против евреев и угроза «разрубить их всех на куски». Видимо, у Калеба недостало сил для выполнения своей угрозы: в IX–X веках инициативу в войне захватили евреи под предводительством уже упоминавшейся нами царицы Гудит (или Йегудит), и «соломонова династия» эфиопских христианских царей, правивших в Северной Эфиопии, была свергнута. Ее сменила династия Загве, одним из последних представителей которой был хорошо знакомый нам Лалибела. Существуют смутные указания на то, что цари Загве поначалу сами склонялись к иудаизму или даже вообще были евреями. Позже, однако, они впали в христианство, и война возобновилась. Путешественник XVI века, католический епископ из Овьедо, утверждает, что фалаши, укрывшиеся в горной области юга страны, наносили христианам чувствительные удары. Но в начале XVII века на эфиопский трон взошел император Суснеос, который приступил к систематическому истреблению евреев. В. течение 30 лет погром следовал за погромом, и если в середине XVII века фалаши еще насчитывали около полумиллиона человек, то к концу столетия их было уже почти вдвое меньше. По сведениям еврейского автора XIX века Иосифа Галеви, в его время численность фалашей не превышала 150 тысяч. А к концу нашего века осталось менее трети этого числа. * * *Какое отношение ко всей этой истории имел утраченный Ковчег? Самое прямое. В эпосе «Кебра Нагаст» имеется о том важное упоминание: «И сказал Господь людям Гебра Маскаль (по-эфиопски, «рабам Креста» — М.В.): выбирайте между колесницей и Сионом. И заставил их выбрать Сион. А людям «Бета Исраэль» (самоназвание эфиопских евреев. — М.В.) дал колесницу…» Иными словами, борьба между эфиопскими евреями и христианами шла, в частности, за обладание реликвиями, почитавшимися каждой из этих религий; а в конечном счете, христиане получили «Сион», то есть Ковчег, а евреи удовольствовались каким-то «вторым призом» («колесницей»). Так Ковчег, если верить всем этим рассказам, оказался в руках христианских царей. Поэтому поиски храмовников вовсе не были погоней за миражом. Евреи, видимо, действительно пришли в Эфиопию во времена Соломона, и потому в легенде о похищении ими Ковчега могло содержаться зерно истины — это раз; Ковчег, видимо, действительно перешел позднее от евреев к христианам, и Лалибеле, как их царю, могло быть известно его местонахождение — это два. Значит: Ковчег нужно искать в Эфиопии. Тогда почему храмовники не наложили свою тяжелую рыцарскую лапу на эту величайшую реликвию? А, судя по тому, что Ковчег в Европе так и не объявился, видимо — не наложили. Но кто сейчас способен проникнуть в запутанные тайны тогдашних времен, тем более в дела и интриги небольшого тамплиерского отряда, покинувшего Палестину вместе с Лалибелой ради Эфиопии и Ковчега? Можно допустить, что силы эфиопских тамплиеров были попросту слишком малы. В результате им пришлось ограничиться наблюдением и ожиданием подходящего момента — смуты, например, или войны, когда Ковчег будут перепрятывать и подвернется возможность его похитить. Как бы то ни было, существует одна странная деталь, которая позволяет предположить, что в какой-то момент тамплиеры были на грани осуществления своего дерзкого плана. Деталь эта — события знаменитой «черной пятницы» 13 октября 1307 года. Любители истории знают эту дату. В этот день король Франции Филипп Красивый неожиданно обрушился на орден тамплиеров. Все французские члены ордена были арестованы и брошены в тюрьму. К ночи с четверга на пятницу в кандалы было заковано уже 15 тысяч храмовников. Позже многие из них, включая верховного магистра, были сожжены, сам орден — запрещен, а его огромное имущество — конфисковано. Одновременно преследования тамплиеров развернулись почти во всех европейских странах. Эта грандиозная единовременная акция до сих пор вызывает недоумения историков. Что ее вызвало? Одни говорят, что Филипп, отчаянно нуждавшийся в деньгах, попросту хотел поживиться богатствами тамплиеров. А поскольку местопребыванием папы был тогда французский город Авиньон (знаменитое «авиньонское пленение» пап) и папа Клемент V, что называется, «кормился из рук французской короны», то есть полностью зависел от нее, его нетрудно было убедить опубликовать буллу, объявлявшую орден храмовников «еретическим». Эта булла дала Филиппу формальный повод для акций «черной пятницы». Другие утверждают, что папа не был просто французской марионеткой — у него у самого якобы были вполне реальные основания объявить орден храмовников еретическим. По тогдашней Европе упорно ходили слухи, что все собрания ордена, проходившие, как правило, в глубокой тайне, начинались с ритуала целования гениталий и ануса обнаженного мужчины, который возлежал в центре зала собраний наподобие распятого Христа. Разумеется, это могло быть всего лишь одним из вариантов распространенных в те темные (да и в более поздние светлые) времена поверий о «черной, или сатанинской, мессе»; но вполне возможно, что рыцарей ордена тамплиеров и впрямь скрепляла какая-то реальная гомосексуальная связь (мы очень мало знаем о тайных гомосексуальных братствах средневековой Европы, но вспомним, что нить гомосексуализма пронизывает ткань европейской культуры еще с эллинских времен). Возможна, однако, и третья гипотеза, и вот она-то связана с нашим Ковчегом. Раньше никто такой связи не искал просто потому, что никто не искал и сам Ковчег. Но стоило заняться этими поисками, как в эфиопских источниках тотчас обнаружилось поразительное упоминание: оказывается, в 1306 году, то есть ровно через год после избрания Клемента V папой и ровно за год до разгрома тамплиеров, к папе в Авиньон прибыла высокопоставленная делегация, направленная тогдашним эфиопским царем Ведомом Арадом, и притом — с какой-то тайной миссией! Мало того: это сообщение подтверждается и независимым европейским источником — книгой генуэзского картографа Джиованни де Кариньяно. Почему оно так важно? А вот почему. Как вы помните, в конце XII века на эфиопский христианский престол взошел Лалибела. По нашему предположению, ему помогли в этом тамплиеры. В благодарность за эту помощь он позволил им остаться в Эфиопии (мы уже приводили доказательства их многолетнего пребывания там). Можно думать, что тамплиеры оставались в стране и при последующих царях династии Загве. Но в 1270 году эта династия уступила место монархам «соломоновой династии». Тот эпос «Кобра Нагаст», о котором мы так часто упоминали, был записан при первом же царе этой восстановленной династии. Превращение устной легенды в сакральный письменный текст было явно предназначено для утверждения династических претензий царя — ведь «Кебра Нагаст» утверждала, что новая династия ведет начало от Менелика, сына Соломона, и является хранительницей великого Ковчега. Логика подсказывает, что цари новой династии должны были проявлять враждебность ко всему, что связано с царями Загве, в том числе и к тамплиерам. К последним они должны были к тому же относиться с подозрением: уж очень липли к Ковчегу эти европейцы. А, кроме того, у них были связи с могущественными единоверцами в Европе, и они могли любой момент призвать к себе на помощь целые отряды собратьев-тамплиеров из Франции и других стран. А теперь представим себе, что, вдобавок ко всему этому, цари — «Соломониды» знают, что тамплиеры замышляют похитить Ковчег! Первые цари восстановленной «соломоновой династии» Екуно Амлак и Ягба Цион были слабы и не знали, как избавиться от этой тамплиерской напасти. Но третий, Ведем Арад, правивший с 12(?) по 1314 год, был, видимо, уже достаточно силен и хитер, чтобы придумать: нужно войти в контакт с теми в Европе, кому тамплиеры кажутся подозрительными и опасными. Нужно известить их, что здешние, эфиопские тамплиеры намереваются похитить великую святыню, Ковчег Завета, и доставить ее в Европу. Этого нельзя допустить — могущество ордена станет тогда неодолимым. Он будет диктовать свою волю королям и папам. Орден лучше всего уничтожить. Не будем настаивать, что все происходило именно так. Наш сценарий слишком прямолинеен. История движется более сложными путями. Но совпадения и интриги истории помогают. И наш сценарий помогает разглядеть еще одну возможную ниточку в клубке причин, приведших к разгрому тамплиеров. Кроме того, он удовлетворительно объясняет, почему тамплиерская авантюра с Ковчегом не увенчалась успехом. И что же — исчезли тамплиеры, кончились и поиски Ковчега? Прервалась великая традиция рыцарских поисков святого Грааля? Ничего подобного: Грааль — уже скорее по литературной инерции — продолжали искать еще долгие века (припомним «Дон Кихота»), а судьба тамплиеров и Ковчега так и подмывает меня воскликнуть вслед за Гоголем: «Отыскался след Тарасов!» Мы сказали выше, что орден храмовников был одновременно разгромлен почти во всех европейских странах. Эта оговорка — «почти» — очень важна. Потому что нашлись две страны, где тамплиеры уцелели. И обратите внимание — какие именно страны: Шотландия и Португалия. Вы спросите: а что в них особенного, в этих двух странах? Особенное в них то, что каждая из них в последующие века оказалась активно причастна к путешествиям в Эфиопию. Не куда-нибудь, а именно в Эфиопию. Нет, согласитесь, это явно неспроста… Но если бы только путешествиями в Эфиопию славились эти страны. Так ведь и сами эти путешествия были какими-то особенными, «со значением». Только присмотритесь — и у вас тоже голова пойдет кругом. Самым известным шотландским путешественником в Эфиопию (и, добавим, человеком, который впервые привез в Европу манускрипт «Кебра Нагаст») был некто иной, как упомянутый нами Брюс, первооткрыватель истоков Нила. И кем же был этот Брюс, потомок шотландских королей Брюсов? МАСОНОМ он был, Джеймс Брюс, членом общества вольных каменщиков, старейшая шотландская ложа которого (Кильвиининг) была основана королем Робертом Брюсом… И из кого бы, вы думали, состояла эта ложа? Из потомков шотландских и сумевших бежать из Франции тамплиеров! Если вы помните, именно тамплиеры, по некоторым предположениям, были теми, кто постиг в Иерусалиме тайны древней египетской и еврейской архитектуры и на основе этих тайн создал и распространил по всей Европе каноны средневековой готики. Кому же, как не им, быть создателями ордена вольных каменщиков?! И кому же, как не каменщикам-масонам искать в Эфиопии следы того самого Ковчега, который искали (а по слухам, даже нашли, но снова потеряли) их предшественники-тамплиеры?! Теперь-то мы понимаем, зачем Джеймсу Брюсу, масону и продолжателю тамплиерского поиска, нужна была «Кебра Нагаст»! Что же касается Португалии, то тут изучение продолжения истории тамплиеров вскрывает не менее удивительные тайные пружины вполне известных, казалось бы, событий. Португальский король хоть формально и распустил орден храмовников, но почти сразу же разрешил создать другой орден — Воинство Христово, в который влились уцелевшие португальские тамплиеры и их бежавшие из Испании собратья. Воинство Христово еще долгие века сохраняло большое влияние при лиссабонском дворе, и в начале XV века ее великим магистром был брат тогдашнего короля Генриха. Не исключено, что вы знаете этого Генриха, только под другим именем. В истории путешествий и географических открытий он известен как Генрих-Мореплаватель. Ибо страсть этого человека к морю и морским путешествиям была столь велика, что ради нее он отказался даже от претензий на престол и всю свою жизнь посвятил организации португальских экспедиций вокруг Африки. И что же искали там посылаемые им капитаны? Вы, конечно, уже догадались. Ну, да — царство пресвитера Иоанна, легендарное христианское государство в Эфиопии. Видимо, не из личного каприза или пристрастия к легендам искал принц Генрих эту страну. Иначе не случилось бы так, что человек, родившийся в год смерти принца и совершивший свое великое мореплавание 30 с лишним лет спустя, тоже искал это царство, жадно собирал сведения о нем в каждом африканском порту и только потому не достиг «земли обетованной», что она лежала далеко от берега, в глубинах черного континента. Этот человек вам тоже известен — Васко де Гама, первооткрыватель морского пути из Европы в Индию, совершивший свое плавание в 1497 году (принц Генрих умер в 1460-м). Судите сами, добавляет ли что-нибудь к нашим знаниям то обстоятельство, что, подобно Генриху-Мореплавателю, Васко де Гама тоже был членом братства Воинства Христова… * * *Не слишком ли много совпадений? Все исторические намеки, все упоминания в источниках и глухие отголоски в рыцарских романах, нити многовековых интриг и холодная логика рассуждения — все стягивается к одному и тому же простому утверждению: Ковчег не исчез — он находится в Эфиопии. И теперь, подведя базу под это исходное утверждение Грэма Хэнкока, любознательного английского журналиста и. автора книги «Знак и печать» (где эта гипотеза изложена и обоснована куда более подробно и занимательно), я вынужден поставить последний вопрос: верна ли эта гипотеза? Прежде чем ответить на него, я позволю себе еще сказать, что в 1991 году Грэм Хэнкок, окончательно убедив себя в том, что Ковчег находится в Эфиопии, направился в эту страну снова. В Аксуме он разыскал церковь девы Марии и попросил у хранителя храма разрешения взглянуть на церковную святыню. Ведь, говорят, здесь хранится сам Ковчег Завета, не так ли? Хранитель едва заметно кивнул. — Можно ли увидеть эту реликвию? Такой же еле заметный, но на сей раз отрицательный кивок: — К святыне не разрешено приближаться даже патриарху. — Ну, расскажите хотя бы, как она выглядит! — Об этом запрещено говорить. — Хорошо, ответьте тогда: вот завтра должна состояться самая важная из религиозных церемоний года — вынесут на нее сам Ковчег Завета или это опять будет копия? — Вы увидите это завтра сами. То, что увидел наутро Хэнкок, было еще одной копией пресловутого Ковчега — очень похожей, но, несомненно, копией. Но он увидел и другое: хранитель не пошел вместе с процессией. Хранитель остался в храме, удалился в Святая Святых и там молился за занавеской. «Перед чем он возносил молитвы? — вопрошает в конце своей книги Хэнкок. — Перед чем он молился, если не перед великой реликвией, которая считается такой святой, что ее не хотят выносить даже на самые главные религиозные церемонии? Перед чем еще он мог молиться, если не перед Ковчегом Завета?!» Таков ответ Хэнкока — человека, глубоко увлеченного своим поиском и своей гипотезой. Мы же ответим проще. Не так уж важно, хранится ли в Эфиопии подлинный Ковчег. Может быть, его давно уже нет. Может быть, он исчез в Вавилонии. А, может быть, ждет археологов в глубинах Храмовой горы, как считал покойный главный израильский раввин Шломо Горен. Повторим, это не так уж важно. Важно другое: эта реликвия «легла на сердце» эфиопским евреям (а от них эфиопским христианам), как когда-то русским — Богородица, а не сам Христос. Храмов Богородицы, ее Рождества, Покрова, Успенья и так далее, на Руси куда больше, чем храмов Христа, — наверно, не меньше, чем у эфиопских христиан «табот Моисея», этих «копий Ковчега». И, может, в этом культе Ковчега, возникшем, вероятно, еще у первых эфиопских евреев, было что-то от желания сравняться славой с еврейством Эрец-Исраэль, страны Соломона; а, может, и горечи от ощущения себя «последним сохранившимся (и сохраняющим реликвии) коленом Израилевым» после увода палестинского еврейства в вавилонский плен!.. Как бы то ни было, легенда о первом эфиопском царе Менеликс, сыне Соломона и царицы Савской, похитившем Ковчег из Иерусалимского Храма и доставившем его в Эфиопию, возникла, укрепилась, стала народной и дала начало культу Ковчега и традиции «табот». Этот культ и традиция распространились столь повсеместно и укоренились так глубоко, что даже если Ковчега в Эфиопии нет, она все равно заслуживает названия «Страны Ковчега». И поэтому Хэнкок прав: если искать следы Ковчега — то только в Эфиопии… Однако главное достоинство его книги состоит все-таки не в этом, а в том, что, подобно многим другим, столь же масштабным трудам о «гипотетической истории» (например, Иммануила Великовского), она делает нас свидетелями напряженного интеллектуального поиска. И подлинный ее герой — не утраченный Ковчег Завета, а та настойчивая, ищущая, любознательная мысль, что, словно ткацкий челнок, неутомимо снует между веками и эпохами, людьми и событиями и на наших глазах сшивает их все в единую ткань занимательного рассказа. >ЧАСТЬ 4 БИБЛИЯ И НАУКА >ГЛАВА 1 БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Название этой «интерлюдии» я заимствовал у одного из любимых мною фантастов Джеймса Морроу, а номер поставил свой — потому что он продолжает начатый в предыдущей главе разговор об авторстве ТАНАХа, точнее — Торы. Как мы теперь уже знаем, критическое исследование библейского текста началось уже давно, и к сегодняшнему дню установлено, что авторов у Торы было по меньшей мере четыре. Первый и самый древний из них, написавший основную часть книг Бытия, Исхода и Чисел, обозначается буквой J, так как в его рассказе Б-г всегда именуется Jahweh (в славянской традиции — Ягве); последующие именуются, соответственно, E (поскольку он называет Божественное существо словом Elohim (Элогим); рассказ этого автора содержится в тех же книгах и переплетается в них с рассказом J; далее — P (от английского Priest, что значит «жрец»; считается, что он написал почти всю книгу Левит); и, наконец, D (автор «Второзакония», или, по-гречески, Deuteronomos, откуда английское Deuteronomy). Подозревают, что был еще R, или «Редактор» (который произвел окончательную ревизию всего текста в целом после возвращения евреев из вавилонского плена), а также, возможно, многочисленные другие авторы более мелких разделов текста, но это уже частности, и мы не будем о них говорить. Исследование ТАНАХа все еще не закончено и, наверное, не закончится никогда, потому что книга эта таит в себе бесчисленное множество исторических, литературных и чисто смысловых загадок. Вот буквально на днях в израильской газете «Гаарец» была опубликована беседа с профессором Еврейского университета Менахемом Хараном, который предложил еще одну, совершенно новую гипотезу о том, как возник ТАНАХ в целом. Эта гипотеза основана на десятилетней продолжительности исследования, которое привело Харана к выводу, полностью опровергающему предыдущие толкования. Профессор Харан утверждает, что в еврейский канон (то есть в Тору) были включены не какие-то специально отобранные (из большого множества сохранившихся) книги, а, напротив, буквально все, какие только и сохранились, других якобы попросту не было. «Собиратели канона поистине замели с пола последние крошки, — говорит Харан. — Они включили в канон даже такие крохотки, как книгу пророка Овадии, которая занимает в нем всего одну страничку. После них не осталось ничего, что народная традиция предыдущих столетий считала бы Боговдохновенным». Харан доложил свою гипотезу на недавнем конгрессе библеистов в Лондоне. Он не говорит, как ее там приняли. Он ограничивается туманным: «Во всяком случае, ТАКОГО они никогда не слышали». И это показывает, что в области исследования ТАНАХа еще существует поле для самых смелых гипотез. Об одной из них я как раз и хочу рассказать. Она связана с самым интересным для исследователей (потому что самым древним) текстом канона — текстом J — и с самой интересной для них (потому что самой запутанной) загадкой о времени и месте его написания. Впрочем, эта загадка частично уже решена: среди специалистов царит согласие, что этот текст был написан в X веке до новой эры в Иерусалиме, при дворе царя Соломона. Но, как мы уже поняли из слов профессора Харана, в библеистике всегда есть место другим гипотезам. И та, о которой я намерен сейчас рассказать, идет вразрез с устоявшимся мнением и предлагает совершенно иную трактовку как истории, так и содержания текста J. Нам это особенно интересно, потому что попутно авторы предлагают весьма оригинальное и смелое прочтение древнейшей еврейской истории, способное серьезно поколебать все наши представления. И точно так же они разрушают все наши сложившиеся представления о смысле важнейших эпизодов Торы. Я не хочу этим сказать, что все, что они пишут, истина в последней инстанции; это, конечно, только научная гипотеза. Но очень уж необычная. Авторы этой незаурядной книги — американский историк-библеист Роберт Кут и священник Дэвид Орт. Они сделали следующее: вычленили из общего текста Торы текст, принадлежащий J, заново перевели его на современный английский язык и снабдили пространным комментарием. Тут и появляются неожиданности. Они подстерегают нас с самого начала. С чего вообще начинается Тора? С рассказа о шести днях творения. Так вот, в тексте J этого рассказа не было. Он начинался иначе (я перевожу авторов, а они — вторую главу книги Бытия, стихи 4–7): «В то время, когда Ягве, Господь, создал небо и землю — и прежде, чем появилось хотя бы первое плодовое дерево, и даже злаков еще не было на полях, потому что Ягве, Господь, еще не создал дождь на земле, и не было человека, чтобы обрабатывать эту землю, хотя ручьи уже вышли из земли той и увлажнили всю почву ее, в то время Ягве, Господь (обратите внимание, как старательно автор каждый раз подчеркивает, что Ягве — это Господь, то есть Бог; это нам еще понадобится. — Р.Н.), создал человека из праха земного, вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек превратился в живое существо». Далее следует знакомый рассказ о том, как Господь сотворил всех животных и привел их к Адаму, чтобы он дал им имя, но Адам не нашел среди них «помощника, подобного себе», и тогда Господь сотворил из его ребра Еву и назвал ее «иша» (женщина), потому что она плоть от плоти «иш» (мужчины). Текст продолжается до изгнания из рая: «И сказал Ягве, Господь: человек стал, как один из нас, /…/ и изгнал его из Эдема, чтобы возделывать, землю, из которой он взят». О чем же эта история, спрашивают авторы. И тут же огорошивают нас ответом: «Рассказ J — это, в первую очередь, повествование, призванное разъяснить царское понимание необходимости труда всех его подданных. Этот рассказ является центральным во всем тексте J, и не случайно кульминацией этого текста (в книге Исхода) является определение «Израиля» как всех тех, кто был освобожден из египетского рабства «мощной рукой» Ягве, Господа, — Бога еврейского царства». Это немного напоминает кое-какие знакомые вульгарно-материалистические трактовки религиозных текстов в советской атеистической литературе, не правда ли? Не торопитесь; если бы речь шла об очередном атеистическом произведении, я бы не стал занимать им ваше внимание. Авторы действительно хотят вернуть библейский текст на историческую почву, но идут серьезным научным путем. Свое утверждение они немедленно обосновывают сопоставлением этого текста J с другими, еще более древними ближневосточными сочинениями того же рода. И тут перед нами открывается совершенно нам неизвестный, пожалуй, и поразительно увлекательный (и поучительный) мир ближневосточной мифологии. Оказывается, уже за несколько столетий до текста J (напомним — считается, что он был создан в X веке до н. э.) в Вавилоне уже были записаны два грандиозных, основополагающих мифологических рассказа: «Энума Элиш», легенда о сотворении человека богом Мардуком, и «Атра-Хасис» — сказание о Потопе. За последующие несколько столетий они настолько широко распространились по всему Ближнему Востоку, и пользовались такой огромной популярностью, что наверняка были хорошо знакомы и самому J. Теперь обратим внимание на крайне интересные детали этих рассказов. В «Энума Элиш» описывается, как бог Эа победил восставших богов Апсу и Тиамат и, «познав» свою жену Дамкину, родил бога Мардука. К этому-то Мардуку и являются «боги-рабочйе», которые жалуются на свою трудную работу и тяжкую жизнь; тогда Мардук придумывает создать «луллу» (людей), которые трудились бы вместо богов, причем создать их из того бога, который подстрекал Апсу и Тиамат (помните: «Вот, Адам стал, как один из нас»? Немудрено, если он сделан из той же плоти!). Иными словами, люди созданы из плоти руководителя восстания; поэтому их обязанность работать — это не что иное, как наказание покаранному богу в лице его «потомков». Примерно такую же историю рассказывает «Атра-Хасис»: здесь жалующиеся на тяжкую работу боги приходят к Энлилю, и тот решает сделать людей («шупшикку», или корзину грязи) из глины, а также — опять! — из мяса и крови руководителя жалобщиков. «И пусть в этом мясе останется дух, и пусть скажут ему перед казнью о его судьбе, и дабы он не забыл, пусть дух его останется в них». Иначе говоря, дух покаранного бунтовщика будет напоминать людям о бесплодности всякой попытки отказа от труда; и чем больше будет их труд, и чем сильнее будет в результате «говорить» в них этот дух (то есть стучать от напряжения сердце), тем меньше будет у них соблазн бунтовать и жаловаться. Тот же Энлиль является героем другого рассказа, в котором он, после создания неба и земли, создает соху, а в добавление к ней — человека, ибо «кто-то должен же обрабатывать эту землю этой сохой». А в древнем египетском тексте под любопытным названием «Созданы ли люди так, что они обладают равными возможностями?» (утверждается, кстати, что да) объясняется, что люди созданы со страхом смерти, «дабы не забывали трудиться во имя богов». Здесь, как и во всех других перечисленных выше текстах, в этих «богах», вместо которых должны трудиться простые смертные, легко угадываются правители и знать соответствующих земель. Ведь именно они считались земными воплощениями божества, и построенные ими храмы считались творениями Мардука, Энлиля или Баала. Поэтому и первая же заповедь Ягве, Господа, сообщенная Ною, — «Плодитесь и размножайтесь» (и повторенная затем Аврааму в виде обетования сделать его потомство многочисленным, «как песок морской») — имеет еще и тот практический смысл, что для труда «вместо богов» нужно много людей. Есть, однако, труд и — труд. Из дальнейшего текста J (уже в книге Исхода, в рассказе о египетском рабстве) становится очевидно, что Ягве, Господь (то есть Бог Израиля), категорически выступает только против одного особого вида труда, а именно — «египетского», то есть рабского труда, или барщины, которым — наподобие вавилонских богов — наказали людей боги Египта. Но Ягве, Господь, отнюдь не против труда вообще, напротив: уже в сцене изгнания из райского сада он приговаривает людей к пожизненному труду. Но к какому? К труду свободных земледельцев, а не рабов фараона. Таким образом, Ягве, Господь, оказывается уникальным богом: он расходится со всеми остальными богами региона в определении характера обязательного труда. Поэтому он стоит особняком в региональном пантеоне и вынужден бороться с другими богами за признание, вынужден отвоевывать у них «свой» народ, который будет жить по «Его» и только Его заповедям. В сущности, вся история препирательств Моисея с фараоном и насланных Ягве на египтян «казней египетских» — это и есть история такой войны Ягве, Бога Израиля (о котором фараон презрительно говорит, что «не знает такого бога»), с богами Египта — и его конечного торжества над ними (в виде торжества над фараоном, которому они покровительствуют). Почему же Ягве отвергает рабство и барщину? Потому что в его «понимании» (то есть в понимании еврейских царей, торопливо добавляют авторы) обязательный труд должен быть только таким; каким он сложился в Палестине, а не в каком-нибудь Египте, иными словами — трудом царских земледельцев, которые отдают десятину Б-гу, положенное — царю, а остальным распоряжаются сами. А почему то был именно такой, а не иной труд? Да просто потому, объясняют авторы, что именно такова была в те древние времена структура труда (и общества) на Палестинском нагорье, где и сложилось первое еврейское царство, признавшее Ягве, Господа, своим Б-гом, выведшим народ из рабства «рукою мощною, мышцей простертого». (Кстати, в этой характеристике победоносного Ягве есть и свой насмешливый аспект: обычно обладателями «мощной руки», «сильной руки», «руки, способной пустить сразу десять стрел из одного лука», неизменно именовали себя на своих стелах египетские фараоны, возвеличивая тем самым своих богов; но вот — мышца Ягве оказалась сильнее!) Таким образом, рассказ об Исходе — это страстное возвеличение Ягве, который мощнее всех других богов (прежде всего египетских), и одновременно — это возвеличение силы того царя (и народа), которому покровительствует такой Бог; и одновременно — это идеологическое обоснование власти этого царя и его законов (которые объявляются «заповедями Ягве»), а также обоснование необходимости труда (земледельческого, а не рабского) на этого правителя. Неудивительно, что Кут и Орт (как и еврейская традиция вообще, кстати) считают рассказ об Исходе центральным узлом всех основных мотивов текста J. Удивительней другое — что тотчас после такого признания они объявляют этот «центральный узел» полностью вымышленным! И это ведет нас прямиком к исторической части их гипотезы, не менее оригинальной и дерзкой, чем изложенная выше религиозная. Итак, Кут и Орт призывают нас принять как факт, что рассказ об Исходе в тексте J — вымышленная история. Не было Исхода, не было Моисея, не было завоевания Ханаана и не было двенадцати колен, между которыми была разделена завоеванная земля. Так и хочется спросить: а были ли сами евреи? На это авторы твердо отвечают: были. Но история евреев выглядела иначе, не так, как она излагается в тексте J, столь хорошо знакомом нам по ТАНАХу. Этот текст, говорят Кут и Орт, нужно перечитать под углом зрения того, что известно современной исторической науке. Что же ей известно? Отбирая лишь то, что они считают «надежно установленными фактами» и «разумными гипотезами», авторы рисуют следующую картину. Незадолго до 1000 г. до н. э. на Палестинском нагорье (то есть в нынешних Самарии и Иудее) располагались многочисленные деревни свободных еврейских земледельцев. Между деревнями высились отдельные города (разумеется, города в древнем понимании этого слова, то есть небольшие крепости, окруженные более или менее мощными стенами; Иерусалим принадлежал к их числу). Кстати, многие из этих городов, упоминаемые в истории завоевания Ханаана армиями Йегошуа Бин-Нуна — как, например, Иерихон, — к тому времени уже не были населенными: они, по данным археологии, к тому времени уже были заброшены и безлюдны, так что «завоевать» их евреи никак не могли — там нечего было завоевывать (что, в частности, является одним из аргументов в пользу фантастичности рассказа об Исходе из Египта в Ханаан). Так вот, существовавшие в то время города нагорья были заняты египетскими гарнизонами, поскольку Египет — в ту пору сильнейшая держава Ближнего Востока — контролировал всю Палестину. И, разумеется, нещадно эксплуатировал местное население (что и отразилось в рассказе о «египетском рабстве»). Возможно, имели место народные волнения (истории об этом ничего не известно, но этого нельзя исключить), и можно думать, что в таком случае египтяне очередной раз вторгались в страну, наводили порядок и затем хвастливо запечатлевали сей победный факт на стелах очередного фараона (именно так, по всей видимости, появилось и единственное сохранившееся упоминание такого рода — о побежденном «народе Израиль» на стеле фараона Мернептаха, примерно в 1200 г. до н. э.). Не удивительно, что Египет воспринимался как злейший и сильнейший враг, как постоянная опасность; неудивительно, что «антиегипетский мотив» пронизывает весь текст J, в котором постоянно повторяется-одна и та же сказочная схема: вымышленные еврейские герои (Иосиф, Моисей) побеждают египтян не числом, а уменьем, не силой, а хитростью. (Кстати, не исключено, добавляют авторы, что в рассказе о службе Иосифа у Потифара отразилась реальная история какого-нибудь местного еврейского аристократа, сотрудничавшего с египетским наместником в Палестине.) Была и еще одна группа палестинского населения, которая видела в египтянах постоянную угрозу. То были «бедуинские» (по существу, те же еврейские) пастушеские племена, чьи владения сплошным кольцом окружали нагорье. Собственно, и евреи-земледельцы, утверждают авторы, первоначально были пастухами, а их легендарный «праотец» Авраам — обычным «бедуинским» шейхов, такими же шейхами были и его потомки. Имена типа Авраам, Ицхак, Яаков, — говорят авторы, еще долго сохранялись среди тогдашних пастушеских племен, напоминая об общем происхождении евреев-земледельцев и евреев-пастухов. Постепенно среди тех и других сложилась традиция, возводящая это происхождение к общему предку Аврааму, что и было (полтысячелетия спустя) использовано в тексте J. Автор этого текста, выдающийся писатель-идеолог, искусно соединил земледельческие и пастушеские мифы об Аврааме и его потомках с идеей Ягве — Бога, покровительствующего авраамову роду в его борьбе с Египтом. Кут и Орт приводят ряд примеров такого соединения, из которых я для краткости выберу самый эффектный (он характеризует заодно и текстологические методы этих авторов). Речь идет о посещении Авраама «тремя ангелами», которых тот принимал и угощал под Мамрийским дубом (Бытие, 18:1-15) и «один из которых сказал: Я опять буду у тебя в это же время (в будущем году), и будет сын у Сарры, жены твоей». Эта фраза вызвала у престарелой Сары «внутренний смех», на что «ангел» (то есть Ягве) обиженно вопросил: «Есть ли что трудное для Господа?» Смех Сары, объясняют нам авторы, вызван был тем, что в этот миг она ощутила сексуальное наслаждение, род оргазма, ибо именно в этот миг Ягве «вошел» в нее, и она засмеялась от счастья. Когда же она выразила сомнение, что понесет, Ягве оскорбился: «Что, для Меня это такое чудо, что ли?» В сущности, здесь (куда живее и ярче, чем в Евангелиях) рассказана история непорочного зачатия с добавлением существенной детали: поскольку своим поступком в отношении Сары Ягве нарушил законы бедуинского гостеприимства, он тотчас объявил, что сделал это ради великого дела размножения (не это ли он первым делом заповедал Ною?), а в качестве «компенсации» обещал хозяину произвести от него «великий народ». Такое соединение народных мифов с прославлением Ягве как гаранта величия народа, говорят авторы, позволило J сделать свой текст, а заодно и монотеистическую идею самого Ягве, приемлемым для простого народа и тем самым достичь своей главной идеологической цели. Ибо, по мнению авторов, главная цель J состояла в том, чтобы утвердить в народе культ Ягве, чтобы с помощью этого освятить царскую власть, ее законы и необходимость крестьянского труда на царя и городскую знать. Ибо авторы убеждены, что текст J, хоть и предназначался для «народа», создан был при царском дворе, выражал потребности царя и знати и отражал так называемую «высокую» традицию (этим словом историки обозначают традиции, сформировавшиеся в придворной среде грамотеев-писцов и жрецов-священников в противоположность «низкой» традиции, то есть легендам и сказаниям народных слоев). Текст J, утверждают авторы, — это «высокая традиция» высших слоев, отражающая историю, какой ее видят эти слои, освящающая («сакрализующая») эту историю с помощью ссылок на Божественное покровительство и навязывающая себя простому народу посредством искусного и намеренного включения в состав своей традиции элементов традиции «низкой», знакомой этому народу. Поскольку этот текст, продолжают авторы, сложился спустя добрых 500 лет после описываемых в нем легендарных событий начальной истории народа, трудно думать, что он отражает какие-либо реальные исторические факты. Следовательно, такие древнейшие эпизоды текста, как история Авраама и его потомков, египетское рабство, Исход и завоевание Ханаана правильнее рассматривать не как отражение сохранившейся в народной памяти «истинной» древней истории еврейского народа (что мог помнить неграмотный народ о своей истории спустя 500 лет? Что, к примеру, помнили — и что знали — европейские крестьяне X века о событиях времен падения Римской империи, отдаленных от них на те же 500 лет?), а как аллегорическое отражение каких-то важных для автора, для его целей (то есть, в конечном счете, для царского двора) и действительно реальных событий совсем недавнего прошлого. Иными словами, авторы полагают, что J — под видом истории Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше и Йегошуа Бин-Нуна — на самом деле излагает (в доступной «народу» мифологической форме, используя образы знакомых легендарных героев) историю царствующего правителя, создавшего еврейское государство. Кто же этот царь, кто истинный герой основного библейского текста, этой «книги J»? Иными словами, когда и где эта книга была написана? Это возвращает нас к прерванному историческому рассказу. Кут и Орт развивают свою гипотезу следующим образом. К 1000 г. до н. э., говорят они, власть Египта над Ханааном резко ослабла. (Это действительно подтверждается документами того времени — перепиской египетских наместников в Сирии с фараонами, найденной при раскопках городища Эль-Амарна.) Причиной такого ослабления были, видимо, внутренние трудности Египта. Как бы то ни было, египетские гарнизоны в Палестине оказались отрезанными от своей страны. И тогда, надо думать, крестьянское население Палестинского нагорья воспряло духом. Пастушеские племена Южной Палестины и Синая тоже почувствовали вкус свободы. В сущности, произошло примерно то же, что в нашем веке на Ближнем Востоке, когда отсюда ушли великие державы, — регион впервые за долгие века оказался предоставлен сам себе. Открылось окошко «благоприятных возможностей», и можно думать, что освободившиеся народы не преминули им воспользоваться. Именно поэтому, утверждают авторы, в тогдашней Палестине и смогли произойти два важных события: население нагорья объединилось под властью единого царя (каковым оказался Саул), а среди евреев-пастухов появился свой собственный вождь-объединитель (каковым стал Давид — соперник Саула, бежавший к пастухам от преследований царя). В этой части своей гипотезы Кут и Орт не одиноки и не оригинальны. Другие современные историки тоже признают историчность библейского рассказа о возникновении первого еврейского царства на Палестинском нагорье. Но каждый из них объясняет становление этого царства по-своему. Одни считают, что объединение нагорья произошло насильственным путем — в результате какого-то внешнего завоевания (может быть, тем же Саулом). Другие полагают, что это было результатом уже упоминавшегося крестьянского восстания против местных (и к тому времени ослабленных) египетских гарнизонов (причем кое-кто из сторонников данной гипотезы добавляет, что подняла крестьян на это восстание группа религиозных египетских еретиков-монотеистов, бежавшая из Египта в Палестину). Наконец, третьи утверждают, что царство возникло в результате проникновения в Нагорье кочевников-пастухов из близлежащих степей Негева и Синая. Оригинальность гипотезы Кута и Орта состоит в том, что она сочетает в себе непротиворечивые элементы всех трех вышеупомянутых теорий. Во-первых, она признает факт крестьянских волнений — по мнению авторов, это отразилось в рассказе о том, как «старейшины Израиля» потребовали себе царя (Саула). Во-вторых, она сохраняет и возможность участия каких-то пришельцев-монотеистов в этом воцарении: может быть, говорят Кут и Орт, пророк Самуил, так неохотно помазавший на царство Саула вопреки воле Ягве, и был одним из этих пришлецов, принесших в Палестину культ единого Бога. Но главное в этой этой гипотезе — предположение о том, что решающую роль в объединении всей (и земледельческой, нагорной, и пастушеской, степной) Палестины сыграло именно вторжение пастушеских племен с равнины в горную часть страны, до того управлявшуюся Саулом. Давид, утверждают авторы, как раз и был руководителем этого союза пастушеских племен; библейский же рассказ о «завоевании Ханаана» армиями Йегошуа Бин-Нуна — это всего лишь отражение этого реального завоевания нагорья армией Давида. Таким образом, центральную роль в гипотезе Кута и Орта играет Давид. По их убеждению, этот искусный стратег и прирожденный политик первым осознал и сумел использовать историческое «окошко возможностей», открывшееся в результате ослабления Египта. Потерпев поначалу поражение в борьбе с Саулом за власть над нагорьем, он бежал в южные степи и — посредством серии хитроумных военных и политических маневров — сплотил тамошние пастушеские племена в единый союз, своего рода племенную федерацию — сначала для организации коллективного заслона против возможного возвращения египетских армий (в этом он нашел поддержку филистимлян, осевших к тому времени на побережье), а затем — для вторжения в нагорье и овладения им. Сколотив такую федерацию, Давид возглавил ее и сделал своей столицей Хеврон — главный центр тогдашней пастушеской части Палестины. Здесь он, как следует из танахического рассказа, провел целых семь лет, все это время готовясь к вторжению в нагорье. Достаточно усилившись (и попутно разгромив те пастушеские племена, которые не примкнули к созданной им федерации), Давид, наконец, вторгся в нагорную Палестину, захватил Иерусалим, перенес туда свою столицу и провозгласил себя царем. Земледельцы Палестины были обложены налогом, но зато получили право на свободный труд (которого были лишены под властью египетских наместников в «египетском рабстве») и гарантии защиты от египетских притязаний. А пастушеские племена в благодарность за поддержку получили право беспрепятственного пользования пастбищами нагорья: оно было разделено на 12 районов, каждый из которых был закреплен за тем или иным племенем. Отсюда, говорят авторы, и пошла история «двенадцати колен»: по их мнению, она была придумана задним числом, чтобы оправдать такой «раздел» Палестины. Что же до названий этих уделов — «удел Дана», «удел Иегуды» и так далее, — то они, говорят Кут и Орт, попросту отражают имена тогдашних пастушеских вождей — союзников Давида: ведь и они были такими же евреями, как земледельцы нагорья; поэтому среди них были распространены те же имена. Такова в самых общих чертах та историческая гипотеза, которую предлагают Кут и Орт в своей книге «Первый текст Библии». Гипотеза, надо признать, довольно революционная. Ведь, если вдуматься, авторы утверждают не более, не менее, что вся танахическая история евреев, все ее события, от прихода Авраама в Ханаан и до Моисея и Йегошуа, впервые зафиксированные в тексте J, есть на самом деле не что иное, как продуманная и сознательная аллегория. По глубокому убеждению авторов, неведомый (и, несомненно, гениальный) J попросту описал в своем тексте историю воцарения Давида, спроецировав ее в легендарное еврейское прошлое и «поделив» между легендарными героями. Но отсюда следует, что не правы были все те историки, которые много десятилетий подряд считали, что текст J был создан при дворе Соломона. На самом деле, говорят авторы, он был создан именно при дворе Давида, который первым сумел использовать предоставленную историей короткую передышку для объединения всех еврейских племен — как земледельческих, так и пастушеских — в единое царство (Саул еще правил только в нагорье). Именно Давиду и понадобилась собственная «придворная» история, которая прославила бы его деяния и утвердила бы его власть в сознании подданных. Передышка эта продолжалась всего 60 лет: как мы знаем, к концу царствования Соломона первое объединенное еврейское царство распалось на Иудею и Израиль. Авторы полагают, что это было вызвано тем, что к тому времени Египет снова укрепился, и его «агентура» в Палестине спровоцировала этот раскол, чтобы ослабить и подчинить евреев. Но в эпоху Давида, заключают авторы, евреи успели получить не только собственное национальное государство, но также собственный национальный миф и собственную национальную идеологию — как раз в виде текста J, этой первой версии ТАНАХа, навеки сплотившего евреев если не территориально, то духовно. Этот текст, по мнению Кута и Орта, был создан с осознанной целью укрепления новорожденной монархии и освящения ее родословной и ее претензий посредством культа Ягве. Неслучайно культ этот в тексте J — подчеркнуто «пастушеский», «палаточный», не знающий никакого Храма; во времена Соломона, строителя Ирусалимского Храма, такой пастушеский культ был бы уже немыслим. Текст J сделал главными героями еврейской истории не земледельческих, а пастушеских вождей, этих подлинных хозяев нового государства и его аристократию. Он приписал им задним числом сакральную историю и легендарную генеалогию, возведя их к Аврааму, Ицхаку и Яакову. Традиционные хождения этих пастухов в Египет, их периодическое порабощение египтянами, временные союзы их вождей (Йосефа?) с египетскими наместниками палестинских городов — все это было использовано для создания величественной мифологической эпопеи Исхода. Фигура Давида — законодателя нового царства и создателя новой нации превратилась под пером J в грандиозный образ законодателя Моисея. История завоевания пастухами-кочевниками Палестинского нагорья легла в основу рассказа о завоевании Ханаана кочевыми армиями Йегошуа Бин-Нуна. Раздел между пастушескими вождями пастбищ нагорья стал историей «двенадцати колен». И так далее. Так, говорят авторы, и был создан национальный эпос, национальный миф и национальная религия. И подлинным их создателем был неведомый гениальный писатель давидова двора, именуемый сегодня J. Возможно, поначалу текст J замышлялся в виде всего лишь обычной хвалебной песни, этакого гомеровского эпоса, исполняемого перед лицом тщеславного царя и угодливой знати. Но соединение в этом тексте всех национальных сказаний и легенд, в которых нашла воплощение недавняя и хорошо знакомая тогдашним евреям реальная история становления их первого государства, привело к тому, что этот эпос глубоко запал в народную память и стал «священной книгой» новой нации. Заново и глубоко переосмысленные (как изначально направлявшиеся Господом Ягве) истории еврейских праотцев и «египетского рабства», Моисея и Исхода, скитаний в пустыне и «дарования законов», завоевания Ханаана и «двенадцати колен» — все это стало основой новой веры и содержанием уже не племенной, а национальной истории. И эта основа уцелела даже после распада государства. Так заканчивают свое объяснение происхождения, смысла и судьбы первого текста ТАНАХа американские авторы. Добавим уже от себя: этот эпос вобрал в себя и самые замечательные, чарующие воображение, самые распространенные на всем Ближнем Востоке легенды — о создании человека «по образу и подобию богов», о райском саде и потопе, о Вавилонской башне и т. п. Положенные на этот баснословный, но благодаря давности и распространенности почти достоверный фон, все прочие рассказы J тоже могли быть восприняты как почти достоверные. Поэтому религиозная идея и светская идеология (частично заимствованные из вавилонских и угаритских предисточников), искусно переплетенные с мифом, могли действительно стать в таких условиях общенародными. С другой стороны, все это могло происходить, конечно, и совершенно иначе: текст J мог не иметь таких «скрытых намерений»; он мог действительно отражать пусть и легендарное, но имевшее реальную фактическую основу еврейское прошлое; становление монотеистической религии могло начаться задолго до создания этого текста, а в нем найти лишь свое гениальное воплощение — и так далее; вы можете все это продолжить вместо меня. И тогда гипотезу Кута — Орта придется признать неверной; Но я полагаю, что с ней стоило познакомиться. Уж очень она радикальна и увлекательна. Одно лишь следует помнить, взвешивая степень ее достоверности: она относится именно к тексту J, то есть только к тому, что является содержанием первых книг ТАНАХа. В Торе есть и отдельный рассказ о Сауле и Давиде — это Первая и Вторая книги Царств; но они написаны другими авторами; как считается — уже после Соломона. В тексте же самого J никаких прямых упоминаний о Сауле, Давиде и Соломоне нет, и все, что в него «вложили» Кут и Орт, — это их самостоятельная историческая реконструкция. Таких реконструкций в последние годы появилось немало. Гипотеза Кута и Орта затрагивает небольшой отрезок истории — какое-нибудь столетие. Куда более масштабной — и волнуюшей воображение — является, например, та реконструкция (впрочем, уже в основном, постбиблейских событий), которую предложил недавно Грэм Хэнхок в своей книге «Знак и печать». Впрочем, эта смелая реконструкция заслуживает отдельного рассказа. >ЧАСТЬ 5 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ >ГЛАВА 1 ВЕЛИКИЙ ИЕРИХОН Опустевшая синагога в Иерихоне находится теперь на территории палестинского автономного анклава. Доступ евреям в город временно, запрещен. В один день древний Иерихон, некогда взятый еврейскими войсками, перед которыми, по преданию, пали его стены, превратился в палестинский административный центр. Что называется — росчерком пера. Предание о стенах, павших от рева еврейских военных труб, увековечило имя Иерихона в человеческой памяти. Но для историков это название звучит еще весомее. Иерихон — одна из важнейших вех на пути человечества из древнего каменного века в век бронзовый. Это один из древнейших, а может быть — и самый древний город на Земле. В сокровищнице исторических ценностей, которыми столь богата Земля Израиля, Иерихон — одна из ценнейших. Самому древнему из сохранившихся народов западной цивилизации вполне приличествовал самый древний ее город. Это не говоря уже о собственно еврейских памятниках Иерихона. Хотя бы о тех же Иродовых дворцах. По странной случайности совпало так, что одновременно с этой утратой вышел в свет специальный номер журнала «Сайентифик америкэн», под обложкой которого были собраны все ранее опубликованные в журнале статьи, посвященные древним городам мира. И конечно, открывала этот сборник статья, рассказывающая о раскопках в Иерихоне. Принадлежала она перу Кэтлин Кеньон, дочери бывшего директора Британского музея и знаменитой исследовательнице, которая в середине нашего века впервые открыла миру долгую и славную историю древнего Иерихона. Листая эту по существу мемориальную статью, вглядываясь в фотографии раскопок и найденных предметов, вчитываясь в рассказ автора, невольно ощущаешь, как ты все глубже и глубже опускаешься по ступеням веков в прошлое. Вот уже скрылись из виду гигантские метрополии современности, пустыннее стала Земля, все меньше на ней людей и людских поселений, в сотнях и тысячах километров находятся они друг от друга, разделенные безлюдными и дикими пространствами; вот уже одни только охотничьи племена с их каменными орудиями остались на поверхности планеты, и именно тут, в этой дали туманного прошлого, взгляд натыкается на нечто неожиданное и явно искусственное: мощные каменные стены, взметнувшиеся к небу из пустыни. Иерихон… Человечество не сразу перешло к оседлому образу жизни. Этот переход произошел лишь с окончанием последнего ледникового периода, «каких-нибудь» десять тысяч лет назад, в конце каменного века. Именно тогда в Западной Азии возникли первые оседлые поселения — то, что впоследствии стало называться городами. Значение их в истории цивилизации огромно — недаром англичане подчеркивают, что слово «city» одного корня со словом «цивилизация». Город — это нервный узел любой цивилизации, средоточие ее административных, религиозных, культурных и всех прочих функций, символ ее непрерывности и преемственности. Сегодня две трети человечества живет в городах. Но так было не всегда. Первые деревни сосредоточивали в себе каких-нибудь несколько сот, а то и всего несколько десятков жителей. Первым городом на Земле стало место, население которого впервые в истории перевалило за тысячу. Это и был Иерихон. На приведенной в журнале исторической шкале, протянувшейся от 8000 года до новой эры к 1000 году после ее начала, длинной цепочкой вытянулись самые древние города Земли. Открывает этот список Иерихон. За ним с разрывом в полтысячи лет следует Тель-Абу-Хурейра, что в Сирии. Проходят еще полторы тысячи лет, и появляются Чатал Хююк в Анатолии (современная Турция) и Мергар в нынешнем Пакистане. Только за пять с половиной тысяч лет до нашей эры возникли первые города Месопотамии — знаменитые Ур, Урук и другие, а за ними, с разрывом еще в три с половиной тысячи лет — Иерусалим и Кноссос (в русском написании Кнос) на Крите. Большинство этих городов ныне занесены песками, а Кноссос — вулканическим пеплом. И только в Иерихоне и Иерусалиме все эти нескончаемые тысячи лет-непрерывно продолжают жить люди — до наших дней. Что уж тут говорить о Помпеях или Петре, а тем более о первом русском городе Новгороде, возникшем практически уже в «наши» исторические времена, где-то на рубеже первого тысячелетия новой эры! Младенцы… Как ни странно, еще несколько десятков лет назад такой список немыслимо было себе представить. Историки знали, конечно, что Иерихон существовал еще во времена завоевания евреями Ханаана, но никогда не думали, что его стены уходят в такую седую древность. Да и стен этих давно уже не было. Первых археологов привела в Иерихон вовсе не эта древность (о которой никто не догадывался), а жгучее желание проверить библейскую легенду. Поиски рухнувших от «иерихонского рева» стен начал британский археолог Джон Гарстанг, который прибыл сюда в 1930 году. Именно он первым обратил внимание на древний холм неподалеку от города и пришел к выводу, что именно под этим холмом должны скрываться остатки библейского Иерихона. Холм (или курган) в семитских языках — «тель» — созвучен английскому «teil», что означает также «рассказывать». И раскопанный Гарстангом тель Иерихо действительно рассказал о прошлом города. Нет, археолог не нашел подтверждения библейской легенды. Зато он нашел кое-что куда более важное для исторической науки. Глубоко в раскопе его сотрудники обнаружили бесспорные свидетельства того, что люди жили в этих местах уже в конце каменного века. Иерихон стал сенсацией в мировой археологии. Не удивительно, что вслед за Гарстангом сюда пожаловала следующая археологическая экспедиция, которую возглавляла Кэтлин Кеньон. К тому времени она уже прославилась своим участием в раскопках в Родезии и Англии. В январе 1952 года ее сотрудники первый раз вонзили свои лопаты в землю Иерихонского теля и стали слой за слоем снимать его покровы. Основы современной археологии заложил еще в прошлом веке английский ученый Флиндерс Петри. Он указал, что датировка прошлого может производиться с помощью оставшихся от этого прошлого предметов, т. н. артефактов. В особенности красноречива в этом смысле глиняная посуда. Петри показал, что. каждой стадии истории Востока соответствовала своя особая посуда, виды которой можно классифицировать по эпохам и сопоставить с клинописными и иероглифическими надписями Египта и Месопотамии. Это позволяет в конечном счете датировать все такие эпохи, а с ними и те слои, в которых были обнаружены «говорящие артефакты». Важно только снимать эти слои один за другим, тщательно и терпеливо отделяя эпоху от эпохи. Разумеется, это не очень удобный, а главное — не очень точный метод. Отдельные слои порой идут под наклоном, углубляясь в землю и пересекаясь там с другими слоями. Черепки нередко перемешиваются временем и человеческой рукой. Впоследствии методы Петри были усовершенствованы и дополнены приемами радиографического (радиоуглеродного) определения дат, которые оказались несравненно более точными. Именно с их помощью удалось доказать, что даже Кеньон ошиблась в своей датировке иерихонских руин. Она определила возраст города в 7000 лет, тогда как радиографические методы показали, что он на добрую тысячу лет старше. Ошиблась Кеньон и во многом другом. Тем не менее ей принадлежит несомненная заслуга: она извлекла из небытия доселе практически неведомый древний город и показала его человечеству. Процесс раскопок — это нечто вроде послойной вивисекции прошлого. Снимая слой за слоем, археологи уходят в глубь истории, порой на десятки метров, если в данном месте, как в раскопанной Шлиманом Трое, каждое следующее поселение строилось на развалинах предыдущего. В Иерихоне глубина культурного слоя оказалась чудовищной — до 70 метров! Уже одно это говорило о глубочайшей древности и непрерывной преемственности жизни в этих местах. Оно и не удивительно. В раскаленной Иудейской пустыне первобытные охотники, первыми сменившие кочевой образ жизни на оседлый, могли поселиться только там, где есть вода и подходящая для земледелия почва. Иерихон — оазис среди пустыни, это видно еще и сегодня, когда спускаешься с Иудейских гор и едешь в сторону Мертвого моря. Зеленый пальмовый остров Иерихон кажется маревом среди окружающей каменистой пустыни. Оазис обязан своим существованием многочисленным подземным источникам, среди которых еще в древности выделялся т. н. «Фонтан Элиши». Экспедиция Гарстанга вскрыла неолитические слои только на самом крайнем, северо-западном углу холма. Да и то пришлось для этого рыть глубокую шахту. Кеньон сразу же обнаружила, что артефакты каменного века находятся и на западной оконечности холма, где древние слои подходят намного ближе к поверхности земли и залегают на глубине всего четырех метров. Первое поразительное открытие не заставило себя ждать: оказалось, что площадь поселения уже в каменный век была куда больше, чем думалось. По размеру оно явно превосходило примитивные поселения той эпохи (вроде Чатал-Хююка), которые археологи время от времени раскапывали на Ближнем Востоке. Это означало, что и по количеству жителей Иерихон уже в те времена значительно превосходил обычную деревню. Кеньон оценила его первоначальное население примерно в 2000 человек. Произвести эту оценку ей позволило второе крупное открытие. Доведя раскопки до скального слоя, то есть до максимальной глубины, сотрудники экспедиции вскрыли в этом первом, самом раннем слое остатки глиняных сооружений — те грубые хижины, в которых жили основатели Иерихона. Эти хижины напоминали собой глийяные подобия круглых шатров кочевых охотников. Но эта фаза иерихонских построек оказалась довольно короткой. Уже следующий период (следующий слой) продемонстрировал исследователям огромный прогресс в строительстве и архитектуре. Дома (а их уже можно было без преувеличения назвать не хижинами, а настоящими домами) приобрели прямоугольную форму, стены стали толще и солиднее, в них появились четко прорезанные входы, а внутреннее пространство жилья было разбито на отдельные комнаты, тесно группировавшиеся вокруг общего двора. Но самым интересным было то, что во многих таких домах стены и полы хранили следы штукатурки, что придавало им законченный, даже отчасти современный вид. Это уже были жилища прочно устоявшейся, сложившейся общины. К тому же общины весьма организованной, судя по тому, что все поселение было, по-видимому, обнесено массивной каменной стеной. У иерихонцев каменного века еще не было посуды, и этот вроде бы малозначительный факт показывает, как глубоко ушли археологи в глубь времен, к самому началу оседлой жизни человечества: ведь горшки и миски — это одно из первых изобретений оседлых людей. Несомненно, причиной, по которой бывшие охотники облюбовали и решили укрепить это место, была прежде всего его пригодность для земледельческой жизни. Обилие воды и тропический климат оазиса делали необычайно плодородной его землю, и пришельцы могли рассчитывать, что сумеют добыть себе здесь пропитание. Судя по тому, как расцвел и продолжал расти Иерихон впоследствии, они не обманулись в этих ожиданиях. Но прогресс этих первых поселенцев не ограничивался только областью материальной культуры. Одно из самых поразительных открытий, совершенных экспедицией Кеньон, состояло в обнаружении среди руин каменного века особого помещения, явно служившего ритуальным, то есть религиозным целям. В глубине небольшой комнаты археологи нашли нишу, где возвышался грубо обработанный каменный пьедестал, а рядом с ним — тщательно обработанный кусок вулканического камня, который, судя по виду и месту обнаружения, когда-то был предметом неизвестного нам религиозного культа. Окружавшие камень глиняные фигурки животных свидетельствовали о том, что религия первых иерихонских поселенцев скорее всего представляла собой культ плодородия. По сути, эта находка в Иерихоне позволила историкам воочию увидеть, как зарождались древнейшие религии оседлого человечества и как возникали их первые храмы. Но что еще более поразительно — оказалось, что культура древнейших земледельцев каменного века не исчерпывалась одним лишь культовым поклонением богам плодородия. Кеньон нашла целую галерею портретных масок! Их было семь, и каждая представляла собой высохший череп, на который какой-то неведомый древний художник наложил слой глины, грубо изобразив на нем черты человеческого лица. До сих пор историки искусства знали только о раскрашенных человеческих портретах из знаменитого Фаюмского оазиса в Египте. Теперь перед ними предстали, на несколько тысячелетий более древние, возможно первые в мире, изображения людей, к тому же — людей каменного века. Археологи увидели не просто глиняные или каменные фигурки божков и богинь — перед ними были лица реальных людей, живших семь — восемь тысяч лет назад! Иерихон оказался настоящей «машиной времени». Кто же были эти люди? Почему они удостоились такой почести? Не исключено, что это были портреты почитаемых в поселении предков-основателей вроде римских Ромула и Рема. Но если это так, то значит, искусство живого портрета (а не просто схематического изображения оленей и охотников, как во французских пещерах) возникло уже в седой древности. Уже тогда первобытный Рембрандт вглядывался в лица своих соплеменников, чтобы запечатлеть их для вечности. И видимо, отдавал себе отчет в том, что он творит… Говорят, что искусство особенно расцветает в суровые и опасные эпохи. Судя по толщине каменных стен первого города, иерихонский Рембрандт жил именно в такую эпоху: стены не воздвигаются для защиты от друзей. Иерихонцы одними из первых на Земле перешли к оседлому земледелию; вокруг еще бродили дикие охотничьи племена, и врагов у горожан, надо думать, было предостаточно. Тем не менее первый город просуществовал на удивление долго — об этом свидетельствует толщина культурного слоя, в пределах которого техника изготовления изделий практически не меняется. Жизнь людей в ту пору была короткой, умирали (или погибали) в среднем в возрасте тридцати лет. В городе успело смениться не одно поколение: сложились традиции, устоялись обычаи, проглядывалась в смутной дали непонятного времени какая-то своя легендарная история, о которой рассказывали детям и внукам. Всему этому пришел внезапный конец где-то в начале раннего бронзового века. Палестина, как ее станут в будущем называть, стала тогда местом бурного городского строительства. Как грибы после теплого дождя поднимались вокруг поселения, защищенные стенами, воздвигались дома и жилища, строились храмы и капища; там, где раньше на всю огромную пустынную округу был один Иерихон, слухи о котором наверняка уже обросли сказками и легендами, теперь появилось множество конкурентов. А где города, там цивилизация, а где цивилизация, там войны. К тому времени неолитический Иерихон уже высоко поднимался на своем холме — ведь столько поколений оставляли здесь следы своего пребывания на Земле. Примерно к 3000 году до новой эры (когда настоящие города на всей планете еще можно было пересчитать на пальцах) стены Иерихона окружал холм 20-метровой высоты. Из ворот города в разные стороны разбегались торговые дороги. Об этом можно судить по тому факту, что в слоях этой эпохи уже обнаруживается не только местная посуда, на и черепки глиняных изделий из других мест, подальше к северу, западу и востоку. Сотрудники Кэтлин Кеньон нашли в раскопках и другие признаки цветущей и широкой торговли. Город еще более расширился — видимо, разбогател. Надо полагать, что окрестное население массами тянулось под прикрытие иерихонских стен: ведь город защищал вход в Ханаан со стороны южных и восточных пустынь, откуда непрестанно рвались к этим плодородным землям племена кочевых охотников. С каждым разом они все ближе подступали к городу, а порой даже нападали на него. Судя по раскопкам Кеньон, стены Иерихона разрушались не менее 17 раз! И далёко не всегда виной этому были землетрясения. В 2100 году до н. э. стены были разрушены полностью и до основания. На сей раз виновники известны точно — это были воинственные племена амореев, именно в ту пору захватившие большую часть здешних земель. Они не только разрушили стены Иерихона — они еще вдобавок сожгли город дотла. После слоев с обожженными пламенем остатками стен пошли «пустые» слои — видно, жители бежали из города или были уведены в рабство. Почти двести лет угрюмые и безлюдные руины Иерихона одиноко высились в пустыне. Другие города, помоложе, став жертвой такой катастрофы, уходят в небытие, заносятся песками. Но не таков этот древнейший город. Уже на рубеже 2000 года до н. э. в археологических слоях снова стали появляться остатки жилищ. И опять, как в начале заселения, это грубые, примитивные постройки. Их явно создавали пришельцы, не знавшие навыков городской жизни, ее архитектуры и методов строительства. Видимо, на развалины Иерихона пришли жители других мест, привлеченные древней славой города и его плодородными землями. А к 1900 году до н. э. появляются новые крепостные стены и добротные, просторные дома. В развалинах этих построек археологи нашли бронзовое оружие и украшения из бронзы. Это позволило установить, что новые поселенцы пришли откуда-то с севера, несколькими волнами, причем каждая следующая волна несла с собой всё более высокую культуру бронзового века. Не удивительно, что город стремительно разрастался, и уже через несколько сотен лет периметр городских стен охватил огромную по тем временам площадь — самую большую, которую когда-либо занимал Иерихон. Сами стены тоже были построены по новой системе — вдоль основания их был насыпан вал, для того, видимо, чтобы воспрепятствовать приближению боевых колесниц. Культуру новых жителей Иерихона сохранили их гробницы. Археологи раскопали десятки таких гробниц с уцелевшими в них остатками изделий из дерева, текстиля, плетеных корзин и даже пищи. И снова Иерихон оказался непохожим на других: во всех остальных местах здешней земли такие артефакты давно истлели, а здесь время их совершенно не тронуло. Благодарить за это следует сухой и жаркий климат Иорданской долины. Он — и только он — позволил историкам узнать, как жили люди в Святой Земле в эпоху прихода сюда праотца Авраама. Каждая гробница содержала богатый набор вещей и провизии. Можно думать, что люди того времени верили в загробную жизнь и старались снабдить покойников всем необходимым для продолжения существования на том свете. Предполагалось даже, что они будут есть, сидя за столами, и поэтому в гробницах были обнаружены целые комплекты тогдашней мебели — деревянные столы, стулья и кровати, отделанные с немалым искусством. Деревянные и глиняные горшки и кувшины содержали запасы пищи, а большие, с четырьмя ручками сосуды — питье. На полах были расстелены плетеные матрацы, в деревянных чашках или алебастровых сосудах были приготовлены туалетные принадлежности, в плетеных корзинах навалом лежали деревянные и металлические гребни вперемежку с одеждой. Разумеется, все это сохранилось лишь фрагментарно, но и в таком виде позволяет увидеть, что люди в Иерихоне жили зажиточно. То была уже настоящая и довольно высокая по тем временам цивилизация. Конец ее наступил вместе с концом среднего бронзового века, с началом становления и расширения великих ближневосточных империй. Лежавший на скрещении путей Ханаан оказался, как и сейчас, предметом внимания и интереса великих держав. Около 1560 года до н. э. (Иерусалим уже был тогда столицей племени иевуситов) в страну вторглись египтяне. Иерихон был захвачен, разграблен и сожжен; С этого момента культурный слой снова становится стерильным. Предшественник Кэтлин Кеньон, уже упоминавшийся выше Гарстанг, нашел, правда, на краю иерихонского холма какие-то жалкие остатки невысоких стен и временных жилищ, которые он датировал 1350 годом до новой эры, но можно с почти полной уверенностью утверждать, что к концу этого столетия, то есть ко времени, которым большинство современных историков датирует завоевание Ханаана евреями, не высился вблизи Мертвого моря богатый и сильный город и не было тех стен, которые мог бы сокрушить рев еврейских боевых труб. Предание о рухнувших от трубного гласа стенах Иерихона — всего лишь красивая легенда. Йегошуа бин-Нун не был ни первым, ни последним среди тех полководцев, кто слегка преувеличил свои боевые заслуги, — достаточно глянуть на победные стелы египетских фараонов и ассирийских царей того времени. Впрочем, у бин-Нуна были вполне реальные причины гордиться взятием Иерихона — вступив в этот древний город, он вместе со своим народом вступил в историю. С этого времени первый город на планете продолжил свою жизнь уже как еврейский город. Пока в наши дни не стал палестинским. >ГЛАВА 2 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ А вот еще кое-что о древних строителях, хотя, скорее, из области забавного. Как многим, наверно, известно, по всей территории Британского королевства рассеяно множество древних каменных монументов, состоящих из ряда вертикальных подпорок, поддерживающих поперечную. Они получили название «хедж». Самый знаменитый и интересный из них, Стоунхедж, расположен на равнине Солсбери, что на юго-западе Англии. Историки полагают, что его строительство заняло примерно четыреста лет и закончилось 4800 лет назад. Комплекс Стоунхеджа состоит из наружного кольца П-образных каменных сооружений из песчаника — это вертикально стоящие камни высотой около 4,5 м, которые поддерживают горизонтальные каменные «перекладины». Кроме того, имеется также внутреннее кольцо из камней пониже, которое повторяет форму наружного. Множество разнообразных гипотез высказывалось по поводу назначения этого монумента. Многие ученые считают, что это был храм, в котором в период неолита происходили культовые процессии священников и мистические празднества, а вокруг, в открытом поле, располагались зрители. Возможно также, что это было место для некультовых зрелищных представлений. Так вот, недавно была выдвинута новая, весьма забавная гипотеза, согласно которой дизайн Стоунхеджа основан на женской сексуальной анатомии. Автор гипотезы — доктор Антони Перке, отставной профессор гинекологии и акушерства университета Британской Колумбии в Ванкувере и врач университетской женской больницы. Внимательно рассматривая камни Стоунхеджа, он заметил, что некоторые из них тщательно отполированы, а другие остались необработанными. Это навело его на мысль о связи отполированных камней с профессионально хорошо знакомыми ему особенностями женской кожи. Гладкость женской кожи по сравнению с мужской давно известна и связана с женским гормоном эстрогеном. «Каких же гигантских усилий стоило древним людям шлифовать камни вручную», — подумал доктор Перке и решил проанализировать весь монумент в анатомических терминах женского полового аппарата. Он увидел, что камни внутреннего кольца расположены скорее по эллиптической, яйцеобразной кривой, нежели по кругу. Сравнение ее формы с формой женских половых органов показало неожиданный параллелизм. Дальнейшее изучение монумента выявило другие интересные детали, и в результате у Перкса родилась законченная и оригинальная гипотеза. Согласно, этой гипотезе, наружный каменный круг и невысокий холм в его центре, возможно, имитируют т. н. большие срамные губы (две покрытые волосами кожные складки, которые окаймляют отверстие влагалища и сзади от него срастаются вместе) и лобок, тогда как внутренний круг изображает малые срамные губы (две другие складки, не покрытые волосами, вокруг женского влагалища, у передней точки соединения которых находится клитор). Тогда камень алтаря (или жертвенника) должен соответствовать самому клитору, а пустой геометрический центр, очерченный камнями малого круга, — символ детородного канала. При всей своей кажущейся забавности гипотеза Перкса содержит некое здравое научное зерно. Перкс обращает внимание на тот факт, что, в отличие от других холмов на просторах Англии, в холмах, окружающих Стоунхедж, найдено очень мало захоронений. Он трактует это как подтверждение своей гипотезы: «Я думаю, что это место было символом жизни, а не смерти». По мнению Перкса, комплекс Стоунхеджа был посвящен богине Матери-Земле. Поклонение этой богине было распространено среди ранних кельтов и людей других европейских неолитических культур. В Европе найдены сотни статуэток, так или иначе выражающих идею богини-Матери. Они были созданы в те времена, когда роды сопровождались высочайшей смертностью младенцев, и поэтому вполне возможно, что богине-Матери молились также о выживании новорожденных и вообще о плодородии. Поэтому Стоунхедж, по мнению Перкса, мог служить для таких «церемоний плодородия», которые связывали рождение и выживание человека с рождением и выживанием растений и животных, от которых зависели тогдашние люди. Любопытно, что почти одновременно с Перксом проблемой Стоунхеджа занялся другой ученый, голландский профессор философии Джон Давид Норт. Он выдвинул совершенно иное (и более консервативное) предположение, заявив, что камни Стоунхеджа расположены так, что образуют точную проекцию определенных звезд, а потому следует думать, что Стоунхендж служил астрономической обсерваторией и картой звездного неба. Доктор Перке признает, что монумент, возможно, был связан и со звездным небом, но видит это в ином свете. «В Стоунхедже мы видим на открытой равнине Солсбери небесный свод вместе с Землей. Как будто бы Отец-Солнце встречается с Матерью-Землей на середине пути, в месте, обращенном к будущему». Так что правило «Шерше ля фам», то бишь «Ищите женщину», иногда, как видим, помогает и в поисках разгадок доисторических тайн. Если и не очень убедительных, то весьма увлекательных разгадок. Не оглянуться ли и нам на иные наши древности? >ГЛАВА 3 СЕКСУАЛЬНЫЕ РАБЫ ИШТАР В гипотезе доктора Перке есть и другое рациональное зерно. Древние люди действительно много размышляли о женщинах. Оно и понятно — женщины рожали детей, т. е. были залогом будущего. Может быть, потому и секс играл огромную роль в древней культуре — чему доказательством нижеследующая занимательная история. Она начинается словами (кое-где попорченной) вавилонской рукописи:
Эта пространная эротическая поэма, лишь небольшой отрывок из которой приведен выше, описывает длинную череду сексуальных сношений вавилонской женщины по имени Иштар со 120 юношами ее города. Сей примечательный текст, в котором то и дело повторяется припев: «Вот так милуются девки с парнями в нашем городе!», был обнаружен в собрании клинописных текстов религиозного толка в развалинах главного центра вавилонской религии, города Ниппур, который историки иногда называют «Ватиканом Ново-Вавилонского царства». Глиняная табличка с текстом поэмы была найдена во время раскопок древнего Вавилона в 1880 году одним из пионеров современной археологии Германом Хильпрехтом. Судя по всему, поэма была написана во время царствования знаменитого Хаммурапи, но найденный Хильпрехтом текст, представлял собой более позднюю копию, что свидетельствует о большой популярности данного произведения. Сорок лет царствования Хаммурапи (XVIII век до н. э.) были временем расцвета Вавилонии. В те времена царство это было религиозным, культурным и научным центром всего Ближнего Востока. Именно тогда было создано первое в истории собрание законов, известное под названием «кодекса Хаммурапи». И одновременно то была эпоха бурного расцвета литературного творчества. «Тексты, описывающие сексуальные отношения вавилонян, представляют собой органическую часть этой богатой литературной традиции, — говорит профессор израильского Беэр-Шевского университета Авигдор Гурвиц, посвятивший этому гимну древнего распутства статью в вышедшем недавно в США сборнике «Разгадывая загадки и распутывая узлы». — Секс был такой же законной темой искусства, как в наши дни, когда, например, в кинофильме, не имеющем никакого отношения к порнографии, можно встретить постельные сцены. Так же и в знаменитой вавилонской поэме «Деяния Гильгамеша» имеется эпизод, в котором дикое лесное существо Энкиду семь суток подряд совокупляется с блудницей». По словам проф. Гурвица, вавилонское общество было значительно более терпимым и открытым в отношении секса, чем еврейское или христианское, и вавилоняне свободно обсуждали любые сексуальные проблемы. Секс был также и куда более доступен. Так, например, в городе Ашшур (на территории нынешнего Ирака) существовал храм богини любви Иштар, в развалинах которого были найдены медальоны с изображениями храмовых проституток мужского и женского пола; как полагают исследователи, сношения с ними считались своего рода магическим ритуалом. «Напротив, в еврейских источниках, — продолжает Авигдор Гурвиц, — о сексе, как правило, говорится весьма сдержанно, и всякое описание сексуальных отношений, выходившее за рамки общепринятого, считалось предосудительным». Так, в известном рассказе Книги Судей о Яэли и Сисаре так и не сказано напрямую, сопровождалась ли их встреча половым актом. Впрочем, согласно талмудическому комментарию рава Йоханана, стих «Между ног ее встал на колени, опустился и лежал, между ног ее встал на колени и опустился, там, где встал на колени, лежал, убитый» следует понимать в том смысле, что Сисара успел семь раз овладеть Яэлью, прежде чем она его убила. Подобно древним еврейским авторам, современные ассириологи относятся к проблеме секса весьма консервативно, и, например, в одном из известнейших английских переводов «Деяний Гильгамеша» переводчик Александр Хейдель предпочел перевести слишком скабрезную сцену… по-латински! Возможно, по тем же причинам и эротические гимны, повествующие о вавилонском разврате, оставались неизвестными в течение многих лет (с самого момента их обнаружения), и лишь в самое последнее время они нашли своих переводчиков. Немецкий ассириолог Вольфрам фон Зоден перевел их на немецкий, но при этом ограничился обсуждением лишь грамматических особенностей текста. Тем не менее даже на основании этого анализа фон Зоден пришел к выводу, что найденная глиняная табличка, по всей видимости, представляет собой отрывок более обширного текста — возможно, культового или ритуального характера. Исследование Авигдора Гурвица основывается на переводе фон Зодена, но, в отличие от труда немецкого исследователя, представляет собой первый в ассириологии чисто литературный анализ поэмы. По мнению Гурвица, «этот текст представляет собой одно из древнейших порнографических произведений вавилонской письменности. А то, что текст этот написан по-аккадски — на древнем языке богослужения, — не более чем прием. В поэме масса юмористических моментов и остроумной словесной игры, что свидетельствует об определенной литературной изощренности автора». В процитированном отрывке речь идет о женщине по имени Иштар (судя по всему, вполне обычной, живой женщине, а не одноименной богине), с которой хотят совокупиться юноши города. Один из них предлагает, ей усладить себя. Его товарищ, видимо, сочтя, что это вежливое предложение не будет оценено по достоинству, добавляет перца и предлагает Иштар нечто более грубо-откровенное. Ответ Иштар превосходит все ожидания юношей: она предлагает себя не только им, но и всему городу, и приглашает городских юношей «в тень стены». Речь идет, по-видимому, о том районе, который в древности служил эквивалентом современных «кварталов красных фонарей», ибо и о блуднице Рахав в Библии сказано, что «дом ее вблизи стены и у стены она живет». 120 юношей решают воспользоваться соблазнительным предложением Иштар, и каждый из них совокупляется с ней по «семь раз спереди и семи раз сзади». Но даже эти сотни половых актов не удовлетворяют женского сластолюбия. Юноши изнемогли, но Иштар требует еще. Рассказ кончается тем, что изнуренные юноши все же удовлетворяют ее желание. «Все мужчины хотят послужить этой женщине, но Иштар оказывается сильнее и выносливей своих сексуальных рабов», — отмечает проф. Гурвиц. По его мнению, автор поэмы выражает здесь — быть может, впервые в истории — феминистскую позицию: «Иштар — это высшее воплощение сексуального объекта; она предлагает всем свое тело, но на самом деле никому не подчиняется и никому не принадлежит. Женщина здесь изображена существом высшего ранга, а мужчины — низшими существами, которые служат ей и подчиняются ее воле». Вместе с тем профессор Гурвиц признает, что поскольку мы имеем дело с литературой, всегда существует опасность переноса наших нынешних представлений на древний текст со всеми его очевидными и неизбежными неопределенностями. Что, может быть, и так. >ГЛАВА 4 ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ В АККАДЕ Поскольку мы уже упомянули об аккадском языке, поговорим об Аккаде. Катастрофы, как известно, происходят не только в природе. Вопросительными знаками загадочных катастроф кончаются также страницы человеческой истории, посвященные взлету и упадку многих великих империй прошлого. И эта история — как раз об одной такой загадке, связанной с древним Аккадским царством великого Саргана, и о новейшей гипотезе, предлагающей ее объяснение. Одна из самых популярных книг об истории Древнего Ближнего Востока называется решительно и кратко — «История начинается в Шумере». В пику этому — и со значительно большим правом — наш рассказ можно назвать «История начинается в Аккаде», ибо если Шумер и был самой процветающей частью древней Месопотамии, то все же первыми объединили все города Двуречья, включая шумерские Ур, Лагаш, Урук и другие, именно цари Аккада. Давайте, однако, для начала поставим, как говорится, текст в контекст. Набросаем общие историко-географические контуры происходящего. Итак, место действия — Месопотамия, или Двуречье (долина Тигра и Евфрата); время действия — 3-е тысячелетие до новой эры. Еще должны пройти добрые полтысячи лет, прежде чем древние евреи переселятся в Египет, и почти тысячелетие до того, как они совершат Исход оттуда. Но уже и в. середине 3-го тысячелетия в Египте существует могущественное государство, именуемое сегодня Древним царством; в нынешней Палестине и Сирии там и сям возникают торговые города и земледельческие поселения; на Крите и Эгейских островах развивается культура раннего бронзового века. Свой островок цивилизации существует и в Двуречье. Южная часть страны, или Шумер, с ее Уром, Уруком, Лагашем и другими городами пересечена ирригационными каналами — благодаря им речные воды оплодотворяг ют пахотные земли, на которых дважды в год ячмень приносит 50-кратные урожаи; северная часть, Аккад, славится бескрайними пшеничными полями, среди которых высятся города-государства Вавилон, Киш, Сиппар, Кута, Акшак. В сущности, все это — территория нынешнего Ирака, пограничная с нынешним Ираном, и вот здесь-то и начинается в те времена трехтысячелетняя история великих империй Древнего Ближнего Востока. Перечислим их в порядке появления и смены друг друга: Аккадское царство; Вавилонское царство; Ассирийское царство; Нововавилонское царство; Персидская империя; империя Александра Македонского. На этом фоне со 2-го тысячелетия до н. э. развивается и более знакомая нам история древних евреев. А началось все, как уже было сказано, в Аккаде. В 2360 году до н. э. царь аккадских земель Сарган (позднее прозванный Великим) завоевал не только все города шумеров, но и раздвинул границы созданного этими завоеваниями государства на восток далеко за Персидский залив, в земли Элама; на запад — до берегов Средиземного моря (так что в пределах этих границ оказались Сирия, Ливан и Палестина); на юг — до нынешнего Омана; и на север — до равнин. Анатолии, что в сердце нынешней Турции. Поистине грандиозная получилась империя, территориально, вероятно, самая большая в мире по тем временам. Историкам известно (из надписей и раскопок), что при сыновьях и внуках Саргана (сам он умер в 2305 году до н. э.) созданное им государство процветало и укреплялось. Вдоль северных границ, откуда то и дело пытались прорваться воинственные племена горцев, были воздвигнуты многочисленные могучие крепости; на юге расширялась и совершенствовалась система оросительных каналов; повсюду строились ступенчатые храмы-зиккураты и величественные дворцы для придворной аристократии и бюрократической элиты. Так продолжалось ещё около ста лет после смерти Саргона, а затем произошло что-то непонятное: почти внезапно и одновременно все эти цветущие города, могучие крепости и плодородные поля были заброшены и отданы во власть свирепым песчаным ветрам; люди, населявшие северную часть Аккада, покинули свои жилища и бежали на юг, словно гонимые каким-то непонятным страхом; великое царство в одночасье развалилось и стало добычей варваров, спустившихся с гор. Крушение Аккадского царства было таким основательным, что больше оно уже не возродилось, а первые робкие признаки возрождения Двуречья появились лишь спустя 300 лет, в 1900 году до н. э.! И понадобилось еще целое столетие, прежде чем земли Двуречья снова объединил (на сей раз уже в виде Вавилонского царства) великий завоеватель и законодатель Хаммурапи. Вот это и есть та загадка, которой посвящен наш рассказ. Что вызвало бегство горожан и крестьян Аккада на юг? Что вообще вызвало этот неожиданный, ничем вроде бы не предвещавшийся крах Аккадского царства? И почему все это произошло не просто «очень быстро», а буквально «в одночасье», в течение нескольких считанных лет (сегодня это событие датируется вполне точно — оно произошло около 2200 года до н. э.)? Первая мысль — вторжение каких-нибудь пришлых завоевателей. Но нет, исторические памятники и данные раскопок не подтверждают такой гипотезы. Вторжение с гор действительно произошло, только не до, а после развала империи; иными словами, оно было не причиной этого развала, а его следствием. Мысль вторая — какой-нибудь гигантский природный катаклизм вроде того, который, как сегодня все более уверенно считается, 65 миллионов лет назад уничтожил динозавров. Но нет, не сохранились в истории следы такого катаклизма, а должны были бы обязательно сохраниться, если бы он был столь грандиозных масштабов — ведь Аккадское царство охватывало практически весь Ближний Восток. Надо заметить, что большинство историков — «древнеближневосточников» долгие десятилетия весьма единодушно игнорировали все эти вопросы. Более того — они вообще не видели здесь загадки. По их мнению, развитие Аккада следовало обычному закону развития всех древних империй: они оказывались не способны интегрировать завоеванные ими отдельные города-государства в рамки единого государственного целого; в результате в их основах рано, или поздно обнаруживалась «имперская слабость» и они становились легкой добычей очередных, вторгавшихся извне варваров. В случае Аккада эта схема была сформулирована авторитетнейшим ассириологом Норманом Иоффе из Мичиганского университета, который даже не потрудился хоть как-то ее конкретизировать, заявив без всякого стремления к оригинальности: «Неспособность включить традиционную знать городов-государств в процесс расширения империи усилила центробежные тенденции и тем самым сделала фланги империи чересчур уязвимыми». Понятно, что подобные теории могли держаться лишь до тех пор, пока датировка Аккадской катастрофы была расплывчатой и туманной. Но постепенно в археологии Ближнего Востока стали накапливаться данные, свидетельствовавшие о том, что эта катастрофа была исторически «внезапной» и явно связанной с какими-то природными причинами… На такие причины издавна указывала народная традиция — например, знаменитая древняя поэма «Аккадское проклятие», приписывавшая падение Аккада гневу бога Энлиля, храм которого якобы разрушил последний из аккадских царей, в наказание за что, Энлиль-де наслал на Аккад засуху, голод и вторжение варваров. Разумеется, поэма, да еще древняя, не очень серьезное свидетельство, согласимся. Однако в конце 40-х — начале 50-х годов с аналогичными «стихийно-природными» объяснениями Аккадской катастрофы выступили некоторые серьезные ученые. Например, французский археолог Шеффер высказал предположение, что эта катастрофа была вызвана повсеместными землетрясениями, а британский археолог Мелларт выдвинул гипотезу, что ее основной причиной были затяжные засухи. Однако в те времена большинство специалистов сочли эти объяснения чересчур «фантастическими». Ученые, подобные Иоффе, продолжали считать причиной катастрофы постепенное накопление неблагоприятных социально-политических факторов; другие, как израильский археолог Арлена Розен из университета имени Бен-Гуриона, признавая возможную «частичную роль» экологических причин, тем не менее, основную вину возлагали на «негибкость древних властителей», не сумевших-де «приспособиться к изменившимся условиям»; наконец, третьи, как американский археолог Бутцер, соглашаясь признать за экологическими причинами «весьма значительную» роль, все же объявляли их чем-то вроде последней соломинки, сломавшей спину уже до того перегруженного «имперского верблюда». А меж тем ни одна из этих групп ученых не могла объяснить тот важнейший, к тому времени неоспоримо установленный факт, что в 2200 году до н. э. «что-то» произошло не только в Аккаде, но одновременно чуть ли не на всей территории тогдашнего средиземноморского мира. И раскопки с применением более точных методов датировки, и углубленное изучение новонайденных памятников действительно показали, что практически одновременно с крахом Аккадского царства в Месопотамии произошло и падение Древнего царства в Египте, и массовое и повсеместное обезлюдение городов и поселений Сирии и Палестины, и почти внезапное крушение раннебронзовой крито-эгейской культуры. Тут уже «центростремительными процессами» и «уязвимостью имперских флангов» ничего не объяснишь. Налицо была серия несомненных и весьма масштабных исторических катастроф, практическая одновременность которых требовала каких-то иных, столь же крупномасштабных объяснений. Может быть, историки и археологи по-прежнему продолжали бы держаться за свои излюбленные социально-политические концепции постепенно нараставшего «имперского кризиса», но к этому времени в науке произошло еще одно существенное изменение: стал ощутимо меняться характер представлений о ходе исторических процессов в целом. Прежние представления о постепенном, медленном, «градуальном» характере биологической и исторической эволюции стали все более уступать место новым теориям, подчеркивавшим чрезвычайно важную, порой, возможно, решающую роль «точечных», «одномоментных» событий катастрофического характера. Короче, в науку стал возвращаться «катастрофизм», сформулированный в Начале XIX века Жоржем Кювье, а после Дарвина изгнанный из научного обихода. Важнейшей вехой этого поворота стала выдвинутая в 1980 году отцом и сыном Альварецами гипотеза о столкновении Земли с астероидом (или крупным метеоритом) как главной причине внезапной, массовой и практически одновременной гибели динозавров. Поначалу высмеянная чуть ли не всеми специалистами, эта гипотеза спустя десять лет была блестяще подтверждена обнаружением вполне реальных следов такого столкновения, сохранившихся во многих местах планеты (в частности, следов иридия метеоритного происхождения), а затем и остатков соответствующего кратера на дне Мексиканского залива. Успех Альварецов вдохновил тех молодых историков и археологов, которым давно не давала покоя загадка Аккадской катастрофы и которых не удовлетворяли ее традиционные объяснения, и в 1993 году группа этих ученых (американец Харви Вейсс, француженка Мари-Агнес Курти и другие) выступила в журнале «Сайенс» с оригинальной гипотезой, основанной на совокупности множества новых фактических данных и предлагавшей новое решение давней исторической проблемы Аккада. Те фактические данные, которые легли в основу этой нашумевшей (и открывшей длящийся по сей день яростный спор историков), статьи, были собраны ее авторами в течение почти 15 лет раскопок на холме Тель-Лейлан в Северной Сирии. Здесь, под многовековыми песками, были обнаружены остатки древнего города, который в свое время был одним из торговых и политических центров Аккадского царства. Результаты раскопок Тель-Лейлана во многом перевернули прежние представления специалистов о развитии цивилизации Двуречья. Раньше считалось, что хотя объединителями здешних земель были цари Аккада, но подлинную культуру — земледелия, строительства и т. д. — привнесли; в Аккадское царство жители юга — шумеры (отсюда. и упомянутое в начале этого рассказа название — «История начинается в Шумере»). Теперь выяснилось, что в действительности развитие севера и юга Месопотамии происходило практически одновременно и параллельно. Тель-Лейлан начал стремительно расширяться и застраиваться уже в 2600 году до н. э., задолго до объединения страны под властью Саргона Великого и появления на севере шумеров. К 2400 году до н. э. город увеличился в шесть раз, заняв общую площадь в 20 гектаров. Его жилые кварталы были тщательно распланированы, прямые улицы — пересечены дренажными каналами, в центре высился величественный акрополь. При Саргоне, его детях и внуках этот рост продолжался за счет переселения в Тель-Лейлан жителей окрестных городов. Судя по найденным документам, такие переселения одновременно происходили и в других местах царства; переселенцы направлялись затем на государственные работы по освоению новых земель и прокладку торговых дорог, что способствовало дальнейшему росту процветания страны. Иными словами, вплоть до 2200 года до н. э. ни раскопки, ни документы не содержат и намека на какой бы то ни было «подспудный кризис империи», который якобы стал причиной ее последующего краха. Второе обстоятельство, неопровержимо установленное раскопками в Тель-Лейлане, — несомненная историческая «внезапность» этого краха. Вот только что (в 2250 году до н. э.) были воздвигнуты новые, мощные крепостные стены и переселены в город окрестные жители, а спустя каких-нибудь 40–50 лет Тель-Лейлан уже покинут и занесен песком! Исследователи обнаружили, что песчаные слои, покрывающие рухнувшие городские строения, не содержат ни малейших признаков человеческой деятельности на протяжении всех последующих 300 лет — только около 1900 года до н. э. в этих слоях вновь появляются следы пепла, бытового мусора, а затем и развалины новой имперской крепости. Любопытно также, что первыми на руины аккадского Тель-Лейлана легли слои песка, смешанного с вулканической пылью. Откуда она взялась в этих местах, где уже сотни тысяч лет не было никаких вулканов, непонятно, но еще интереснее, что та же картина была обнаружена и во многих других местах, где молодые исследователи подняли древние песчаные слои. Развалины Тель-Тайя, Хагар-Базара, Тель эль-Хавы и других древних аккадских крепостей тоже оказались засыпаны смесью песка и вулканической пыли, а затем — безжизненными слоями чистого песка толщиной около 20 см. Применяя методы радиоактивной датировки, исследователи установили, что начальный слой песка во всех этих местах относится к 2200-у, а последний — к 1900 году до н. э. Иными словами, все данные свидетельствовали о том, что равнины Северной Месопотамии были покинуты их жителями на целых 300 лет, начиная с 2200 года до н. э. Те же методы датировки, примененные другими археологами к развалинам других великих культур Средиземноморья (в Египте, на Крите и т. д.), показали, что и там крах первых цивилизаций произошел в то же самое время. Более того, обнаружены следы «разрыва исторической непрерывности», а проще говоря — некой загадочной исторической катастрофы, причем в столь отдаленных от Средиземноморья местах, как долина Инда и равнины Кении. И опять в то же самое время — около 2200 года до н. э. Добавим к этому, что результаты недавнего (1996 год) исследования отложений на дне Оманского залива обнаружили и там следы того же катаклизма: слой этих отложений, относящийся к 2300–2200 годам до н. э., оказался впятеро более богат осадками, чем все предыдущие и последующие, и к тому же насыщен все той же вездесущей вулканической пылью. Таким образом, картина катаклизма 2200 года до н. э., первые штрихи которой были прочерчены загадочной «Аккадской катастрофой», постепенно расширилась, охватив почти все известные тогда очаги человеческой цивилизации. Аккадская катастрофа оказалась не только вполне реальным историческим событием, но и одним из многих аналогичных катастрофических событий того же времени. Толчок, полученный исторической мыслью в результате новых исследований молодых западных археологов в покинутых городах Аккада, постепенно привел к становлению совершенно неожиданной концепции крупномасштабного катаклизма, одновременно затронувшего весьма отдаленные друг от друга регионы земного шара. И в этом смысле можно лишь повторить, что вся эта история, действительно, началась в Аккаде. Но что же все-таки было причиной данного катаклизма? Несомненно, главную, так сказать, непосредственную роль в нем сыграло наступление длительного периода устойчивых песчаных бурь и засух, растянувшихся на долгие десятилетия и сделавших невозможной жизнь в городах Северной Месопотамии. Бегство тамошних жителей на юг было, видимо, прямым следствием этих экологических бедствий. Можно думать, что какие-то аналогичные причины привели к произошедшим в те же времена изменениям в течениях Нила и Инда. Все это, вместе взятое, ознаменовало наступление длительного, почти трехвекового периода засух и холодов на огромном пространстве Азии, Северной Африки и Южной Европы. Но исходной причиной катаклизма были, надо думать, еще более масштабные события. Некоторые указания на их возможный характер дают последние результаты, полученные при исследовании отложений на дне Атлантического океана между Гренландией и Исландией. В этих отложениях обнаружены слои того же времени, особенности которых свидетельствуют о резком изменении климата всего северного полушария. Некоторые климатологи высказывают на этом основании гипотезу о связи этого похолодания с неким длительным и устойчивым «эффектом Эль-Ниньо». Ведь и в наше время этот эффект, вызываемый изменениями океанских течений, оказывает существенное влияние на погоду в общепланетарном масштабе. Однако окончательного ответа на вопрос о причинах катаклизма 2200 года до н. э. пока еще нет, и, как выразился один из исследователей, тот, кто этот убедительный и однозначный ответ найдет, может наверняка рассчитывать на Нобелевскую премию. Так что загадка «Аккадской катастрофы» все еще ждет своего решения. >ГЛАВА 5 ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПОТОПУ Перефразируя начало предыдущей истории, можно сказать: катастрофы происходят не только в человеческой истории, куда чаще они происходят в природе. О многих мы знаем, другие остаются предположительными. Об одной из таких «предположительных катастроф» шла речь на конференции Археологического института Соединенных Штатов, состоявшейся в городе Сан-Диего. Главным событием конференции была встреча американских археологов и историков с геологами Вильямом Райаном и Уолтером Питманом — авторами нашумевшей книги «Ноев потоп, или новые научные открытия, связанные с событием, которое изменило мир». Чем же прославились эти геологи, что с ними захотели встретиться специалисты совсем другой профессии, казалось бы, от геологии весьма далекой? Десять лет назад, в 1996 году, Райан и Питман, специалисты по геологии морей, выдвинули дерзкую гипотезу, согласно которой Ноев потоп действительно происходил — только не на всей Земле, а лишь в определенной ее части, в Черном море. Опираясь на результаты своих многолетних исследований подводной периферии этого моря и древних осадков вдоль нее, Райан и Питман пришли к выводу, что примерно 7600 лет тому назад (то есть около 5600 года до н. э.) Черное море весьма быстро и резко изменило свою акваторию. Найденные авторами факты указывали, что площадь моря за какие-нибудь считанные месяцы (максимум — за два года) увеличилась почти на 30 процентов, залив при этом свыше 150 тысяч квадратных километров прибрежных земель. По мнению Райана и Питмана, это произошло в результате внезапного прорыва скалистого перешейка, который до того отделял Черное море от Средиземного. В образовавшийся пролив (ныне мы его называем Босфорским) хлынули средиземноморские воды. Обрушиваясь в более низко лежавший черноморский бассейн, они создали гигантский водопад, по мощности превышавший двадцать Ниагарских водопадов, который в короткое время изменил не только облик самого Черного моря, но и всю культурную географию региона. Спасаясь от быстро наступавшей воды, прибрежные жители вынуждены были покинуть давно освоенные и обжитые берега и в панике рассеяться кто куда. Райан и Питман высказали убеждение, что именно это «великое бегство народов» привело к тому, что-навыки сельского хозяйства, впервые выработанные людьми как раз у берегов благодатного Черного моря, были перенесены, с одной стороны, в Центральную и Западную Европу, а с другой — на Ближний Восток и в Месопотамию. Такое огромное бедствие, такой гигантский природный катаклизм не мог не запечатлеться в памяти перенесших его людей, и вот сказание о потопе, содержащееся как в библейском рассказе о Ноевом ковчеге, так и в предшествовавшем ему месопотамском мифе о Гильгамеше (там роль Ноя играет бессмертный Утнапиштим) как раз и является, по словам авторов, отражением и косвенным свидетельством реальности «черноморского потопа». Впечатляющая гипотеза Райана и Питмана не могла не вызвать споров и дискуссий, и таковые не замедлили последовать. Геологи, ознакомившиеся с доводами коллег, нашли их достаточно убедительными. С гипотезой согласились и некоторые археологи и историки. Так, Альберт Аммерман из университета Колгэйт заметил, что первое появление оседлых поселений и признаков сельского хозяйства в современной Венгрии датируется временем, на 200 лет более поздним по сравнению с предполагаемым «потопом», что вполне согласуется с гипотезой об «исходе» носителей оседлости и агрикультуры с берегов Черного моря. Сами авторы гипотезы, продолжая свои изыскания, обнаружили в донном иле у берегов Черного моря раковины, принадлежащие мелким морским животным, характерным именно для Средиземного моря, причем, судя по радиоактивной датировке, животные эти погибли как раз 7600 лет тому назад. Еще более интересное и отчасти загадочное открытие Райан и Питман сделали вблизи пролива Босфор, в Мраморном море. Они нашли здесь на морском дне странное подводное образование, имеющее характер длинной (почти полукилометровой) дамбы, постепенно поднимающейся на высоту пятиэтажного дома. Если дальнейшее изучение покажет, что дамба имеет искусственный характер, это может быть еще одним свидетельством того, что в древние времена на месте Мраморного моря была обжитая суша, разделявшая Черное и Средиземное моря. Но самые любопытные доказательства в пользу справедливости гипотезы «черноморского потопа» нашел пенсильванский археолог Фредрик Хиберт, в течение нескольких лет изучавший подводное побережье Черного моря вблизи турецкого города Сйноп. В ходе своих исследований он применял подводные эхолокаторы и другие средства дистанционного фотографирования. Недавно на телеэкранах был показан сенсационный научно-документальный фильм, сделанный Хибертом с помощью этих методов. На снимках отчетливо видны наполовину ушедшие в донный ил остатки обработанных камней, образующих нечто вроде древнего жилища, и другие приметы явно существовавшего здесь в древности и позже затопленного поднявшимся морем оседлого человеческого поселения. Ободренные всеми этими доказательствами справедливости своей гипотезы, Райан и Питман собрали их в книгу под вышеупомянутым заглавием. Именно эта книга и послужила предметом споров, развернувшихся вокруг гипотезы «черноморского потопа» на конференции Национального археологического института в Сан-Диего. Дело в том, что, в отличие от немногочисленных энтузиастов вроде Хиберта, большинство историков и археологов и прежде не соглашалось с далеко идущими выводами Райана и Питмана; теперь же, после выхода в свет их обобщающего труда с «новыми научными доказательствами», это большинство и вовсе восприняло идею в штыки. Надо, однако, заметить справедливости ради, что главные возражения историков и археологов вызывает не столько геологическая сторона аргументации авторов, сколько их культурно-исторические выводы. Выступая на конференции в Сан-Диего, английский историк Стефани Далли из Оксфорда указала, что намеченные Райаном и Питманом параллели между их описанием «потопа» и его описанием в ближневосточных мифах крайне сомнительны. Как в истории Гильгамеша, так и в рассказе о Ное говорится, что потоп был вызван дождём, который шел непрерывно в течение длительного времени, так что покрыл «всю землю»; между тем в случае постепенного, пусть даже быстрого подъема уровня моря суша все время должна была быть видна. Весьма странно также, что память о потопе сохранилась почему-то лишь в ближневосточных мифах: если бы он происходил так, как описано у Райана и Питмана, воспоминания о нем должны были отразиться и в легендах Центральной Европы, куда, если верить авторам, ушла значительная часть «беженцев». Но в европейской мифологии следы «потопа» начисто отсутствуют. Поэтому куда более вероятно, что ближневосточные мифы о потопе были все-таки порождены не «черноморским потопом» Райана — Питмана, а теми катастрофическими наводнениями, которые в древности периодически происходили на месопотамских землях в устье Тигра и Евфрата. А если это так, то следует признать, что культурное влияние «черноморского потопа» (предположим, что он имел место) было куда менее значительным, чем это утверждают авторы гипотезы. И, скорее всего, появление сельского хозяйства в Европе вызвано другими миграциями и более сложными культурными процессами. Мнение осторожного большинства подытожил на конференции в Сан-Диего ее председатель, археолог Эндрю Мур, заявив, что «преувеличенные заявления, связывающие затопление Черного моря и Ноев потоп, не нашли поддержки в исторических и культурных фактах». Но энтузиасты не согласились с. этим приговором. По их мнению, проблема потопа по-прежнему остается актуальной. >ГЛАВА 6 ЕЩЕ ОДНА АТЛАНТИДА Актуальной, судя по всему, остается и загадка знаменитой Атлантиды. С тех пор как более 25 веков назад великий Платон в своем диалоге «Тимей» рассказал о затонувшей стране Атлантиде, поиски местонахождения этой легендарной страны никогда не прекращались. Хотя многие ученые считали рассказ Платона попросту отголоском древних мифов, энтузиасты продолжали (и, как мы сейчас увидим, продолжают) выдвигать различные догадки о том, где могла находиться затонувшая держава атлантов. Атлантиду помещали вблизи острова Куба, у побережья Великобритании, на месте нынешних Азорских островов и т. п. Впрочем, сам Платон указал это место вполне однозначно: «Остров, находившийся впереди Геркулесовых Столбов», если пользоваться терминологией Платона (сегодня они называются Гибралтарскими) т. е. западней нынешнего Гибралтарского пролива, в Атлантическом океане. Но так как одновременно он утверждал, что остров этот был «больше Ливии и Азии, вместе взятых, и с него можно было перейти к другим островам и по ним проделать весь путь к противоположному континенту, а с них перебраться», то речь могла идти лишь об обширном архипелаге или даже целом континенте. Однако никакие глубоководные поиски в восточной части Атлантики не показали там наличия архипелага или затонувшего материка. И хотя Атлантиду так и не находили, она постепенно стала для многих своего рода исчезнувшей утопией — страной высочайшей культуры и цивилизации, которой кое-кто приписывал все культурные и технические достижения древнего человечества. В подтверждение ее существования привлекались различные аргументы — от смутных указаний древних источников до общности определенных скал, растений и животных по обе стороны Атлантического океана. Что касается этой общности, то сегодня после утверждения в науке теории дрейфа континентов уже ясно, что общность геологического и животно-растительного мира двух отдаленных материков может объясняться просто тем, что в давние времена Северная Америка и Евразия составляли единый сухопутный массив. Однако в последнее время в качестве доказательства реальности Атлантиды были выдвинуты новые аргументы. Французский историк Жак Коллина-Жерар обратил внимание на тот факт, что, согласно некоторым археологическим данным, во время последнего ледникового периода, около 19 тысяч лет назад, имела место значительная миграция населения тогдашней Европы в Северную Африку — часть древних людей бежала на юг от наступающих на Европу ледников. Такая заметная миграция, по мнению Коллина-Жерара, могла происходить лишь в том случае, если между Европой и Северной Африкой в те времена существовал сухопутный мост, расположенный либо в Средиземном море, либо в прилегающем к нему районе Атлантики, то есть впереди Геркулесовых Столбов, если пользоваться терминологией Платона. Таким мостом могла быть как раз Платонова Атлантида. Эти соображения побудили ученого заняться новыми поисками, и на сей раз эти поиски как будто увенчались неожиданным успехом — вблизи Гибралтарского пролива Коллина-Жерар обнаружил место, подозрительно напоминающее искомую и доселе ускользавшую от внимания всех других исследователей «Атлантиду». Увы, не совсем такую, как описывал Платон, но все же… Место это — находящийся в самой близкой к Гибралтару части Атлантики грязевой остров Спартель, лежащий на глубине около 100 метров ниже уровня моря. К поискам именно в этой точке профессора Коллина-Жерара привели не только литературные источники, но и строго научные рассуждения. Он использовал геологические данные о наиболее вероятной скорости подъема воды в Атлантическом океане после таяния последних европейских ледников, наступившего 11 тысяч лет тому назад. Правда, оказалось, что эта скорость составляла всего два метра в столетие, так что погружение Атлантиды, если она находилась именно здесь, должно было растянуться на столетия, а не произойти в одночасье, в один день, как описывает Платон. Но зато совпадает другое важное обстоятельство. Платон, живший почти две с половиной тысячи лет назад, в рассказе о гибели Атлантиды указывает, что он говорит о событии, которое произошло за 9 тысяч лет до него. Это означает, что Платонова Атлантида затонула примерно 11 тысяч лет назад. А это как раз то время, когда начали подниматься атлантические воды, отмечает Коллина-Жерар. К профессору Коллина-Жерару с энтузиазмом примкнули известные искатели «Титаника» Джордж Тулок и Поль-Анри Наржело. Они встретились с ним на археологической конференции, где профессор делал доклад о своей гипотезе, и были ею впечатлены. Незадолго до этого их подводная экспедиция к этому затонувшему кораблю, не менее легендарному, чем Атлантида, увенчалась триумфальным успехом — были найдены и подняты со дна многочисленные останки, переданные затем в специальный музей. И теперь, услышав о (вероятном) обнаружении Атлантиды, они сочли ее поиск таким же перспективным и стоящим делом, как поиск «Титаника», и предложили Коллина-Жерару свои услуги и свой двухместный батискаф. «Я слушал его на конференции, — рассказывает Наржело, — и, по-моему, я был его единственным слушателем. Но я тогда же подумал: «Это стоящая штука!» Ребенком я много читал об Атлантиде и, разумеется, был увлечен прочитанным, а то, что рассказывал Жак, открывало совершенно новый взгляд на вещи. Район, который он описывал, выглядел точно так, как его описывал Платон, — прямо за Геркулесовыми Столбами. Как только я это увидел, я подумал: «Это оно, Господи!» Я не мог поверить, что никто до сих пор не пришел к тому же выводу». В настоящее время остров Спартель представляет собой грязевую отмель длиной около 8 км и шириной 3,5 км, лежащую в Атлантике примерно в 100 км к западу от Гибралтара, и, как уже сказано, его максимальная глубина составляет около 100 метров ниже уровня океана. Исследователи намереваются в скором будущем произвести там двухнедельную разведку, главная цель которой — выявление каких-то следов древней жизни на острове. «Мы уже обнаружили место, которое могло быть гаванью острова; — утверждает Наржело, — и если это подтвердится, то там же должен был быть и населенный пункт, а может, и центр тамошней цивилизации». Он признает, что в истинной Атлантиде вряд ли существовали величественные храмы и дворцы — ведь речь идет о культуре раннего каменного века, — но собирается искать с помощью подводной фотосъемки пещеры и другие места, где могли бы жить древние люди 11 тысяч лет назад. «Если мы найдем их, то вернемся на более длительный срок для более подробного исследования». Деньги, необходимые для такой разведывательной экспедиции — порядка 250–500 тысяч долларов, — Наржело намерен собрать из частных пожертвований и научных грантов. Что ж, остается пожелать удачи этим искателям очередной Атлантиды. Их успех может принести много интересных сведений для науки. Если же они не обнаружат свою Атлантиду, нам тоже нечего беспокоиться — обязательно объявится следующая. >ГЛАВА 7 ТАК ВСЕ ЖЕ — КОЛОМБО ИЛИ КОЛОННО? Проплывем над (возможной) грязевой Атлантидой и направимся дальше, по пути Колумба. На этом пути тоже много занимательных загадок, и главная из них, конечно, связана с самим Колумбом. На протяжении столетий, прошедших с его смерти (в 1506 году в испанском городе Вальядолиде), сложилась и утвердилась легенда, будто этот великий мореплаватель и первооткрыватель Америки родился в итальянском городе Генуя, в ту пору — независимой и богатой морской державе, обладавшей многочисленными колониями в Средиземном море и спорившей за гегемонию в этом ареале с Венецианской республикой. Генуя охотно эксплуатировала эту легенду, щедро воздавая хвалу своему великому сыну и поминая его везде, где только возможно — от памятника в морской гавани до названия своего главного аэропорта. Туристам показывали увитый плющом «домик Колумба» в пригороде Порта Сопрана, где якобы прошло Колумбово детство, и рассказывали трогательные истории: о том, как он пристрастился к плаваниям, глядя на корабли, возвращавшиеся из дальних плаваний в генуэзскую гавань; как в возрасте 21 года впервые сам отправился в море; как три года спустя участвовал в морском сражении при мысе Сан-Винцент; как был ранен и спасся вплавь, держась за обломок бревна с утонувшего судна, и как чудесным образом был вынесен на побережье Португалии. Существовала, правда, небольшая деталь, которая слегка нарушала стройность и убедительность этого рассказа: в документах тогдашней Генуи практически отсутствовали какие бы то ни было упоминания о семействе «Коломбо» (как, согласно генуэзской легенде, назывался Колумб в Италии), не говоря уже о самом «Кристофоро Коломбо» (как, по той же легенде, должен был именоваться Колумб). Некоторых исследователей это наводило на малопочтительные (по отношению к легенде) предположения, вплоть до того, будто «Христофор Колумб был на самом деле Христофор Коломб, генуэзский еврей», как писал в эпиграфе к своему известному стихотворению Владимир Маяковский. Отсюда было рукой подать до совершенно уж непочтительных гипотез новейших русских авторов, которые вообще отрицают, будто Колумб куда-то плавал и что-то открыл (А. Бушков: «Россия, которой не было», стр. 36–44). Легко понять, до какой степени эти домыслы и предположения оскорбляли слух и вкус исследователей — уроженцев Иберийского полуострова, ревнивая национальная гордость которых уступает разве что их же титаническому национальному самоуважению. Здесь, в Иберии, давно уже считали, что Колумб всецело принадлежит Испании или, на худой конец, Испании и Португалии, месте взятым, что и составляет упомянутый полуостров. Считали, но доказать не могли. И вот сенсация. Профессор Альфонсо Энсенат де Вильялонга из департамента американских исследований в университете города Вальядолида (того самого, где умер наш герой) выступил в газетах с утверждением, что его многолетние исследования неопровержимо свидетельствуют, что Колумб был фактически испанцем. Историки ошиблись в отождествлении генуэзской семьи, к которой он якобы принадлежал. Он родился не в 1451-м, как всегда считали, а в 1446 году. И его семья эмигрировала из Генуи на Иберийский полуостров вскоре после этого, так что называть его итальянцем просто смешно. Он говорил только по-кастильски и по-португальски, а не по-итальянски, и никогда не возвращался в Италию. А как же корабли в генуэзской гавани, средиземноморские плавания, связи с пиратами, служба при дворе герцога Рене, сражение при мысе Сан-Винцент, ранение, чудесное спасение? А никак, говорит профессор Вильялонга. Всего этого просто не было. А если и было, то относилось к другому человеку — какому-то «Коломбо». А наш — испанский великий мореплаватель — должен по справедливости именоваться «Христофор Колон» — и в этом-то вся загвоздка! Как говорится, «Что в имени тебе моем?» А все в нем! И мы сейчас это увидим. Профессор Вильялонга, который последние 10 лет своей 71-летней жизни затратил на изучение ранней биографии Колумба, утверждает, что все прежние исследователи ошибались в своем предположении, будто Колумб родился Христофором Коломбо и только в Испании превратился в Кристобаля Колона. Коломбо, говорит профессор, не мог превратиться в Колона — для этого он должен был звучать по-итальянски Колонно или даже просто Колон. Не случайно многовековые поиски генуэзских документов, проливающих свет на детство и юность «Христофора Коломба», оказались безрезультатны. Нужно было искать документы о семье «Колонно» или что-то в этом роде. И действительно, стоило профессору заняться такими поисками, как он тут же-обнаружил, что в архивах Генуи, Мадрида и Барселоны сохранилось нетривиальное число документов о богатой генуэзской купеческой семье Колонне, проживавшей в Генуе XV века и имевшей тесные связи с правительством Генуэзской республики. Обнаружился также и документ о том, что некий разорившийся купец Доменико Скотто попросился под покровительство рода Колонне и в благодарность за оказанную ему милость изменил свою фамилию на Доменико Колонне. У этого-то Доменико был, как показывают другие документы, сын Христофоро, 1446 года рождения, вместе с которым Доменико и его жена Мария Спинола эмигрировали в 1451 году в Лиссабон, надеясь поправить свои дела в Португалии. Здесь Кристобаль Колон, как стали называть 5-летнего мальчика, был отправлен для изучения латыни в училище португальского (а не итальянского, как ошибочно считалось до сих пор) города Павия, а затем — в мореходную школу, некогда основанную португальским принцем Генрихом Мореплавателем. Свое образование он завершил кратким пребыванием во францисканском монастыре в религиозном португальском центре Эвора (чем, возможно, и объясняется то, почему на свою первую встречу с королевой Изабеллой и королем Фердинандом он явился в рясе францисканского монаха). Свои изыскания профессор Вильялонга изложил в подготовленной к печати книге «Жизнеописание Христофоро Колонне», которая должна, по его мнению, положить конец всем прежним легендам, развеять вековые предрассудки и вернуть Колонне-Колона в испано-португальское лоно. Что же до того, почему великого мореплавателя так долго называли Колумбом, то профессор Вильялонга объясняет, что в некоторых документах имя «Колон» было ошибочно записано как весьма созвучное «Колом», откуда уже было недалеко и до «Колумба». Можно думать, что следующим шагом испанских историков будет требование именовать первооткрывателя Америки только «Колоном» — и никаких «Колумбов». Не исключено, что некоторые пылкие головы потребуют и государство Колумбию переименовать в «Колонию»… Что же до нас, то мы позволим себе остаться при мнении, что историческая истина, конечно, важна, но не до такой же степени, как историческое деяние. Назовите хоть горшком, только в печку не сажайте. И не преувеличивайте значение родословных. Допустим, не был Христофор Колумб ни Христофором Коломбом, ни генуэзским евреем, ни даже итальянцем Христофоро Коломбо — ну так что? Америку все-таки открыл он, а не мы с вами… >ГЛАВА 8 ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ КИТАЙЦЫ Если вы думаете, что открытие профессора Вильялонга исчерпало все загадки, связанные с Колумбом, то глубоко заблуждаетесь. Как мы предупреждали выше, на колумбовом пути есть много проблем. К примеру, в осведомленных кругах давно уже поговаривают, что Америку вообще открыли задолго до Колумба. Одни грешат на исландских викингов, другие на островитян Тихого океана, этих «мореплавателей солнечного восхода», как красиво назвал их некогда некий писатель, третьи — на неведомых уроженцев Древней Африки. Кто бы это ни был, все они уходили на своих парусных кораблях, катамаранах или выдолбленных из бревна лодках в тысячекилометровые плавания и порой, гонимые ветрами и течениями, оказывались совсем не там, куда плыли. Все эти доколумбовы гипотезы одинаковы тем, что их авторы никаких достоверных доказательств представить не могут, так — одни лишь скудные исторические намеки да блеклые следы. Но чем меньше у них доказательств, тем больше свобода и полет их фантазий и тем более они волнуют и разжигают наше воображение. Да и вообще, разве рассказы о неведомых плаваниях неведомых корабелов в поисках неведомых земель в неведомые времена — не один из самых увлекательных жанров историко-географической беллетристики? У меня самого была когда-то замечательная книга, посвященная всем этим гипотетическим плаваниям, книга, которую я регулярно перечитывал, — она называлась «Неведомые земли», автор Хеннинг, четыре объемистых тома в сине-красном твердом переплете, — но я однажды, дурак, этаким широким жестом подарил все эти тома случайному гостю-коллекционеру с радиостанции «Свобода». Он так долго и нудно у меня их выпрашивал за деньги, что я не смог устоять от соблазна шикануть, о чем теперь мучительно жалею. Тем более что гость этот впоследствии оказался советским шпионом на «Свободе» — в прямом и переносном смысле. Недавно в этом замечательном жанре «историй мореплаваний» появилась очередная гипотеза. Автор ее — британский моряк, бывший командир подводной лодки, а также эксперт по навигации Гэйвен Мензис. Свои изыскания он проводил много лет и вот некоторое время назад доложил наконец о результатах этих исследований на очередном заседании Королевского географического общества Великобритании. Сам факт, что его заслушали в столь уважаемом и авторитетном кругу, включавшем ученых-географов и историков, специалистов по картографии, морских офицеров и дипломатов, свидетельствует, что к гипотезе Мензиса и нам стоит отнестись, по крайней мере, с благожелательным вниманием. Чем мы хуже дипломатов? Тем более что гипотеза и впрямь весьма любопытна. Подобно многим другим выступавшим на этом поле до него, Мензис говорит, что все началось со случайного обнаружения им такого факта: уже в 1428 году в распоряжении португальцев имелась карта, на которой (обратите внимание — за 70 лет до Колумба!) были показаны Африка, Австралия, Америка и множество островов — и все это в поразительно точных деталях. Например, на карте явственно виднелись мысы Доброй Надежды (оконечность Африканского материка) и Горна (оконечность Южной Америки), хотя, как известно, португальцы не проплывали там вплоть до конца XV века. По утверждению Мензиса, именно эта карта, попав каким-то образом в Венецию, а из Венеции, в 1428 году, в Португалию, стала предшественницей нескольких аналогичных ей карт, получивших хождение в Европе в конце XV — начале XVI века. На основании 14-летнего изучения вопроса Мензис утверждает, что первые европейские мореплаватели, включая Колумба и Магеллана, имели в своем распоряжении такие карты. По мнению Мензиса — и тут начинается самая интересная и оригинальная часть его гипотезы, — загадочную карту привез в Венецию богатый купец и путешественник, некий Николо де Конти, только что вернувшийся тогда в родной город из Китая. А в Китае, продолжает Мензис, де Конти, видимо, был знаком (не исключено, что в силу личного участия) с географическими открытиями, сделанными во время недавно закончившегося плавания адмирала Чэнг Хе. Дальше следует рассказ. В начале XV века, напоминает Мензис, Китай был крупной морской державой и располагал большим флотом. Командовал этим флотом ближайший доверенный человек императора, его евнух Чэнг Хе. Адмиралу было поручено двинуться во главе могучей эскадры из 100 с лишним судов в плавание на запад! чтобы проложить новые торговые (а возможно, и завоевательные) пути по Индийскому океану, омывающему земли Южного Китая. Корабли Чэнг Хе достигли восточных берегов Африки, говорит Мензис, но не вернулись на родину, а поплыли дальше, обогнули мыс Доброй Надежды и двинулись на запад через весь Атлантический океан. Они добрались до Карибских островов, которые Колумб открыл лишь 70 лет спустя, спустились оттуда вдоль берегов Южной Америки, обогнули мыс Горн, поднялись снова на север, вошли в нынешний Калифорнийский залив, оттуда опять спустились на юг и повернули на запад, в результате чего наткнулись на Австралию, открыв ее чуть ли не за 200 лет до европейцев, и лишь оттуда наконец двинулись на родину, обогнув тем самым весь земной шар почти за 100 лет до Магеллана. Это во всех отношениях выдающееся плавание состоялось, по расчетам Мензиса, с марта 1421 по октябрь 1423 года. В доказательство правильности проложенного им гипотетического маршрута экспедиции Чэнг Хе Мензис указывает на упомянутые выше особенности карт (очертания Южной Африки, Австралии и Калифорнийского залива, мысов Доброй Надежды и Горна, правильные определения широты и долготы этих пунктов земного шара), а также на остатки огромных старинных деревянных кораблей, найденные на берегах некоторых островов Карибского моря и в Австралии, й некоторые китайские предметы того времени, обнаруживаемые в весьма удаленных местах Америки и Африки. Он выражает предположение, что китайские навигаторы определяли свое положение в море, а также широту и долготу посещаемых ими мест как с помощью Полярной звезды (когда их путь проходил в Северном полушарии), так и руководствуясь звездой южного ночного неба — Канопусом. К этому выводу он пришел, реконструировав на своем домащнем компьютере возможную систему небесной навигации, которую могли применять китайские мореплаватели начала XV века. Судя по отчетам газет, сенсационное сообщение Мензиса (подкрепленное семнадцатью страницами документальных доказательств и обещанием привести все остальные доказательства в готовящейся к публикации книге) было встречено со смешанными чувствами. Историческая его часть не нашла оппонентов, географическая и собственно «корабельная» стороны тоже были признаны вполне правдоподобными. Больше всего сомнений вызвали его рассуждения о «секретных» китайских картах, якобы имевшихся у Колумба и Магеллана, а также сообщения о найденных им остатках девяти китайских судов на карибских берегах. Тамошние берега так хорошо обследованы, заявили некоторые оппоненты, что такие остатки были бы наверняка замечены много раньше. Но более всего против гипотезы Мензиса говорил тот факт, что ни одна современная история картографии не упоминает о том, будто Чэнг Хе посещал какие-либо иные земли, кроме берегов Восточной Африки. Стоит, однако, сказать, что, невзирая на эти скептические замечания, издатели, присутствовавшие на заседании, сразу же по окончании прений заторопились в зал, где был назначен аукцион на покупку прав для издания книги Мензиса. Их можно понять — мы ведь тоже живем сейчас в век великих географических открытий, не менее великих, чем во времена Колумба и Магеллана: то кто-то откроет местоположение Рая, то другой, прямо с самолета — остатки Ноева ковчега, то третий — гору Синай в Аравийской пустыне — и жадное до сенсаций человечество хочет обо всем этом узнать — и поскорее, чтобы потолковать на очередной «тусовке». И правильно. Ведь этого даже у Хеннинга не узнаешь… >ГЛАВА 9 ЗАГАДКИ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ Не только Королевское географическое общество интересуется всякими загадками прошлого (см. предыдущий рассказ) — Королевское астрономическое общество, оказывается, тоже их не чурается. Иллюстрацией этого является нижеследующая история, связанная не просто с какой-нибудь обычной загадкой прошлого, а с тайной самой Вифлеемской звезды. Евангелии, рассказывающие о жизни Иисуса Христа, утверждают, что его рождение сопровождалось появлением над Вифлеемом (тогдашним и нынешним Бейт-Лехемом) чудесной звезды. Вот как описывает это событие апостол Матфей: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться Ему… Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и, когда найдете, известите меня… Они, выслушав царя, пошли: и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец». Люди, убежденные в правдивости каждого слова Боговдохновенных книг, вроде Евангелий, разумеется, не нуждаются ни в каких объяснениях этого необычного феномена, поскольку знают, что в мире нет ничего необычного или «чудесного», ибо все в нем — одни только деяния Всевышнего — и ничего больше. Люди, совершенно не верящие во Всевышнего, не верят также в Боговдохновенность каких бы то ни было книг, и поэтому для них загадка Вифлеемской звезды — тоже не загадка, а просто «очередная выдумка мракобесов». Трудность возникает для тех, кто посредине и хотел бы согласовать каждое слово этих книг с представлениями современной науки, или, иначе говоря, дать этим словам некое «научное объяснение». Самую внушительную попытку такого рода предпринял не так давно сэр Патрик Мур, бывший британский королевский астроном, опубликовавший в сентябре 2001 года книгу «Вифлеемская звезда». В ней он последовательно проанализировал все возможные небесные явления, которые могли бы лежать в основании «мифа о Вифлеемской звезде»: вспышка сверхновой, совмещение нескольких планет, прохождение кометы и т. п. — и пришел к оригинальному заключению, что наиболее удачно удовлетворяет всем описанным в Евангелии обстоятельствам явление «падающих звезд», то есть потока метеоров, представляющихся земному наблюдателю вылетающими из одной точки неба, из одного созвездия. Еще до выхода в свет книги сэра Мура та же проблема была рассмотрена в двух других сочинениях. Британский астрофизик Марк Киджер опубликовал книгу «С точки зрения астронома» (1999), в которой предлагал свое объяснение Вифлеемской звезды как редкого сочетания двух явлений — вспышки сверхновой звезды и необычного совмещения планет. Киджер нашел такой момент в древней истории, когда два этих события произошли почти в одно и то же время. В 5-м году до н. э. на небосводе появилась вспыхнувшая новая звезда, а в 6-м и 7-м годах происходили неординарные совмещения нескольких планет. По убеждению Киджера, появление новой звезды сразу вслед за этими необычными совмещениями планет вполне могло показаться древним людям явным предзнаменованием чего-то незаурядного. Тем, кого насторожит кажущееся несовпадение дат, напомним, что, согласно современным представлениям, Христос родился не в нулевом году той эры, которую христиане называют его именем и отсчитывают со дня его рождения. В результате нескольких ошибок в календарных расчетах средневековых христианских богословов нулевой момент нынешнего календаря несколько сместился. Действительная дата рождения Христа приходится на 4-й или даже на 5-й год «до рождества Христова», так что в этом отношении гипотеза Киджера вполне совпадает с историей. Труднее представить себе, чтобы древние волхвы не бросились в Вифлеем уже по первому зову — совмещению планет — и ждали бы целый год, а то и два до появления новой звезды на небосводе. И вот не так давно в «Ежеквартальнике Королевского астрономического общества» (вот оно, это общество!) — в 36-м его томе, на 109-й странице — появляется вдруг статья американского астронома Майкла Мольнара, в которой утверждается, что хотя гипотеза Киджера абсолютно неверна, поскольку никакая новая звезда в то время на небосводе не появлялась, но Вифлеемская звезда все-таки существовала, причем именно в нужное время и в нужном месте. Только она была не совсем звезда, не совсем тогда, а главное — не совсем видима. Точнее — совсем невидима. Тем не менее нечто незаурядное — по крайней мере, с точки зрения тогдашних астрологов (они же — тогдашние астрономы), — несомненно, происходило. И вот это «невидимое» вполне могло породить рассказ о пресловутой «звезде». В таком описании гипотеза Мольнара выглядит, как попытка одной загадкой объяснить другую. На самом деле, однако, никакой новой загадки тут нет. Мольнар попросту произвел расчет движения видимых небесных тел с 10-го по 1-й годы до новой эры и показал, что во второй половине этого промежутка, а именно в марте — апреле 6 года, произошли два астрономических события, которые не могли не взволновать тогдашних астрологов, в просторечии — «волхвов» (то есть мудрецов). Этими событиями были два подряд затмения Юпитера Луной, причем оба раза в одном и том же месте — в юго-западной части неба, в созвездии Овна. Чтобы понять, почему это могло взволновать астрологов-волхвов, нужно иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, астрология, зародившаяся в Древней Вавилонии и распространившаяся оттуда по всей эллинистической, а позднее — Римской империи, была к тому времени весьма развитой областью знания, и тогдашние астрологи умели рассчитывать движения планет с точностью, которая поражает современных астрономов. Во-вторых, их расчеты всегда имели прикладное значение: они лежали в основе предсказаний, к которым и рядовые люди, и венценосные особы вроде римских императоров относились с глубоким уважением и полным доверием. Поскольку планеты, звезды и созвездия связывались с судьбами отдельных людей и даже целых стран, любые незаурядные астрономические события вроде затмений тотчас объявлялись предзнаменованиями или отражениями незаурядных, житейских и политических событий. Подтверждение последнего тезиса приносят не только сочинения древних авторов, но такие неожиданные, казалось бы, источники, как монеты. Римляне традиционно чеканили на монетах некие символы, отражающие те или иные важные события, и эти символы, как правило, были астрологическими. Например, во времена императора Нерона была выпущена монета с изображением барана (знак созвездия Овна), оглядывающегося на полумесяц и звезду. Это должно было напоминать о затмении Луной Венеры, произошедшем 25 апреля 51 года. Римский историк Светоний сохранил для нас предсказание тогдашних астрологов, которые связали это затмение с судьбой Нерона: они предсказали, что он будет свергнут в Риме, но воцарится вновь в Иерусалиме, потому что созвездие Овна считалось тогда астрологическим символом Иудеи (об этом говорится в сочинении александрийского астролога Клавдия Птолемея «Тетрабиблос» («Четверокнижие»): «Если что-нибудь важное должно произойти в Иудее, то знак этому должен появиться в созвездии Овна»). Мольнар, давний любитель древних монет, хорошо знал всю эту символику, и когда, рассматривая монеты 7 года новой эры, найденные в Антиохии (столице римской провинции Сирия), увидел на каждой из них изображение бога Юпитера, а на оборотной стороне — изображение овна, взирающего на звезду, то сразу же понял, что эти монеты должны были быть отчеканены в честь какого-то астрономического и политического события, связанного с Иудеей. Поскольку Юпитер считался у римлян символом императорской власти, событие, видимо, было связано с каким-то очередным достижением императорской политики. Перелистав исторические труды, он нашел, что в 6 году новой эры римляне сместили Иродова сына и наследника Архелая и присоединили Иудею к провинции Сирия. Монеты же, найденные в сирийской столице, датировались следующим годом, и, исследуя движение планет за этот год, Мольнар обнаружил, что в 7 году новой эры Юпитер сначала виднелся вблизи Меркурия, а затем почти рядом с Луной. Видимо, эти сближения и были сочтены небесными знамениями, свидетельствующими о том, что боги одобряют действия римлян в отношении Иудеи. В честь такого совпадения явно стоило отчеканить специальные монеты. Что же касается собственно «Вифлеемской звезды», то догадка о природе этого явления родилась у Мольнара из случайной находки. Он купил старинную римскую монету, относящуюся к 6-му году до н. э., на которой опять увидел изображение барана («овна»), глядящего, обернувшись через плечо, на звезду. Поскольку знак Овна в зодиаке покрывает период с 21 марта по 20 апреля и поскольку вблизи Луны в 6-м году до н. э. находился Юпитер, Мольнар, будучи астрономом, подумал, что стоило посмотреть, что было с Юпитером и Луной в марте — апреле того года. А посмотрев (т. е. рассчитав движение этих светил вспять), обнаружил, что как раз в те дни, 20 марта и повторно 17 апреля 6-го года до н. э. Юпитер претерпел — редкое совпадение! — два лунных затмения подряд — и притом именно тогда, когда был «на востоке», то есть в восточной части неба. Теперь мы уже можем понять ход дальнейших рассуждений американского астронома. Юпитер, как мы уже видели на примере Нерона, был, по представлениям астрологов, связан с судьбами императоров; не случайно римский астролог Фигулус, увидев знак Юпитера в гороскопе будущего императора Августа, предсказал сенату: «Ныне родился вождь мира». В Иудее же издревле существовало другое пророчество, процитированное апостолом Матфеем как раз в приведенном вначале отрывке о Вифлеемской звезде: «Ибо написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля». Всякий грамотный астролог, увидев такое совпадение, должен был немедленно понять, что у евреев родился (или должен вот-вот родиться) кто-то, кто затмит императоров и царей. Астрологов же в древнем мире хватало. И вера в астрологию была распространена невероятно. Как и сегодня, кстати. Но в наши дни эту веру труднее понять. Ведь людям сегодня прекрасно известно, что планет куда больше, чем думали создатели астрологических расчетов (уже после них были открыты Уран, Нептун и Плутон), так что уже хотя бы поэтому такие расчеты выглядят весьма сомнительно. Впрочем, кому хочется верить, тем ничто не помеха. А во времена, о которых идет речь, были — известны пять планет (не считая Земли), которые вместе с Солнцем и Луной образовывали «семь небес» и своим положением относительно «неподвижных» звезд давали астрологам указания на предстоящие события. Порой даже весьма детальные указания, как, например, то, которое приводит великий астроном древности Птолемей: «Если Венера совместится с Марсом и Юпитер будет виден в то же время, а Марс появится в лучах Солнца, то женщины начнут совокупляться со слугами и вообще всяким низкородным сбродом и даже с чужестранцами и бродягами». Так что уж на рождение «иудейского царя» астрологические книги наверняка могли указать. И потому «Волхвы», т. е. тогдашние мудрецы-астрологи, полагает Мольнар, могли истолковать эти незаурядные астрономические события в свойственном им духе. Вычислив предстоящее затмение Юпитера в созвездии Овна, они могли прийти к выводу, что и оно знаменует собой «рождение Вождя», только среди евреев, — того самого «вождя-спасителя», предсказанного еврейскими пророками. Взволнованные столь выдающимся событием, они явились ко двору Ирода, чтобы выяснить, где именно, по еврейскому пророчеству, оно должно произойти. Узнав, что в Вифлееме, они должны были еще больше взволноваться: ведь Вифлеем находится к юго-западу от Иерусалима, то есть как раз в той стороне, где происходили оба юпитерианских затмения. Судя по тому, что второе из этих затмений произошло, согласно Евангелию, как раз в тот момент, когда волхвы от Ирода направились в Вифлеем, их визит в царский дворец имел место именно 17 апреля 6 года до новой эры: говорит же Матфей, что «звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними». На самом деле, утверждает Мольнар, эта «звезда», то есть Юпитер, как раз и не была видна, но волхвы шли так уверенно, будто она их и в самом деле «вела», — ведь они ее «вычислили». А Матфей, не знавший тайн астрологии, конечно, не мог и помыслить, что волхвы шли согласно своим расчетам, и в простоте душевной записал, что их вела чудесная Вифлеемская звезда. Из гипотезы Мольнара вытекает чрезвычайно важное следствие: если Иисус действительно существовал, то родиться он должен был не в 1 году новой эры, названной его именем, а в день затмения Юпитера, то есть 17 апреля 6 года ДО новой эры (дату 20 марта Мольнар отверг, т. к. она чуть-чуть выходила за границы периода созвездия Овна). И этот свой вывод Мольнар подтверждает еще одним дополнительным совпадением: Ирод умер в 4 году до новой эры и незадолго до смерти приказал перебить «всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от ДВУХ лет и ниже, по времени, которое он выведал у волхвов». Почему «от двух лет», а не старше? Потому что «по времени, которое он выведал у волхвов» (то есть по времени вычисленного ими первого затмения Юпитера), Иисусу в 4-м году до новой эры как раз и должно было быть чуть меньше двух лет — но лишь в том случае, если он родился в 6-м году до н. э. Как говорилось выше, историки давно подозревали, что Иисус, если он существовал, родился раньше исчисленной Церковью даты, и вот сейчас Мольнар нашел дополнительное и независимое подтверждение правоты их сомнений. Все это, разумеется, не доказывает реальности существования Иисуса. Ведь, в сущности, Мольнар всего лишь показал, что в 6 году до новой эры произошли два астрономических события, которые МОГЛИ дать составителям Евангелий повод для создания рассказа о Вифлеемской звезде (которую на самом деле никто не видел, потому что попросту не мог увидеть). Но никаких доказательств связи этих астрономических событий с рождением «реального» Христа Мольнар привести не может. Более того, из его же рассуждений следует, что дело скорее всего обстояло с точностью до наоборот: сначала произошли указанные астрономические события а уже затем эти события в общем духе тогдашней астрологической символики и веры в фантастические «пророчества» были привязаны к рассказу о «рождении Спасителя». Так что достоверность этого главного евангелического рассказа по-прежнему остается под сомнением. Но Мольнар и не ставил своей задачей анализ достоверности евангелий. Он попросту хотел предложить вниманию ученых новую гипотезу, объясняющую миф о Вифлеемской звезде. И с этой задачей, следует признать, он справился весьма успешно. На этом, однако, эта занимательная история не закончилась. Гипотеза Мольнара подверглась критике. Сэр Патрик Мур указал, что затмение Луной Юпитера 17 апреля 6-го года до н. э. происходило средь бела дня и не могло быть увидено никем, даже волхвами. А специалисты по истории астрологии усомнились в том, что «волхвы» могли истолковать невидимое затмение как указание на «рождение царя». Мольнар, разумеется, не сдался, стал искать, как бы опровергнуть возражения критиков, и вот недавно объявил, что ему удалось наконец «решающее» подтверждение выдвинутой им гипотезы. По его словам, это подтверждение содержится в книге астролога Матернуса, написанной в 334 году н. э. По словам Мольнара, ему удалось разыскать творение Матернуса «Матесис», в котором черным по белому описано астрологическое явление, включающее затмение Юпитера Луной, и сказано, что это предвещает рождение великого царя. Правда, царь этот не назван по имени, хотя автор — христианин и книга написана спустя три столетия после рождения Иисуса, но, как говорит Мольнар, «в те времена все читатели книги прекрасно понимали, что это замечание относится именно к Иисусу, а указанное астрологическое событие — это знаменитая Вифлеемская звезда». Матернус, по мнению Мольнара, просто не хотел вовлекать христиан в астрологические дебаты, которые только смутили бы их умы и отвлекли от мыслей о самом Иисусе. И вполне возможно, что Мольнар в этом прав. Во всяком случае, одного человека ему уже удалось убедить — Овен (!) Гингрич, историк астрономии из Гарвардского университета, заявил, что гипотеза Мольнара кажется теперь «очень серьезной». Но вот переменил ли свое мнение сэр Патрик Мур, нам пока неизвестно. >ГЛАВА 10 ЕЩЕ ОДНА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ История, которую я намереваюсь рассказать, тоже связана с Евангелиями, но произошла сравнительно давно, в декабре 1993 года, в Иерусалиме. В научных кругах она тогда произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Сегодня, во времена поголовного увлечения «Кодом да Винчи», она звучит особенно актуально, показывая, что Ничего нового Браун не написал, он лишь добросовестно переписал то, что давно было известно, только слегка разбавил это детективной интригой — надо сказать, весьма примитивной. Итак, некий археолог по имени Леон Декур несколько месяцев вел бесплодные раскопки в одном из старинных уголков древней еврейской столицы. В тот декабрьский вечер 1993 года стояла обычная для израильской зимы пасмурная и пронизывающе холодная погода, и Декур отправил рабочих домой пораньше. Сам же он решил еще немного поковыряться в раскопе. Рассеянно разгребая груду земли в углу глубокой ямы, он вдруг заметил, что в пыли блеснуло что-то металлическое. Руки его заработали энергичнее и осмысленнее, бережно расчищая находку, и вот он уже увидел ее целиком. Можно представить себе его восторг: его глазам открылась старинная медная чаша с остатками какого-то темного вещества. В тусклом вечернем свете Декур не мог разобрать, что это за вещество и к какому времени относится чаша. Какое-то время он задумчиво смотрел на нее, и вдруг его пронзила ослепительная догадка. Нет, он не воскликнул, как когда-то Архимед: «Эврика!» Но он воскликнул нечто, не менее знаменитое: «Грааль!» И в этом месте я вынужден остановиться. Даже в наши времена поголовного увлечения романами Брауна далеко не все знают, что такое Грааль, и потому не все могут в полной мере оценить восклицание Декура. Слово «Грааль», или «святой Грааль», произошло от латинского «gradalis», которое, в свою очередь, восходит к древнегреческому «кратер» — сосуд для смешивания вина с водой. Но в старофранцузском сочетание «Святой Грааль» — «Сангреаль» — имеет еще и иной смысл: «истинная кровь». А древнеирландское cryo, из которого тоже выводят слово «Грааль», означает «корзину изобилия». Итак, «Грааль» — это сосуд для вина и одновременно — чаша со святой кровью, да еще и корзина изобилия. Почему у этого слова так много смыслов? А потому, что это непростое слово. Оно связано со старинной христианской легендой, даже с несколькими сразу. Согласно рассказам о жизни и смерти Иисуса Христа, составляющим содержание т. н. Евангелий (по-гречески — «Благая весть»), свой последний вечер перед арестом, судом и казнью Иисус провел в Гефсиманском саду, где вместе с учениками (апостолами) отмечал великий еврейский праздник Песах (христианской Пасхи тогда еще не было, поскольку Иисус был еще жив и до появления христианства было еще далеко). Евангелия утверждают, что, подняв чашу с пасхальным вином и кусочек мацы, Иисус произнес, указывая на вино: «Се кровь моя», а затем, указывая на мацу: «А се плоть моя». Закончив вечерю, он вышел в сад, где его вскоре и схватили римские легионеры. Выданный Пилатом Синедриону, Иисус был признан смутьяном и бунтовщиком и осужден на смертную казнь. В духе римских обычаев он был распят на кресте. Далее легенда утверждает, будто некто Иосиф Аримафейский снял его тело с этого креста и бережно собрал кровь Иисуса в ту самую чашу, из которой Иисус пил вино на своей «тайной вечере». Таким образом, пророчество Иисуса исполнилось: в чаше оказалась Христова кровь. А дальше, если верить легенде, было вот что. С этой святой кровью Иосиф Аримафейский отправился проповедовать христианство европейским варварам. Так чаша оказалась в Европе. Вскоре, повествует легенда, она обнаружила свои чудодейственные свойства. Чудеса сыпались из нее как из рога изобилия: слепые, прикоснувшись к чаше, становились зрячими, увечные — здоровыми, бесплодные женщины — беременными. Вся эта история и чудесные свойства чаши привели к тому, что она получила собственное имя — «Сангреаль», или попросту «Грааль» (говорят еще — чаша святого Грааля). Позже Грааль затерялся или был спрятан — в каком-то из монастырей, и это положило начало длительным поискам чаши, каковыми рыцари занимались все средние века — в свободное от крестовых походов время. История этих поисков легла в основу знаменитых средневековых романов — «Персиваль» Кретьена де Труа и «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, главным героем которых является один из рыцарей «Круглого стола» короля Артура по, имени Парсиваль (франц. Персиваль, нем. Парциваль или Парсифаль); в XIX веке еще один небезызвестный человек, по имени Рихард Вагаер, написал по мотивам этих романов оперы «Лоэнгрин» и «Парсифаль» (о сыне Парсифаля). Теперь, надеюсь, вы уже понимаете, что побудило Леона Декура издать свой восторженный возглас. Еще бы — ведь он нашел древнюю винную чашу именно в том городе, где происходила «тайная вечеря», и вдобавок неподалеку от того самого Гефсиманского сада, где она происходила! А кроме того, ко дну чаши прилипло темное вещество, которое весьма походило на засохшую человеческую кровь. Как было не предположить, что это именно та самая чаша святого Грааля, с которой связано столько легенд и столько веков бесплодных поисков?! А если это действительно так, то громадные последствия столь сенсационного открытия сразу становятся очевидны — ведь в результате в руках историков впервые в истории могло оказаться прямое доказательство реального существования Иисуса Христа! (Вопрос о том, каким образом чаша вернулась из Европы в Иерусалим, Декура почему-то не заинтересовал.) Какой-нибудь другой археолог, возможно, воздержался бы от столь скоропалительного вывода. Он бы поначалу исследовал находку, определил ее возраст и лишь потом вынес суждение. Но дело в том, что Декур давно, напряженно и страстно желал найти следы существования Иисуса. За 15 лет до этого он уже потряс однажды весь научный и околонаучный мир сообщением, будто ему удалось найти пергамент с «оригиналом» знаменитой «Нагорной проповеди» Христа — той самой, что начинается словами «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Декур действительно нашел тогда какую-то древнюю рукопись, свет в тот раз тоже был вечерний и тусклый, рукопись была в плохом состоянии, исследователь был необыкновенно возбужден находкой — ничего удивительного, что ему почудилось, будто он нашел именно то, что искал. Но в тот раз предположение Декура быстро опровергли: пергамент оказался намного моложе Иисусовых времен. И вот теперь, через 15 лет, в руках Декура оказалась загадочная чаша — как было не подумать первым делом о святом Граале? В кругах археологов Декур вообще-то считался хорошим ученым: его послужной список содержал всего лишь один случай излишней поспешности — тот самый, с «Нагорной проповедью». Поэтому его сообщение о небывалой находке было опубликовано в серьезном научном журнале. Разумеется, археологический мир отнесся к этой новой сенсации с должной осторожностью, но зато мир околонаучный был необычайно взволнован публикацией. Слухи о необычайной находке в Иерусалиме передавались из уст в уста. А вскоре последовала еще одна сенсация: анализ вещества, налипшего на дне найденной Декуром чаши, подтвердил, что это действительно остатки человеческой крови, к тому же самой универсальной группы, «ноль плюс», пригодной для переливания всем без исключения людям. Что дало Декуру повод в очередной раз воскликнуть: «А чего иного вы ожидали от крови Иисуса?!» Увы, больше о загадочной чаше мир ничего не услышал. То ли ее придирчивое изучение показало, что она тоже «не того времени», то ли обнаружилось еще что-то неприятное, но разговоры о ней прекратились. Ясно, что Декур опять поторопился со своей сенсационной гипотезой. Верно учит нас знаменитое правило, именуемое «бритвой Оккама», — не следует громоздить гипотезы без надлежащей надобности. Вся сенсация Декура была основана на том, что в какой-то старинной чаше были найдены остатки чьей-то крови. Стоит ли выдвигать для объяснения этой находки столь монументальные гипотезы, если те же факты могут быть объяснены куда более просто и прозаически? Мало ли чья это может быть чаша, мало ли чья кровь… Разумеется, верующие и склонные к мистике люди такими прозаическими объяснениями не удовлетворятся. И действительно — известие о находке «чаши святого Грааля» возбудило эти круги самым неимоверным образом. Некоторые из самых возбужденных — видимо, под впечатлением нашумевшей картины «Юрский парк», где рассказывается о «воскрешении» динозавров по остаткам их хромосом, — тут же предложили применить ту же (на самом деле — еще не существующую) «методику» для воскрешения… Иисуса Христа. Они призвали ученых выделить из остатков крови, найденной в декуровской чаше, «хромосомы Иисуса» и из них «вырастить», а затем «оживить» его тело. К чести самого Леона Декура, надо сказать, что даже на пике славы он категорически отверг всякую возможность, да и желательность искусственного воссоздания основоположника христианства. Тем не менее и он тоже какое-то время (пока сенсация не умерла) уговаривал биологов попытаться выделить из остатков найденной в чаше крови хромосомы ее древнего хозяина. Декура, как он заявил тогда, больше всего интересовало, будут ли эти хромосомы похожи на человеческие. Лично он был убежден, что они окажутся принципиально иными. А какими же? — наверняка удивитесь вы. Ясно, какими, отвечает Декур. Божественными. Иисус ведь, согласно Евангелиям, был «Сыном Божьим»! И родился он, как утверждают Евангелия, от «непорочного зачатия» Девы Марии. Как же должен современный человек понимать легенду о таком зачатии?. — спрашивал Декур. И сам себе отвечал: ее следует понимать как рассказ об искусственном оплодотворении девушки Мириам с помощью «Божественного сперматозоида». «Не может же, в самом деле, разумный человек поверить в россказни древних греков, будто боги совокуплялись с людьми в виде быков или лебедей», — убежденно заявлял Декур. Действительно, не может. Но и в «Божественный сперматозоид», доставленный в Мириамнино лоно в клювике усердного голубка, — тоже не может. На то он и современный человек, худо-бедно разбирающийся в технике искусственного оплодотворения. Почему же Леон Декур — тоже вполне современный человек — так энергично настаивал на проверке древней легенды? Наверно, хотел в модном сегодня духе сочетать науку с верой, — как Леду с лебедем. Но, как видите, не получилось. История, как видите, действительно интересна — уже хотя бы тем, что напомнила нам о знаменитой чаше Грааля. Ведь легенды, связанные с этой чашей, далеко не исчерпываются тем, что я вам по необходимости коротко здесь рассказал. С той же чашей связана, например, и еще одна сенсационная гипотеза: будто она на самом деле представляет собой не что иное, как исчезнувший Ковчег Завета! История Ковчега тоже окружена многочисленными легендами, на сей раз — еврейскими, и вот несколько лет назад английский журналист Грэм Хэнкок опубликовал толстую книгу под названием «Знак и печать», в которой заявил, что Ковчег и Грааль — это одно и то же, и вдобавок — что ему в результате многолетних поисков удалось наконец найти этот знаменитый Ковчег, но уже не в Иерусалиме, а… в Эфиопии. Поэтому я лучше продолжу еще одним очерком на библейскую тему. >ГЛАВА 11 БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ БИБЛЕЙСКИХ СЕНСАЦИЙ Перефразируя известный афоризм, можно сказать, что патриотизм — это не только прибежище негодяев, это еще и прибежище фальсификаторов. Желание подтвердить героический характер своей древней истории обуревает многих патриотов и зачастую толкает их к бессознательной и даже весьма сознательной фальсификации или к жадному потреблению такой фальсификации, сочиненной другими. Спрос, как известно, порождает предложение, и вот уже некто Петухов (фамилия и библиография хранятся в Интернете) сочиняет новую историю государства российского, начиная с появления славного народа россов, каковое состоялось 40 тысяч лет тому назад. Нет, вы не ослышались — 40 тысяч. И вот уже некто Фоменко сотоварищи (см. тот же Интернет) извещает «урби ет орби», что вся древняя, средневековая и новая история человечества, есть не что иное, как история великой империи россов, простиравшейся на всю индоевропейскую ойкумену. И вот уже некто Бушков… впрочем, несть числа этим лжеутешителям патриотических вожделений, этим отечественным баснописцам, этим лукавым и небескорыстным сказителям-исказителям, и многотомные подвиги их на ниве занимательного фальсификаторства еще долго будут развлекать наших детей и недорослей. Нельзя, однако, не признать, что все эти попытки создать узко отечественную присыпку от патриотического зуда, как правило, грубы и топорны. То ли дело — фальсификация библейско-евангельская, ставящая своей целью подтвердить реальное существование царя Соломона или Иисуса Христа! Такие сенсации не ограничиваются пределами отечества, для них воистину несть ни эллина, ни иудея, и захватывающе интересны они не для сотен тысяч или даже миллионов, а для сотен миллионов людей. Да что там «интересны»! С чудной, волнующей силой играют они на струнах глубочайших верований этих сотен миллионов. А за веру люди, как известно, шли и на костер. А посему человек, избравший профессией подделку такого рода древностей, в буквальном смысле играет с огнем. И бывает, что огонь его и лизнет. Как в случае, который побудил нас к написанию сего очерка. Мы имеем в виду суд над Одедом Голаном. Фальсификаторов всегда было достаточно — хотя бы потому, что всегда доставало недалеких патриотов всякого толка, готовых ухватиться за любую желанную подделку. Каждая эпоха знала своих знаменитых фальсификаторов, об их бесславных деяниях написаны увлекательные тома, и вполне может оказаться, что Одед Голан будет когда-нибудь причислен к их списку. Надо думать, израильская полиция, предъявившая ему не так давно свои обвинения, и израильское Управление древностей, давно точившее на Голана клык, именно такого мнения. Обвинительное заключение перечисляет несколько выдающихся подделок, которые Голан выбросил за последние годы на мировой рынок. Все они вызывали международную сенсацию, заставляя сердца вышеупомянутых сотен миллионов людей учащенно забиться в радостном предвкушении, а руки сотен специалистов — тотчас схватиться за перья. Да и как не схватиться? Ведь вот уже много лет историки и археологи сетуют, что у них нет или почти нет никаких документальных или археологических свидетельств существования сильного Иудейского царства с Соломоновым храмом в Иерусалиме, с развитой культурой и письменностью. И вдруг — пожалуйста: Одед Голан предлагает Израильскому музею обломок древней каменной плитки с вырезанной на ней надписью, в которой сообщается о перестройке иудейским царем Иоашем Соломонова храма в 812 году до н. э. И эта надпись разом снимает несколько дамокловых вопросительных знаков, томительно нависших над библейской историей: напрямую подтверждает существование первого храма; косвенно подтверждает историческую верность библейских списков иудейских царей и других спорных деталей библейских рассказов и попутно демонстрирует явное существование в Иудее ивритской письменности и письменных исторических источников уже в то древнее время, а также убеждает историков-специалистов во многом другом, в чем они сомневались, но не знали, у кого спросить. О таких подарках судьбы говорят, что если бы их не было, их надо было бы придумать. Подумать только — одним (несколькими) ударом (ударами) резца по камню решен многовековой спор об исторической достоверности библейского рассказа! Посрамлены скептики. Укреплены в вере патриоты. Обогащена наука. Так и хочется добавить: «Поднято ярости масс — 3». Тем более что поначалу несколько специалистов высказались в том смысле, что находка заслуживает самого серьезного отношения. В смысле — не фальсификация. Как минимум 50 % шансов, что нет. Лишь потом, задним числом, выяснилось, что правильные 50 % относятся к камню — вот он действительно был древний. А надпись, как вся контрабанда в Одессе, была изготовлена если не на Большой Арнаутской, то где-нибудь в таком же месте в сегодняшнем Иерусалиме. Не будем описывать детали этого разоблачения — надо думать, вскоре появятся книги, посвященные этой поистине детективной истории. В них будут и детали второго «подарка судьбы», изготовленного, Голаном. На этот раз его адресатом стали не евреи, а христиане. Хитроумно проведя за нос Управление древностей и высмеяв при этом тупую бюрократическую неповоротливость его правил (то-то оно наточило на него клык), Голан сумел переправить на Запад — причем на специальную выставку — некий древний ларец для хранения костей с очередной сенсационной надписью, извещавшей, что ларец этот был в свое время (а по времени он — первого века н. э.) предназначен для хранения костей «Якова, брата Иисуса». Сами понимаете. Некоторые западные христианские специалисты так ухватились за этот ларец (по-научному он называется оссуарий), что не хотят признать его фальшивость даже теперь, когда она доказана вне всяких сомнений. Оно и понятно: трудно расставаться — мелькнула высокая надежда и исчезла, как Жар-птица. Хотя, если вдуматься, разве вера требует «научных» доказательств? Это не оксюморон? Сказал же Тертуллиан: «Верую, потому что абсурдно». Вот это понятно. Настоящая вера не требует даже чудес. А если требует, то вот вам, пожалуйста, адрес — «Одед Голан и компания, Ltd, изготовление и продажа желанных подтверждений религиозных и исторических преданий». Ltd означает «ограниченная ответственность», но в данном случае это звучит насмешливо. Судя по всему, ответственность Голана не ограниченная, а полная. В конце минувшего года его группе (в которую входит еще пара израильских торговцев древностями и один палестинец) предъявлено в Иерусалимском окружном суде формальное обвинение в том, что эти несколько людей, вступив в преступный сговор, на протяжении двух десятилетий производили и успешно распространяли по всему миру сфальсифицированные артефакты (так называют в археологии материальные предметы, изготовленные в прошлом), заработав на этом миллионы долларов. За эти годы Голан (по его собственным словам) стал самым крупным в мире коллекционером израильско-иорданских древностей, а его коллеги — самыми крупными торговцами этими древностями. Разумеется, сами обвиняемые свою вину отрицают, их друзья, естественно, в нее не верят, наши патриоты, понятно, негодуют, а нам остается сказать, что в эти самые дни выяснилось (совпало!), что и знаменитый гранат из слоновой кости, гордость Израильского музея, крохотная древняя вещица, которая 16 лет. считалась единственным (до появления «надписи Иоаша») бесспорным подтверждением реальности Соломонова храма, — этот гранат тоже, увы, является подделкой. Конечно, это уже другая история, и к Голану она отношения не имеет. Но она имеет прямое отношение к тому, как бесславно рушатся одна за другой библейские сенсации. >ГЛАВА 12 РОНГО-РОНГО И ВСПЯТЬ К ШУМЕРАМ Существует множество фундаментальнейших для жизни вещей, о происхождении которых мы ничего или почти ничего не знаем. К ним относится лук, весло, лодка, таран (о котором некоторые историки думают, что это и был Троянский конь). К ним относится и письменность. Вот сию секунду, подняв руку, я нанес на экран компьютера, с помощью его внутренних механизмов, некие значки. Спустя несколько дней или недель эти значки, преобразованные с помощью типографских механизмов в несколько иные значки будут перенесены на газетный лист. В конце концов эта газета ляжет на ваш стол. Вы раскроете ее и поймете, что я хотел вам сказать. Разве это не чудо? Кто ж его придумал? Если не имя человека, то по крайней мере имя народа, первым придумавшего письменность, можно назвать? Расскажем по этому поводу занятную историю, которая имеет прямое отношение к загадке возникновения письменности. Пару лет назад высокоуважаемый журнал «Nature» впервые за много-много лет вдруг отвел пару-другую страниц обзору двух в высшей степени экзотических научных изданий — «Журнала Полинезийского общества» и «Рапа-Нуи журнала». Причиной столь неожиданного внимания была публикация в этих изданиях двух статей молодого новозеландского лингвиста Стивена Фишера, посвященных одной из самых запутанных загадок знаменитого острова Пасха — загадке так называемого ронго-ронго. Ронго-ронго — это деревянные таблички, на которых нанесены довольно примитивные картинки, изображающие преимущественно птиц, рыболовные крючки, человечков с хвостами и без, деревья, палки и прочее в том же роде. Вообще-то такими рисунками впору заниматься детишкам, но в данном случае перед нами явно недетское усилие. Картинки расположены в определенном линейном порядке, каждая линия образует строку, каждая табличка содержит несколько таких строчек, и каждый символ повторяется в ней множество раз. Так и хочется сказать, что перед нами очевидная попытка выразить, сообщить или передать некую информацию, иными словами — попытка письма. Что-то вроде письма в рисунках. Об острове Пасха написано много. Тур Хейердал (тот, что с «Кон-Тики»), да и не он один, посвятил ему и его знаменитым статуям (еще одна островная загадка) специальную книгу. Этот затерявшийся в Тихом океане остров был открыт европейцами в 1722 году. Однако долгие десятилетия подряд ни один из европейцев, побывавших на острове, ни звуком не обмолвился о существовании там табличек ронго-ронго. И вдруг в 1864 году некий миссионер сообщил, что видел такие таблички, причем не одну-две, а буквально в каждой хижине. Вскоре это стало подтверждаться другими сообщениями, и кое-кто из наблюдателей утверждал даже, что эти деревянные таблички хранятся в особых хижинах как нечто сакральное и охраняются запретами — табу. У исследователей, занявшихся изучением ронго-ронго, сложилось впечатление, что это довольно позднее явление, вызванное к жизни скорее всего первыми письменными объявлениями испанских властей острова о его аннексии Испанией. Эти испанские листовки были. вручены вождям и жрецам местных племен, чтобы те «расписались в извещении». Вожди и жрецы «расписались» оттисками пальцев. Дело было примерно в 1770 году, но семена были посеяны, желание обрести такую же, как у белых пришельцев, способность выразить свои мысли значками, видимо, запало в души островитян, и не прошло и ста лет, как это желание воплотилось в загадочные деревянные таблички с их примитивными письменами-рисунками. С тех пор прошло сто с лишним лет, и из всего множества таких табличек во всем мире сохранилось лишь 25, рассеянных по разным национальным музеям. На этих 25 табличках имеется в общей сложности 14 тысяч рисунков. После того как в 1862 году правительство Перу вывезло с острова последних вождей и жрецов, не осталось ни одного островитянина, который умел бы читать ронго-ронго. Усилия немецкого лингвиста Томаса Бартеля, занявшегося уже в середине нашего века расшифровкой загадочной письменности, привели лишь к подтверждению того, что это действительно письменность, скорее всего — рудиментарная, зачаточная письменность, значки-картинки которой изображают как конкретные объекты (птиц, людей и т. д.), так и некие идеи, но не алфавитные знаки, звуки или слоги. Прочесть написанное ни Бартелю, ни другим исследователям не удалось. И вот теперь, через полвека после Бартеля, Стивен Фишер, пройдя путем Шамполиона, добился желанного успеха. Таким образом, письменность ронго-ронго, возможно самая молодая, самая недавняя из созданных человечеством письменностей, наконец-то расшифрована. Таблички острова Пасха прочитаны, как тот роман, о котором говорил классик. И что же они содержали? Об этом чуть позже. Давайте сначала вдумаемся, какой вывод для истории письменности как таковой можно извлечь из истории письменности ронго-ронго. Прежде всего можно думать, что возникновение этой письменности должно в определенной степени повторять процесс возникновения всякой другой, более древней письменности, а может быть, и всякой письменности вообще. Несомненно, письменность рождалась из потребности сберечь некую важную информацию (вспомним, что таблички ронго-ронго держали в специальных хранилищах («библиотеках»)? — были они защищены сакральным табу). Но уже изначально у них была и вторая, не менее важная функция — передать информацию другим людям. Об этом выразительно свидетельствует древняя шумерская легенда, найденная среди памятников шумерской письменности и рассказывающая о том, как эта письменность была создана («изобретена», если угодно). Легенда говорит, что однажды к царю Урука прибыл гонец, настолько измученный дальним путешествием, что был уже неспособен даже говорить. Царю же было необходимо послать его снова в путь. Как сделать, чтобы он мог передать нужную информацию? Хитроумный царь, говорит легенда, взял глиняную табличку и начертал на ней слова послания, так что отныне гонцу не нужно было их произносить. Очаровательная легенда, в наивности своей даже не задумывающаяся над тем, как же получатели этого первого в истории письменного послания прочтут неизвестные им знаки, выцарапанные царем Урука в глине таблички. Ведь письменность, как и речь, процесс двусторонний: и отправитель, и получатель должны предварительно «сговориться» об общем значении применяемых символов (знать, понимать или выучить это значение). Главное, однако, даже не в этом. Легенда не рассказывает о том, как именно царь придумал свои знаки. И тут история ронго-ронго, кажется, может нам помочь. Из нее явно следует, что придуманные островитянами знаки были изображениями, или, как говорят, пиктограммами (от «пиктос» — рисовать). Это рисуночное письмо не воспроизводило звуки какого-либо реального языка, известного только его носителям, а имело общий характер: носители иного языка тоже могли, в принципе, понять эти рисунки (но только в принципе — как мы видели, понять написанное удалось только после почти столетних усилий). Если создание ронго-ронго повторяло историю создания письменности вообще (как развитие эмбриона повторяет историю развития вида), то, может быть, и всякая письменность начиналась с пиктограмм? Давно известно, что люди рисовали с незапамятных времен, — в пещерах Франции и Испании найдены замечательные реалистические изображения бизонов, мамонтов и людей в процессе охоты. Не могло ли быть так, что эти рисунки, постепенно упрощаясь, стали основой каких-то значков, постепенно все более абстрактных и в конце концов сложившихся в письменность? Это действительно одна из гипотез, выдвинутых исследователями, изучающими становление письма. И ее разделяют многие из них, но не все. Другие исследователи указывают, что среди древнейших письменностей — Месопотамии, Египта, Китая, Индии и некоторых других регионов — очень мало образцов рисуночного письма. Даже китайские и египетские иероглифы не очень походят на изображения реальных объектов, хотя некоторые из них такие объекты напоминают. Что же, например, до шумерской клинописи или критского «линейного письма», то угадать в их значках рисунки людей или животных никак не удается. Поэтому скептики выдвинули другую гипотезу. Первой ее предложила — почти 20 лет тому назад — американская лингвистка д-р Дениза Шмандт-Бессерат из Техасского университета. Сегодня ее предположение кажется многим более правдоподобным, чем «пиктографическая теория». На недавнем симпозиуме специалистов по истории письма, проходившем в Пенсильванском университете, представители обеих теорий яростно оспаривали аргументы друг друга и в конце концов согласились, что имеющегося материала еще недостаточно, чтобы решить, какая из этих теорий верна. Чтобы понять гипотезу Шмандт-Бессерат, лучше всего начать… с гомеровской «Илиады». Там есть огромная, как считают, более ранняя вставка, в которой перечисляются корабли, посланные различными греческими городами для участия в походе на Трою. Список этот так огромен, однообразен и скучен, что даже такой ценитель классики, как Мандельштам, признавался: «Я список кораблей прочел до середины…» Специалистам, однако, этот список дает благодатный материал для размышлений. Дело в том, что, расшифровав шумерскую письменность и критское «линейное письмо», — исследователи с немалым удивлением обнаружили, что значительная часть всех этих текстов тоже представляет собой «списки», «перечни», «каталоги» и тому подобное. Так, среди 150 тысяч критских текстов такие «списки» составляют около трех четвертей. Что же там перечисляется? В основном вещи, товары, утварь, драгоценности, мешки зерна и животные, доставленные в царскую казну для уплаты налогов, и тому подобные хозяйственные объекты. Перед нами — явная бюрократическая отчетность. И это не удивительно. Мощные (для своего времени) державы вроде критской, шумерской, микенской, древнеегипетской и других не могли бы существовать без налаженной (и обслуживаемой армией чиновников) экономики. Кто-то должен был кормить двор правителя, армию, жрецов, самих чиновников; правители покоряли другие страны и возвращались с рабами и материальной добычей — ее тоже нужно было скрупулезно подсчитать и отметить; другие цари присылали подарки, и эти дары тоже подлежали тщательной регистрации; в каждом таком реестре указывалось число и характер вещей, пленников, драгоценностей и всего прочего, а также отмечалось (для памяти) место их хранения и так далее. Эта огромная, неутомимая, каждодневная бюрократическая работа тенью сопровождала всю политическую и хозяйственную жизнь страны, ее царей и ее народа. Как же она велась в отсутствие письменности? Можно представить себе, говорит Шмандт-Бессерат, что поначалу для обозначения каждого вида предметов использовались камешки или черепки определенного вида: скажем, для мешков зерна — округлые камешки, для стрел и копий — продолговатые и т. п. Число камешков соответствовало числу предметов данного вида. Камешки хранили в специальных глиняных сосудах. Чтобы знать, что находится в каждом сосуде, на нем снаружи оттискивали один из вложенных в него камешков или черепков. Следы таких черепков, оттиснутые в глине, и были предшественниками первых письменных знаков. Действительно, сосуды с такими оттисками в превеликом множестве найдены в раскопках древних месопотамских городов — Ура, Урука и других. Дальнейшее развитие уже нетрудно представить: какой-то неведомый месопотамский гений сообразил, что оттиск можно делать просто палочкой («стилом») во влажной глине и даже просто на специальной глиняной табличке; другой придумал особые оттиски-значки для обозначения тех или иных мест хранения; третий догадался, что таким же способом можно обозначать не только предметы и места их хранения, но и некоторые простейшие, основные понятия, и так далее. Сначала все эти значки были достоянием одних лишь чиновников и понятны только им одним. Но им можно было обучиться и обучить других. И других учили. Тому есть замечательное доказательство. Среди прочих клинописных и «линейных» древних «реестров» были обнаружены такие, которые были специально предназначены для обучения будущих чиновников, для заучивания наизусть — ради обретения навыков записи и чтения новых «списков». Надо думать, что жрецы и придворная знать тоже постепенно приобщались к новинке. Впрочем, в тех же первых памятниках шумерской письменности есть указания на то, что цари и правители, как правило, писать и читать не умели — за них это делали специально обученные писцы и чтецы. Эти специалисты были совершенно необходимы при дворе: древние державы, как опять же обнаруживается в памятниках их письменности, вели огромную дипломатическую переписку. В одной только столице Хеттской империи 2-го тысячелетия до н. э. были обнаружены десятки писем хеттских царей к фараонам Египта, правителям стран Малой Азии, царям Ассирии и даже вождям древнегреческих городов. (Надо полагать, что все это не сами послания, а их копии, на всякий случай хранившиеся в царском архиве.) Итак, перед нами две гипотезы, по-разному объясняющие происхождение письменности: одна видит ее начало в рисунках, другая — в оттисках, с помощью которых регистрировались объекты в «реестрах» и «списках». В чем, однако, сошлись все специалисты на упомянутом выше симпозиуме, так это в убеждении, что первые варианты письменности не отражали какого-либо определенного языка — лишь на более позднем этапе некоторые из них перешли к обозначению значками звуков родной речи. Как сказал д-р Питер Дамеров, «каким бы ни был исходный импульс для создания письменности, с момента ее появления она быстро приобретает достаточную независимость и гибкость, чтобы адаптировать свои кодовые знаки для передачи специфических особенностей своего языка». Впрочем, «быстро» — это примерно полтысячи лет: именно такой срок отделяет первые клинописные значки на черепках из Урука от поздней клинописи, представляющей запись шумерской речи. Таким образом, шумерские клинописные знаки постепенно стали знаками шумерского языка, древнеегипетские иероглифы были приспособлены для передачи понятий древнеегипетской культуры, хеттские письмена — для транскрипции хеттской фонетики и так далее. Но где же начался этот процесс? Мы уже знаем, где и когда было изобретено последнее по счету письмо — на острове Пасха, в конце XVIII — начале XIX века. А где и когда возникла первая письменность? Вокруг этого вопроса тоже идут ожесточенные лингвистические споры. До недавних пор считалось, что самые древние значки-письмена появились в Шумере примерно за 3200–3300 лет до н. э. — не случайно известная книга об этой первой месопотамской цивилизации называется «История начинается в Шумере». Но на пенсильванском симпозиуме было сообщено, что новейшие методы радиоуглеродного датирования позволяют думать, что некоторые древнеегипетские иероглифы, обнаруженные на обломках костей и на глиняных сосудах, были нацарапаны за 3500 лет до н. э. Теперь и в этом вопросе будут существовать две теории — египетского и шумерского происхождения письменности. Все другие древние системы письма появились явно позже, но опять-таки «вскоре»: уже в начале 3-го тысячелетия до н. э. письменность становится весьма распространенной — она встречается, например, у эламитов Южного Ирана; затем она появляется в долине Инда (в нынешнем Пакистане) и в Западной Индии, в Сирии, на Крите («линейное письмо») и в Анатолии (империя хеттов). В конце 2-го тысячелетия до н. э. письменность появляется в Китае, а в начале 1-го — в Центральной Америке (государство майя). Эта последовательность заставляет некоторых исследователей думать, что письменность не столько изобреталась в каждом месте отдельно, сколько распространялась, видоизменяясь в ходе этого процесса. Однако другие специалисты считают, что каждая из этих древнейших систем письма была автохтонной, т. е. придуманной независимо от других. (Ситуация тут отчасти напоминает знаменитый спор палеоантропологов: появился вид гомо сапиенс на каждом континенте независимо или возник в Африке и оттуда распространился по планете?) Думается, что и для решения этого спора пока нет достаточного материала. Неслучайно чуть не каждое новое открытие весьма круто меняет представления лингвистов. Раньше, к примеру, считалось, что письменность проникла в долину Инда из Месопотамии. Теперь, на том же симпозиуме, было сообщено об открытии в Индии еще более древних письменных знаков; относящихся к 3300 г. до н. э. и отдаленно похожих на знаки более поздней индусской письменности следующего тысячелетия. Если это открытие подтвердится, оно может означать, что письменность в Индии возникла независимо от Шумера. О Китае раньше вообще не спорили: древняя китайская письменность считалась автохтонной, возникшей на основе изображений на бронзовых изделиях («рисуночное письмо») и на костях для гадания («черепковая письменность»). Но, выступая на пенсильванском симпозиуме, один из специалистов заявил, что ему удалось обнаружить 22 знака финикийской письменности на глиняной посуде и одеяниях мумий, найденных в пустыне Западного Китая. При этом мумифицированные тела имеют характерные признаки людей кавказской расы, а их одеяния — западные приметы, так что можно думать, что эти (а может быть, и более восточные) места Китая посещались людьми из Месопотамии уже во 2-м тысячелетии до н. э. Они могли занести сюда и свою письменность. Известно ведь уже, что повозки и бронзовая металлургия проникли в Китай именно с запада. Таково состояние научных знаний о возникновении письменности на нынешний день. А что же, кстати, с письменностью ронго-ронго? Мы ведь обещали рассказать, что прочел на этих табличках Стивен Фишер, и даже намекнули, что он воспользовался для этого методом Шамполиона. Пришло время для обещанного рассказа. Напомним, что Шамполиону удалось прочесть древнеегипетские иероглифы благодаря находке т. н. Розеттского камня, на котором один и тот же текст был записан и на известном ему греческом языке, и с помощью иероглифов. В случае Фишера роль Розеттского камня сыграла двухкилограммовая табличка ронго-ронго метровой длины, хранившаяся в музее Сантьяго и покрытая множеством строк текста, в которых отдельные куски были отделены друг от друга вертикальными линиями (ни в одной другой табличке таких линий не было). В поисках закономерностей текста Фишер обратил внимание на то, что знак, следовавший за каждой линией раздела, обязательно сопровождался примитивным рисунком фаллического характера (т. е. упрощенным изображением мужского члена). Каждый третий знак после первого (4-й, 7-й и т. д.) тоже сопровождался таким фаллическим символом, т. е. текст как бы распадался на триады типа X-У-Z. Вспомнив, что в рассказах миссионеров, посещавших остров Пасха в прошлом веке, фигурировала некая «Песня Творения», начальные слова которой звучали как «Атуа Мата Рири», а вся песня в целом означала: «Бог Мата Рири («грозноокий») совокупился со сладким лимоном, и так родилось дерево Попоро». Фишер предположил, что найденные им «триады» можно понимать следующим образом: некий X (знак которого сопровождается фаллическим символом) совокупился с У, и это привело к возникновению Z. Иными словами, каждая триада — это предельно лаконичный рассказ о сотворении какого-то объекта рееального мира, а весь текст таблички в целом — своего рода островитянская «Книга Творения». Благодаря этому ключу, ему удалось расшифровать и тексты на других сохранившихся табличках. В итоге он показал, что ронго-ронго были не просто мнемоническим средством вроде известного «узелкового письма», а настоящей письменностью, с помощью которой жрецы острова за период с 1780 по 1865 год сумели записать (а может, и досочинить) мифологию островитян. Интересно, что эта письменность оказалась далеко не чисто пиктографической: ее знаки (хотя отнюдь не все) действительно были упрощенными изображениями физических объектов, но, например, фаллические символы оказались своего рода «семантическими суффиксами», т. е. были предназначены дать наглядное визуальное представление о некоем действии, которое один такой объект совершал над другим… Такие вот картинки…. >ГЛАВА 13 «НЕГРАМОТНАЯ» КУЛЬТУРА В дополнение к вышерассказанному — еще одна история с письменностью, которая не совсем письменность. Всем известно, что древнейшие цивилизации складывались вдоль больших рек. Придумано даже название — «гидравлическая цивилизация», т. е. такая, которая складывалась в борьбе с постоянной угрозой наводнений. Индия не была исключением. Как открыли английские ученые еще в 1870-е годы, древнейшая цивилизация на этом субконтиненте тоже сложилась вокруг реки — вокруг реки Инд. Систематические раскопки, начавшиеся здесь в 1920-е годы, вскрыли большие города, многочисленные здания, сложную систему водопроводных и канализационных труб. Одна только Хараппа, судя по числу жилых зданий, насчитывала 50 тысяч жителей — и это за 2500–2000 лет до нашей эры. Территория этой цивилизации составляла 1 млн кв. км. Понятно, что для современных индийских националистов эта древнейшая цивилизация Инда — предмет величайшей гордости, прямой предшественник культуры Вед и всей нынешней Индии. Своей монументальностью она нисколько не уступала знаменитым, одновременным С ней древним цивилизациям Египта и Мессопотамии. С одним отличием, о котором — сначала потихоньку, чтобы не разъярить этих гордых националистов, а теперь уже во всеуслышание — заговорили с недавних пор некоторые ученые. Если они правы, эти учёные, то древнейшая и великая цивилизация Инда была… безграмотной. От Древнего Египта остались иероглифы, надписи, целая литература. От цивилизаций Древней Мессопотамии сохранилась клинопись, целые библиотеки глиняных табличек. А вот от цивилизации Инда остались лишь многочисленные изображения каких-то непонятных, объединенных в небольшие группы значков, нарисованных в основном на маленьких табличках или печатях. Древнейшие из этих значков датируются примерно 3200-м годом до н. э., т. е. почти тем же временем, что и первые иероглифы и клинопись. Спустя 800 лет эти значки достигают наибольшего разнообразия, а еще спустя 700 лет они исчезают совсем, вместе со своей цивилизацией. И что странно — почти все эти таблички содержат очень малое число значков (или символов?) индийский археолог Рао насчитывает их не более 20-ти, хотя более «патриотически» настроенные ученые утверждают, что разных знаков чуть ли не 700. В последнем случае они, скорее всего, должны были бы быть иероглифами, но этому противоречит тот факт, что большинство этих значков больше похожи на обычные рисунки — изображения рыбы, например, или дерева. Если же отбросить рисуночные значки, мы вернемся к выводу Рао, что «собственно знаков» всего 20, и тогда их можно было бы считать, вслед за финским лингвистом Парполой, знаками фонетического письма, но тут в наши споры вмешивается главный герой всей этой истории, американский «возмутитель спокойствия» Стив Фармер, и портит всю картину своим сенсационным утверждением, что это никакой не алфавит, а просто… Впрочем, давайте по порядку. Фармер, процдя путь от армейского радиста «на подслушке» до профессора на кафедре сравнительной культурологии, в свое время написал глубокую работу по истории Древнего Китая и недавно занялся историей древнего бассейна Инда. В своей последней итоговой статье о пресловутых «знаках древней индийской культуры» он еретически заявил, что никакие это не письмена, а что-то вроде тех геральдических символов, которые имели такое широкое хождение в средневековой Европе. Разумеется, это утверждение было не с потолка взято. Вместе с другими лингвистами-единомышленниками Фармер произвел тщательный анализ всех сохранившихся табличек и определил, что среднее число знаков на них составляет 4,6 (самая длинная «надпись» содержит 17 знаков и лишь меньше одного процента надписей длиннее 10 знаков). Такие короткие «тексты» не встречаются ни в одной из известных ученым письменностей мира. Далее, в отличие от букв, которые в текстах на любом языке повторяются довольно часто (например, в английских текстах почти 12 % знаков — это буква «е»), в «надписях» из долины Инда такие повторы практически не встречаются. Наоборот, добрая половина знаков вообще встречается только один раз, три четверти знаков встречаются всего пять и менее раз. Такое впечатление, пишет Фармер, что «некоторые знаки изобретались специально для данного текста и забывались после нескольких использований». Все это привело Фармера к выводу, что индийские знаки были, скорее, магическими символами — вроде креста у христиан — или геральдическими изображениями, обозначавшими отдельные кланы, сосуществовавшие (и, возможно, враждовавшие) внутри этой загадочной цивилизации. Разумеется, гипотеза Фармера взбесила многих. Националисты попроще стали посылать ему письма с угрозами, а ученые коллеги принялись раздраженно опровергать все его утверждения, заявляя, что он фальсифицировал все свои данные. Что, как признает большинство специалистов, попросту неправда. Доводы Фармера слишком обоснованны, чтобы отмахнуться от них, и не случайно многие специалисты из «умеренных» уже сдвинулись от прежней единодушной веры в древнюю индийскую письменность к более скромному утверждению, что на загадочных табличках изображены имена принцев, богов, названия городов и т. п., но несвязные «рассказы», как было в Древнем Египте или Шумере. Вместе с Фармером (или вслед за ним) они сходятся в том, что эти символы играли какую-то важную социальную роль, объединяя все территории древней цивилизации Инда и придавая им ощущение общей принадлежности к одной культуре (напомним, что по территории эта цивилизация была примерно как вся нынешняя Западная Европа!). Как. говорит Фармер, отсутствие письменности отнюдь не унижает индийскую цивилизацию. «Большая городская цивилизация могут держаться вместе и без письменности», даже если это была многоплеменная и многоклановая культура. «Бесстрашный еретик» настолько уверен в своей правоте, что недавно учредил даже специальную премию размером в 10000 долларов для человека, который представит надпись длиной в 50 символов, с повторяющимися по законам языка значками и сопроводит находку прочтением ее текста. «Я ничем не рискую, — уверенно заявил он газетам. — Мне все-равно никогда не придется выписывать этот чек». >ГЛАВА 14 В ПОИСКАХ ТАЙНОГО ЗНАНИЯ Под конец вернемся от древней лингвистики опять к древней истории. В ней все еще появляются новости и открытия. Одно из таких открытий произошло в исторических масштабах не так уж давно, и поэтому его можно смело зачислить в новости. Во всяком случае, в древние новости. Открытие это совершил простой арабский пастух. Случайно заглянув в заброшенную пещеру, он обнаружил там глиняный кувшин метровой высоты и, разбив его мотыгой, увидел какие-то древние свитки. Он забрал их с собой, а уже от него они каким-то образом попали на арабский черный рынок, перекочевали в руки охочих до древностей зарубежных туристов и в конце концов оказались в распоряжении ученых, где им и было самое место. Ибо свитки эти содержали неведомые доселе и переворачивающие многие наши представления тексты, родившиеся в кругу загадочной религиозной общины, что существовала в этих местах в те времена, когда ближневосточную землю топтали сапоги римских легионеров, а отчаявшиеся в неволе люди слагали учение о приходе избавителя-Спасителя. Вы, конечно, подумали, что я пересказываю историю Кумранских свитков. И вы ошиблись. Я хочу рассказать совершенно иную, хотя и не менее увлекательную историю, которая как две капли воды похожа на историю кумранской находки, — с той лишь разницей, что в данном случае свитки были найдены в пещере на горе Джабаль аль-Тариф, вблизи города Наг-Хаммади, что в среднем течении Нила, между знаменитыми египетскими городами Асьютом и Луксором. О кумранских свитках знает каждый образованный человек. О свитках Наг-Хаммади знает далеко не каждый. Между тем по своему значению они, пожалуй, не уступят свиткам Мертвого моря. Свитков Наг-Хаммади насчитывается тринадцать. В них содержится пятьдесят два текста, созданных, по мнению специалистов, в первом-втором веках нашей эры. Тексты эти представляют собой раннехристианские апокрифы, то есть сочинения, не вошедшие в утвержденный церковью христианский канон — «Новый Завет». А громадное историческое значение этих текстов состоит в том, что в сумме они образуют наиболее полную и впервые представшую перед исследователями библиотеку т. н. «гностических» сочинений, до того известных лишь по пересказам христианских критиков гностицизма. Вообразите себе, что вы находитесь в зале суда, где все время выступают только свидетели обвинения. И вдруг происходит взрыв! Впервые за два тысячелетия в зале появляется сам обвиняемый. В зале шум и смятение, судья грохочет молотком по столу, приставы выводят непотребно беснующихся обвинителей. И обвиняемый начинает сам рассказывать о себе. Я сознательно принял столь высокопарный тон, чтобы подчеркнуть всю огромность и небывалость случившегося. Находка в Наг-Хаммади не просто очередное археологическое открытие. Это переворот в наших представлениях о гностицизме. А стало быть, обо всей истории раннего христианства. Более того — о религиозной истории в целом. Ибо гностицизм — это одна из величайших и распространеннейших религий древнего мира. Но куда важнее и, несомненно, куда интереснее, что это одно из самых влиятельных и заметных явлений нашей с вами эпохи, той, в которой мы живем и блуждаем сейчас. Достаточно сказать, что следы гностических доктрин обнаруживаются в учениях таких современных мыслителей, как Хайдеггер и Юнг, а в своей вульгаризованной форме они были усвоены мистическими вдохновителями Гитлера из «Общества Туле» и создателями многих современных оккультных сект и мистических культов на Западе. И если когда-то исследователь гностицизма Ганс Йонас говорил о «Великой гностической революции» древности, то сегодня мы можем назвать наше собственное время эпохой столь же масштабной «гностической контрреволюции». Теперь уж вы наверняка впали в тяжелую задумчивость. Если гностицизм столь могуч и вездесущ, то почему мы о нем ничего не знаем? Если его следы обнаруживаются буквально повсюду, то, ради Бога, покажите нам их. И поскорее! Может быть, мы — тоже гностики, только сами не знаем, как мольеровский герой Журден не знал, что всю жизнь говорил прозой! А не знаем мы о гностицизме (точнее, почти ничего не знали до находки в Наг-Хаммади) по той простой причине, что христианская церковь усиленно над этим поработала. В свое время, на рубеже I–II веков, учение гностиков настолько успешно соперничало с ортодоксальным христианством, что, по мнению некоторых ученых, имело шансы его победить. Гностикам не хватило организованности. Они никогда не пытались создать формальную церковную организацию. Более того, они были принципиально против нее. Гностицизм, как мы увидим, — это вызывающе индивидуалистическая доктрина. И пока гностики размышляли о причине несовершенства земной юдоли и способах ее преодоления, христиане создавали свои епископаты. И первые же епископы на первое место в списке своих неотложных задач поставили беспощадную борьбу с конкурентами. Уже в 180 году епископ Ириней опубликовал пятитомное (!) сочинение, озаглавленное «Сокрушение и уничтожение ложного учения, так называемый «гнозис», которое изрыгает хулу на Господа нашего Иисуса, — дабы не дать другим впасть в эту бездну гордыни и богохульства». С еретиками христианство всегда расправлялось круто. Гностицизму грозило полное исчезновение из человеческой памяти. К счастью, Ириней с группой товарищей перестарались. В их сочинениях эти еретики цитировались так обильно, что вдумчивые люди из одних этих цитат могли составить представление о гностических доктринах. А историки религии XIX–XX веков разбирались в древнем гностицизме уже весьма неплохо. Находка в Наг-Хаммади позволила им сделать следующий огромный шаг в развитии и обобщении этих представлений. Что же так раздражало христианских ортодоксов в гностическом учении? Возьмем, к примеру, один из текстов наг-хаммадийских свитков, апокриф, который называется «Евангелие от Фомы» (в «Новом завете» вы его, разумеется, не найдете). Начинается оно так: «Здесь содержатся тайные слова, сказанные живым Иисусом и записанные его братом-близнецом Иудой Фомой». Тут даже самый поверхностно знакомый с христианством человек содрогнется. Оказывается, у Иисуса был брат-близнец! Оказывается, Иисус поведал ему какое-то «тайное знание»! Раз «тайное» — значит, не то, которое содержится в канонических Евангелиях. Что же это за знание? Намеки на эту тайну рассеяны по наг-хаммадийским свиткам в превеликом множестве. К примеру, в тексте «Свидетельство истины» рассказывается совершенно сенсационная история Змия, который, оказывается, первым пытался принести людям свет «тайного знания», но встретил яростное сопротивление «так называемого Бога», пригрозившего Адаму и Еве смертью, если они вкусят от злополучного яблока. А в тексте с поразительным названием «Громыхающий идеальный разум» некая загадочная «Высшая богиня» выражается о себе таким дзэн-буддистским слогом: «Я та, которую чтут и поносят, я шлюха и святая, я мать и девственница, я первая и последняя, я непостижимое молчание и я же невыразимый звук моего имени». Гностики были решительно неортодоксальны и в толковании самого Иисуса, и в объяснении его миссии на земле. У ортодоксов Иисус отделен от сынов человеческих уже тем, что он «Сын Божий», а у гностиков Бог и человеческое Я — одно и то же: «Познай, кто это такой внутри тебя говорит — моя мысль, моя душа, мое тело, и ты обнаружишь Бога в самом себе», — говорит гностический автор Моноимус. У ортодоксов Иисус говорит в основном о «первородном грехе», который он пришел «искупить», а у гностиков он занят прежде всего развенчанием иллюзий, которые скрывают от людей «истинное положение вещей в мире», «истинное знание». И говорит Иисус Фоме: «Кто пьет из кипящего источника истины, из которого пью и Я, тот становится Мною, и Я становлюсь им». Не потому ли Фома и назван его братом-близнецом? Сквозная тема всех гностических текстов — поиск тайного знания, по-гречески — «гнозиса». Отсюда и название. Какие-то загадочные, словно нарочито созданные кем-то иллюзии скрывают от людей истинную природу мира и самого Бога, и то, что люди принимают (а ортодоксальные христиане выдают) за истину, ей на самом деле противоположно. Может, и сам Бог подложный? Да и существует ли Он вообще? Один из гностических авторов говорит о «Несуществующем Боге». Не в том смысле, что Его нет, а в том, что Он не существует в принятом толковании этого слова, не может быть определен в обычных терминах, разве что в отрицательных: Он не то, и не то, и не то. Эту мысль позднее подхватили у гностиков такие знаменитые средневековые мистики, как Николай Кузанский и Якоб Беме. А уже у них — кое-какие мистики нашего времени. Точно так же, как Юнг заимствовал у них убеждение в наличии у божества женской ипостаси, а Хайдеггер — некоторые представления о природе человеческого бытия, вошедшие — уже через хайдеггеровские сочинения — в основы современного экзистенциализма. О том, что заимствовал у гностиков фашизм, популярно рассказано в переведенной (много лет назад) на русский язык книге Бержье и Пауэлла «Утро магов», а более научно — в недавно вышедшей (по-английски) книге «Гностические корни нацизма». Любопытно, что почти так же называется более давняя книга известного французского историка Алана Беансона, только у него — «Гностические корни ленинизма»! Гностические корни, несомненно, есть, как я уже говорил, и у более мелких духовных течений эпохи, но они все еще ждут своих исследователей. Гностики, в общем-то, всего лишь передали эстафету. Они и сами многое заимствовали. Внимательный читатель наверняка заметил; что разговоры об «истине, скрывающейся за покровом иллюзий», очень напоминают индийские рассуждения о «покрове Майи», скрывающем от людей высшую истину бытия, то, «каково оно есть на самом деле», а сами «иллюзии» очень похожи на платоновские «тени вещей», которые носятся на стене Пещеры, где томится человеческий разум, принимая эти тени за те абсолютные «идеи», из которых, по Платону, слагается истинная реальность. Не случайно Адольф Гарнак, один из первых исследователей гностицизма, когда-то назвал гностиков «распоясавшимися платонистами», а британский историк Гонзе возвел зарождение гностических идей к влиянию буддистских проповедников, которые активно миссионерствовали в Александрии в I–II веках н. э. С другой стороны, Мориц Фридландер доказывал, что многое в учении гностиков восходит к «еретическим» идеям иудаизма того же времени. У гностиков, действительно, был жестокий спор с иудаизмом, может быть, даже более жестокий, чем с христианской ортодоксией, и такой беспощадно страстный, какой бывает только между очень близкими родственниками. Гностики отвергали «претензии» иудаизма на абсолютную истину с той же яростью, что и претензии первохристиан; но они же впоследствии возместили иудаизму «убытки», вдохновив его на создание гаонической мистики (как позднее, видимо, одарили создателя ислама мистической идеей «цепи пророков», а сам ислам вдохновили на создание суфизма и исмаилизма; но об этом — в следующей части нашей книга). Но, может, дело обстояло наоборот, — еврейская мистика предшествовала гностицизму? К этому следовало бы вернуться, но мы сейчас ограничимся тем, что передадим слово арбитру, который лично мне представляется наиболее глубоким из всех, — уже упоминавшемуся ранее Гансу Йонасу. В своем классическом произведении «Гнозис и дух позднеантичной эпохи» он набрасывает грандиозную картину того, как в недрах созданного Александром Македонским эллинистического мира постепенно и исподволь на протяжении нескольких столетий вызревал поразительный и уникальный сплав многочисленных восточных и западных религиозных и мистических учений и культов и как затем эта духовная магма, вырвавшись из ближневосточных недр, хлынула на Запад в грандиозном контрнаступлении, в котором Восток взял реванш за предшествующее — политическое отступление перед Западом. (Отметим, что под Западом Йонас подразумевал Грецию, а под Востоком — то, что мы и сегодня так называем.) Так вот, подыскивая слова для определения центрального ядра этого гигантского духовного процесса, наложившего неизгладимый отпечаток на всю последующую историю западной цивилизации, Йонас долго выбирает между различными возможностями — «временный триумф иудаизма», «победа иудеохристианства» и т. п., — пока не приходит к тому главному, что, на его взгляд, объединяло и пронизывало все эти разнородные составляющие. Это было, говорит он, «вторжение гностицизма». При таком подходе становится понятным, почему гностицизм обнаруживает такое глубокое сходство со столькими и столь разнородными учениями и доктринами древности, начиная с мистики иудаизма и платоновской философии и кончая отголосками буддизма. Становится понятным и то, почему гностицизм, как утверждает Йонас, оказался главной и сквозной идеей позднеантичной эпохи и почему сумел оказать столь мощное влияние на духовное развитие человечества, что это влияние ощущается и в наши дни, — ведь он объединял в себе множество различных влияний и тем самым, как сказали бы химики, имел множество «свободных валентностей», которые позволили ему объединяться с самыми разными мистическими идеями позднейших времен и оплодотворять их своим влиянием. Примерно так же (но в куда меньшем масштабе) вторгся (уже в нашу эпоху) в духовную жизнь России марксизм с его щупальцами свободно-валентных идей, только и ждущих, к кому бы присосаться — то ли к символизму, то ли к богоискательству, то ли к рабочему движению. О гностицизме можно рассказывать долго. На этом закончим наше повествование. >ЧАСТЬ 6 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА >ГЛАВА 1 А БЫЛА ЛИ ОНА ВООБЩЕ?
История насмешлива. Отодвигая события в прошлое, она делает их сомнительными (порой незаслуженно сомнительными) для потомков. При этом, будучи одинаково равнодушной ко всему в себе, она и в этом вопросе не знает исключений. «Я слышал сомнения в реальности Трои», — писал Байрон после посещения Гиссарлыкского холма. И предрекал, улыбаясь: «Со временем усомнятся и в Риме». Подлинность Древнего Рима пока еще несомненна, но реальность Троянской войны в последние столетия действительно стала — предметом бурных споров. Не то было раньше. «Для античности, — говорят Гиндин и Цымбурский, — Троянская война была несомненным фактом… О ней напоминали родословные, идущие от ее героев, названия основанных ими городов, гавани, где были стоянки их кораблей». Эти родословные и названия были известны всем. Великий Вергилий в своей поэме «Энеида» писал, что когда уцелевший троянец Эней в своих странствиях навстречу судьбе (ему было якобы предназначено основать Рим, который возродит троянскую славу) добрался до далекого Карфагена, что на другом от Трои конце Средиземного моря, и попытался поведать тамошней царице Дидоне, откуда он родом, оказалось, что Дидона и сама уже может рассказать ему историю осады и гибели Трои и ее героев. Как объясняет В. Топоров в своей книге «Эней — человек судьбы», Вергилию, писавшему в I веке до н. э., представлялось очевидным, что в Энеевы времена о падении Трои должен был знать каждый средиземноморец, коль скоро это было реальное событие, потрясшее весь средиземноморский мир. Свидетельств такой безусловной веры многих поколений (от Гомера к Вергилию и далее до средневековых) в историческую реальность Троянской войны несчетное множество; вот одно из них, возможно, самое яркое. В «Илиаде», рассказывая о главных героях Троянского похода, Гомер среди прочих повествует бб Аяксе — царе Локриды, что находилась в срединной Греции неподалеку от Дельф с их оракулом. Гомер называет этого Аякса «малым», чтобы отличить от другого, «большого», или «великого», Аякса Теламонида:
Помимо отличного метания копья, Аякс Локридский отличался, видимо, еще и необузданно диким нравом — после взятия Трои он ворвался в храм Афины, где пророчица Кассандра, ища спасения, прильнула к статуе богини, и, увидев несчастную девицу, воспылал к ней нечистым желанием; а поскольку ему никак не удавалось оторвать руки Кассандры от статуи, он схватил ее за волосы и потащил прочь вместе с каменным изваянием. Этим поступком, осквернившим алтарь Афины, Аякс Локридский вызвал понятную и вечную ненависть богини, и вот, как сообщают древнегреческие памятники, жители Локриды даже в IV веке до н. э., т. е. спустя тысячу лет (!) после описанных Гомером событий, были настолько убеждены в реальности этого давнего проступка своего давнего царя, что продолжали замаливать его вину перед Афиной и отвращать ее гнев, ежегодно отправляя двух своих девушек (из самых аристократических семей) в отстроенную к тому времени Трою, дабы они служили там хранительницами восстановленного храма оскорбленной богини. Правда, некоторые скептики издавна утверждали, что обвинение Аякса в попытке изнасиловать Кассандру было облыжным и его якобы придумал в каких-то своих целях хитроумный и коварный Одиссей. Но если даже локридцы поверили наговорам Одиссея, все равно, они и в этом случае, в конечном счете, поверили Гомеру. Нет, бесспорно, сомнения в исторической достоверности гомеровского рассказа не приходили тоща в голову почти никому — разве что Анаксагору, который, видите ли, требовал доказательств этой достоверности; но на то Анаксагор и был философ. Всем прочим людям, нефилософам, доказательства казались излишни, ибо, как писал древнегреческий историк V века до н. э. Фукидид, «в правдивости гомеровского рассказа не приходится сомневаться», поскольку за нее ручаются «великие поэты и всеобщая традиция» («поэты» здесь во множественном числе, потому что, кроме гомеровских, существовали и несколько менее пространных поэм о Троянской войне, совместно известных как «Эпический цикл» и дошедших до нас в записях VI века до н. э.). «Ручательство» это становилось тем более убедительным, что поэты и традиция взаимно удостоверяли подлинность своих свидетельств: например, «Эпический цикл» утверждал, что Афина наложила на Локриду тысячелетнее проклятие и, согласно традициям самих локридцев, им суждено было посылать своих девушек в. Трою тоже на протяжении тысячи лет, так что они покончили с этим тягостным обычаем лишь в 264 г. до н. э., тем самым заодно засвидетельствовав, что, согласно их традиции, падение Трои произошло в 1264 г. до н. э. Кстати говоря, хотя вера в реальность этого события не умалялась с веками, но сама его дата постепенно уходила в туман и уже в древности стала предметом ожесточенных споров. Так, великий древнегреческий историк Геродот (484–424 гг. до н. э.) путем сопоставления генеалогий царских семей, сохранившихся в различных греческих традициях, пришел к выводу, что поход на Трою состоялся в 1260 г. до н. э., чем, в сущности, научно подтвердил «традиционную» датировку. С другой стороны, двумя столетиями спустя географ и астроном Эратосфен (276–194 гг. до н. э.), использовав те же данные, что Геродот, но подойдя к ним с большей придирчивостью, заключил, что Троянская война началась на сто лет позже, в 1164 году до н. э. (Многие ученые до сих пор считают это наиболее авторитетной датировкой.) Самой древней из называвшихся дат Троянской войны был 1334 год до н. э., самой поздней — 1135-й, а вот некий безымянный резчик, живший как раз между Геродотом и Эратосфеном, в начале III века до н. э. высек на мраморном памятнике в Фаросеи такую (уже неизвестно откуда взятую) дату того же события: 5 июня 1200 года до н. э. — то есть с точностью не только до месяца, но даже до дня! Во всем этом важна, конечно, не сама дата и даже не то, что разные даты отличались друг от друга, — куда важнее поразительная готовность каждого автора назвать точную дату, ибо такая готовность, несомненно, проистекала из абсолютной веры в реальность описанных Гомером событий. Нам, современникам, трудно разделить эту наивную уверенность — прежде всего потому, что, как нам сегодня уже известно, догомеровская (а скорее всего, и гомеровская) Греция еще не знала письменности (а точнее, знала, но утратила, как выяснилось позже, причем еще в XII веке до н. э., задолго до времен Гомера); поэтому народные предания (то, что Фукидид называл «всеобщей традицией») никем и никак не могли быть записаны. Незаписанная же «народная память» — весьма ненадежный свидетель. Как писал знаменитый историк Иосиф Флавий, «хотя часто говорят, будто древние греки были первыми, кто стал заниматься прошлым на более или менее точный научный манер, на самом деле, очевидно, что так называемые варвары сохранили историю лучше, чем греки… Дело в том, что греки поздно усвоили алфавит, и он дался им с трудом… так что во всей греческой литературе нет сочинений, относительно которых существовала бы уверенность, что они древнее Гомера. Однако время Гомера было явно намного позже Троянской войны, и даже он оставил свои поэмы незаписанными…» Действительно, тот же Геродот считал, что Гомер жил за 400 лет до него, а это соответствует, как легко посчитать, IX веку до н. э., и хотя некоторые другие историки порой отодвигали время его жизни чуть ли не в XII век до н. э., т. е. делали его прямым современником воспетой им войны, большинство современных ученых склоняется скорее к точке зрения Геродота. Это большинство поддерживает и утверждение Иосифа Флавия о сравнительно позднем возникновении греческой письменности; правда, некоторые пылкие умы в прошлом выдвигали предположения, будто эта письменность была создана уже за столетие до гомеровских поэм или же, в крайнем случае, одновременно с ними (именно для их записывания), а то и самим Гомером (для той же цели), но сегодня это событие единодушно относят примерно к тому же моменту, что и первые общегреческие Олимпийские игры, а они состоялись в 776 г. до н. э. Это мнение достаточно обосновано: самые ранние из обнаруженных на сей день надписей, исполненных несомненно греческим алфавитом, датируются 770 годом до н. э. С другой стороны, сегодня существует и вполне надежное основание считать, что Троянская война, если она происходила, вряд ли могла произойти позже середины XI века до н. э., ибо во второй половине этого века, как свидетельствует археология, союз древнегреческих государств, возглавлявшийся Микенами, уже не существовал — он распался под натиском каких-то пришельцев с севера, а еще через несколько десятилетий рухнули и сами Микены. Стало быть, позже, скажем, 1150 года до н. э. возможность организации того коллективного, общегреческого похода под водительством Микен, какой описан в «Илиаде», стала весьма сомнительной. Таким образом, между Гомером и — описываемыми им событиями зияет временной разрыв протяженностью в 300–400 лет. И тут возникает первый из серии вопросов, в совокупности образующих загадку Троянской войны: могла ли устная традиция сохранить и перенести через такой провал достоверные воспоминания о столь давнем прошлом? Но этот вопрос тут же осложняется еще одним. Допустим все же, что устная традиция сумела сохранить верность далекому прошлому. Но вот незадача: исследования современных филологов убедительно показали, что гомеровские поэмы, которые были вершиной и завершением этого многовекового устного творчества, представляют собой не столько точную (пусть и гениальную) фиксацию «преданий старины глубокой», а скорее — весьма индивидуализированное художественное преображение этих фольклорных материалов. Но можно ли в таком случае говорить об их исторической достоверности? Можно ли говорить об исторической реальности неких событий на основании текста, хоть и рассказывающего об этих событиях, но созданного по законам поэтического творчества? Иными словами, насколько надежны свидетельства гомеровских поэм? Обратимся к Гомеру. >ГЛАВА 2 ГОМЕР И ЕГО ПОЭМЫ Что мы знаем о Гомере? Что он был автором двух пространных, изложенных гекзаметром поэм «Илиада» и «Одиссея», в которых повествуется о десятилетней войне греков (в этих поэмах они именуются более древним названием «ахейцы») против троянцев, жителей города Троя, что существовал когда-то на западном берегу малоазиатского (ныне Турецкого) полуострова. Однако современная историко-филологическая наука утверждает, что самым первым источником всех знаний и представлений об этой войне был не Гомер, а предшествовавшая ему древнегреческая народная традиция — эпические сказания, изустно передававшиеся сказителями-певцами («аэдами») из поколения в поколение задолго до Гомера. Сами эти сказания до нас не дошли, но, начиная с V века до н. э. (т. е. уже много позже Гомера) их тексты, сохранившиеся в неполном и разрозненном виде, были собраны различными греческими авторами — Аполлонием с Родоса, Аполлодором из Афин, Квинтом из Смирны, Арктиносом из Милета и другими — в виде нескольких коротких поэм, повествовавших об отдельных эпизодах Троянской войны, не фигурирующих в «Илиаде» и «Одиссее». Так, «Киприя» Арктиноса Милетского излагала предысторию этой войны; «Малая Илиада» Квинта Смирнского заполняла промежуток между «Илиадой» и «Одиссеей», рассказывая о дальнейших событиях осады Трои — от смерти Гектора и до взятия города (гибель Ахилла; смерть Париса; изготовление «Троянского коня»); во «Взятии Трои» того же Арктиноса рассказывалось о падении троянской крепости, ее разграблении и судьбах ее жителей — царя Приама, его жены Гекубы, дочери Кассандры, вдовы Гектора Андромахи и Елены Прекрасной; поэма «Возвращения» была посвящена истории возвращения греческих героев на родину и судьбам некоторых из них. Следует заметить, что, не будь этих поэм, мы бы не знали сегодня множества знаменитых и красочных деталей, которые ныне у всех на слуху, — ни рассказа о «суде Париса» и похищении им прекрасной Елены (с чего, собственно; и началась вся Троянская распря), ни истории смерти Ахилла, пораженного стрелою в пятку — единственное уязвимое место на его теле, ли многих других; ибо, как уже сказано, ни одной из этих историй нет ни в «Илиаде», ни в «Одиссее». Тем не менее, несмотря на эту неполноту, именно «Илиада» и «Одиссея» являются самым главным и самым авторитетным источником наших сведений о Троянской войне. Объясняется это, прежде всего тем, что эти поэмы уже в древности обрели-статус величайшего произведения греческой культуры. Древние греки считали их чем-то, далеко выходящим за чисто литературные рамки: они учили и воспитывали на них своих детей, почитали как непреложный кодекс нравственности и зачастую даже руководствовались ими в своей практической деятельности. Влияние этих поэм на европейскую культуру последующих веков тоже было огромно. По их образцу было создано величайшее произведение римской литературы — поэма Вергилия «Энеида»; позднее они вошли в литературный кодекс византийской империи, где стали предметом углубленного изучения и комментирования; а еще позже, проникнув из Византии в Италию, оказали глубокое влияние на культуру Ренессанса. В Новое время, обретя благодаря многочисленным переводам даже более широкую популярность, чем Данте или Шекспир, они стали одной из важнейших основ всего классического образования многих поколений европейцев. Не удивительно, что отношение к этим великим поэмам приобретало порой настолько благоговейный характер, что их подчас даже отказывались признавать творением отдельного, пусть и гениального, человека — один немецкий филолог XVIII века выдвинул в свое время фантастическое предположение, что обе они, и «Илиада» и «Одиссея», были созданы посредством спонтанного «творческого выдоха» всего древнегреческого народа как целого. Достоверно известно, однако, что сами древние греки упорно приписывали создание обеих поэм одному конкретному человеку — слепому певцу Гомеру — и даже придумали этому человеку развернутую биографию, согласно которой он родился на острове Хиос в Эгейском море, много странствовал по Малой Азии, Египту и самой Греции и оставил потомков — так называемых гомеридов, взявших на себя задачу сохранения и распространения его поэзии. Еще более детальную (и более фантастичную) биографию Гомера придумал Геродот, который приписал ему несколько поколений предков и великое множество путешествий. Из всего этого единственно достоверным является то, что в более поздние века на острове Хиос действительно существовала гильдия или «школа» поэтов, именовавших себя «гомеридами» и исполнявших преимущественно произведения Гомера, которого они считали своим земляком. Какую позицию в этих спорах занимает современная филологическая наука? Она считает достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал эпический поэт по имени Гомер и что именно он сыграл ведущую роль в окончательном формировании «Илиады» и «Одиссеи» (составные части которых, возможно, существовали уже до него в виде устных поэм). Почему это «достаточно вероятно», станет ясно чуть далее. Пока же заметим вслед за специалистами, что, поскольку некоторые языковые приметы гомеровских поэм близки к особенностям ионийского диалекта древнегреческого языка, который был в ходу у жителей островов восточной части Эгейского моря, то и предание о хиосском происхождении Гомера могло иметь под собой реальную основу, поскольку Хиос относится к Ионическим островам. Многие специфические детали «Илиады» свидетельствуют, что ее автор был хорошо знаком с географическими и климатическими особенностями Хиоса, Родоса и других островов, а также близкого к ним малоазийского побережья. Он, например, упоминает о птицах, гнездящихся в устье реки у малоазийского города Эфес, о виде на горы, открывающемся с Троянской равнины, о северо-западных ветрах, преобладающих на Хиосе, и т. п. Таких восточноэгейских примет много меньше в «Одиссее», что, в частности, побудило Аристотеля высказать предположение, что эта поэма была написана Гомером в глубокой старости, а других исследователей — даже утверждать, будто она вообще приналежит иному автору (к тому же она совершенно отлична по жанру). Тем не менее современная филология и здесь пришла к выводу, что, при всех сомнениях, «Одиссея» была как минимум вдохновлена Гомером, а то и создана им самим. Однако время создания обеих поэм представляется сегодня несколько иным, чем в древности: определенные детали текста побуждают отнести «Илиаду» к концу IX, «Одиссею» — скорее даже к середине VIII века до н. э. А это означает, что они существенно моложе древних поэм «Эпического цикла». Тем не менее «Илиаду» и «Одиссею» нельзя противопоставлять этим поэмам. Как показал в 30-е годы нашего века американский филолог Малькольм Пэрри, поэтика «Илиады» и «Одиссеи» — это все же поэтика устного эпического творчества, и в этом смысле их создатель был прямым продолжателем традиции пред-. шествовавших ему эпических сказителей. Не случайно Гомер и сам применяет для определения поэта тот же термин «аэд», который в древности характеризовал этих певцов-сказителей. Но он. был весьма особым их продолжателем. В своих поэмах он далеко превзошел всех безвестных предшественников. Как показало изучение еще сохранившихся (на Балканском полуострове и в других странах) традиций устного эпического творчества, для поэтов-певцов и сказителей характерно создание сравнительно небольших «песен» (т. е. коротких поэм), каждая из которых содержит часто всего один законченный эпизод и исполняется (при подходящем случае и в подходящей обстановке) в один прием. Это опять же подтверждает сам Гомер, пересказывая в «Одиссее» две такие. законченные песни: одну — о любовном романе между богом Аресом и богиней Афродитой, другую — о придуманном Одиссеем «Троянском коне», — каждая из которых занимает примерно по 100 строк поэмы. Примеры таких же коротких поэм сохранились и в «Эпическом цикле». Так вот, по утверждению специалистов-филологов, главное и величайшее новаторство Гомера состояло в резком переходе от этих коротких песен к качественно новому поэтическому жанру — к монументальной эпической поэме, включающей десятки песен и многие тысячи строк (в одной «Илиаде» их более 16 тысяч). Это новаторство Гомера можно уподобить разве что столь же революционному прорыву последующих времен — изобретению романа как совершенно новой формы повествования. Громадность материала, который становился при этом доступен, широта возникавшей отсюда картины событий, их историческая и психологическая глубина не могли не произвести огромного впечатления на слушателей, привыкших доселе исключительно к коротким рассказам. Можно думать, что слушатели Гомера были столь же потрясены, когда этот неведомый им прежде слепой певец из вечера в вечер несколько дней подряд исполнял перед ними свое монументальное творение. Сам размах этого исполнения предполагал совершенно исключительные творческие качества нового певца, и не удивительно, что имя Гомера с такой силой врезалось в память народа. Не удивительно также, что устная эпическая традиция, достигнув в поэмах Гомера своего высшего, развития, достигла в них и своего естественного завершения: после Гомера петь «по-старому» стало практически невозможным. Произносившийся самим Гомером текст, скорее всего, был нестабильным и несколько менялся от выступления к выступлению. Это не удивительно, ведь, греки в те времена еще не знали письменности, ее широкое распространение началось, мы говорили об этом, лишь во второй половине VIII века до н. э. Но так как слушатели Гомера не обладали его памятью и способностями и в то же время хотели знать его «божественные» (как они их называли) поэмы от слова до слова, то можно думать, что уже с началом распространения греческой письменности начались попытки записи этих поЗм и постепенного приведения этих записей к одному стабильному («каноническому») варианту. Согласно некоторым древнегреческим источникам, уже в середине VI века до н. э., при афинском правителе-тиране Писистрате, «Илиада» зачитывалась по его приказу перед толпами, собиравшимися на площади около построенного тираном величественного храма богини Афины. Поскольку она именно «зачитывалась», то была, надо думать, уже записана, и итальянский философ Нового времени Джамбатиста Вико (1668–1744) даже предположил, что именно по приказу Писистрата поэмы Гомера и были записаны в первый раз и притом в окончательном, «канонизированном» виде, дабы предотвратить дальнейшую порчу этого «национального достояния» при устной передаче. Нам никогда не удастся узнать, так это или не так, потому что первый дошедший до нас (имеющийся в распоряжении ученых) список гомеровских поэм восходит всего лишь к X веку нашей эры — это копия византийского издания 860 года (оригинал его погиб), тщательно отредактированного и снабженного всеми накопившимися за столетия комментариями; копия эта хранится ныне в соборе св. Марка в Венеции и именуется «Венетус А». Каков же этот дошедший до нас текст? О чем он, собственно, рассказывает? Как выглядит в его передаче интересующая нас Троянская война? Оказывается, ее начало лежит за пределами этого текста. Только из поэм «Эпического цикла» (в передаче более поздних авторов) можно узнать, что война началась из-за спора трех богинь — Афины, Афродиты и Геры — за обладание яблоком с надписью «прекраснейшей», которое подбросила им богиня раздора Эрида (Эрис). Зевс велел отвести спорящих богинь в Троаду, к тамошнему принцу Парису-Александру, сыну троянского царя Приама, чтобы тот их рассудил, и Парис отдал яблоко Афродите, обещавшей ему любовь Елены Прекрасной, жены одного из греческих царей Менелая (этим «судом Париса» объясняется, кстати, почему в ходе последующей войны Афродита помогает троянцам, а Гера и Афина — грекам). Далее выясняется, что Парис, вдохновленный обещанием Афродиты, отправился в Спарту, во владения Менелая, и, пользуясь его отсутствием, соблазнил и похитил Елену, а затем привез ее в Трою, где его сестра, пророчица Кассандра, тотчас возвестила, что поступок Париса обрекает город на войну и гибель; Кассандре, однако, никто не поверил, ибо когда-то бог Аполлон, оскорбленный ее отказом ему отдаться, наплевал ей в уста — как раз для того, чтобы никто ей не верил. Однако пророчество Кассандры, увы, оказалось вещим. Опозоренный Менелай обратился к своему могущественному брату — микенскому царю Агамемнону — с просьбой помочь ему отвоевать Елену и отомстить, за унижение. Агамемнон, в свою очередь, обратился к царям других греческих городов, призывая их объединиться для похода на Трою, и его призыв нашел благожелательный отклик. В итоге в составе греческого воинства оказались все великие герои тогдашней Греции — прежде всего, разумеется, Ахилл, но также и Диомед, Филоктет, Одиссей, оба Аякса, «большой» и «малый», и многие-многие другие. (Их поименование вместе с перечнем приведенных каждым из них боевых кораблей и воинов составляет содержание т. н. «списка кораблей», помещенного Гомером в конце второй песни «Илиады». Вспомним у Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины…»). Главой похода был избран Агамемнон — как самый могущественный из всех. Начало похода обернулось для греков неудачно: Аполлон послал им некое знамение, которое прорицатели истолковали как намек, что война будет продолжаться 10 лет. Затем греческие войска по ошибке высадились много южнее Трои, потерпели позорное поражение в битве с тамошними царями, а на обратном пути вдобавок еще попали в бурю и с трудом добрались домой. Все это оттянуло подлинное начало войны (по одним источникам — на несколько месяцев, по другим — на добрых 9 лет), но, как бы то ни было, герои снова собрались и двинулись на Трою, на сей раз, предварительно принеся в жертву — чтобы задобрить богов — дочь Агамемнона Ифигению; этот эпизод позднее стал сюжетом многих трагедий. Высадившись на Троянской равнине, греки долго стояли у неприступных стен Трои, то и дело сходясь с троянцами в рукопашных схватках, где удача попеременно склонялась то на одну, то на другую сторону. Но вот в начале десятого года осады события обрели драматический оборот. Произошла бурная ссора между Агамемноном и Ахиллом: оскорбленный тем, что микенский царь отнял у него пленницу Брисеиду, гордый Ахилл, этот главный герой похода, отказался участвовать в сражениях и укрылся в своем шатре. Узнав об этом, троянцы вышли из города, навязали грекам бой и стали теснить их к гавани, где стояли на якорях греческие корабли. Греки в панике обратились за помощью к Ахиллу, но тот снова отказался выйти в поле, хотя и согласился послать туда своего побратима Патрокла. Но когда главный герой троянцев Гектор (еще один сын; царя Приама) убил Патрокла, обуянный жаждой мести Ахилл бросился наконец в бой и, в свою очередь, убил Гектора. Он устроил торжественное сожжение трупа Патрокла и намеревался уже предать позорному погребению останки Гектора, но прибывший в его шатер престарелый царь Приам воззвал к его состраданию и к чувству воинской чести и в конце концов буквально вымолил у него труп своего сына. «Илиада» начинается со слов: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» — то есть с эпизода ссоры Ахилла с Агамемноном, а кончается сценой сожжения останков Гектора в стенах Трои. Иными словами, ее действие занимает несколько считанных дней. О завершении войны (как и о ее начале), а также о дальнейших судьбах ее героев мы знаем все из тех же внегомеровских источников (в переложении главным образом Аполлодора и Аполлония), которые рассказывают о гибели Ахилла, сраженного стрелой Париса, о гибели самого Париса, о взятии Трои с помощью Одиссеева «Троянского коня» и расправе с уцелевшими сыновьями и дочерьми Приама (Кассандра становится наложницей Агамемнона, Андромаха — Неоптолема, Поликсену приносят в жертву на могиле Ахилла). Из тех же источников (а не только из «Одиссеи») становится известно, что во время возвращения героев из-под Трои многие из них погибли в буре, насланной богами в отместку за насилие, совершенное Аяксом Локридским над Кассандрой, — Менелай и Одиссей были унесены ветрами в дальние страны, где многие годы странствовали в поисках пути на родину; Агамемнон по возвращении в Микены погиб от рук собственной жены и ее любовника. Так что в целом Троянскому походу суждено было стать, как оказалось, последним великим совместным деянием древних греков и как бы ознаменовать собой завершение их древнейшей «героической эпохи»{8}. Наш пересказ может породить впечатление, что «Илиада» — это, в сущности, не столько рассказ о Троянской войне как таковой, сколько рассказ об одном ее небольшом эпизоде — о «гневе Ахилла», о том, как обиженный Ахилл сначала укрылся в своем шатре, не желая сражаться под началом Агамемнона, а потом силою обстоятельств был как бы «вытолкнут» снова на сцену боя, в центр событий. Это так и не так. С одной стороны, в центре «Илиады» действительно находится некий интересный, яркий и по-своему увлекательный эпизод, который в прошлом, до Гомера, вполне мог бы стать (а может быть, и был) сюжетом отдельной небольшой эпической песни. С другой стороны, по мере знакомства с тем, как излагает Гомер этот эпизод, становится все более ясно, что у него он служит скорее рамкой повествования, неким организующим стержнем, позволяющим исподволь и как бы вполне естественно вплести в рассказ события многих предшествующих лет войны, другие ее яркие эпизоды, впечатляющие характеристики ее главных героев и их взаимоотношений, а попутно и многое, многое другое — о людях, о. городах, о странах, о плаваниях, о богах, о пирах, о битвах и так далее, и так далее, иными словами — сделать из незамысловатого эпизода то художественное целое, что, собственно, и составляет литературу. «Гнев Ахилла», таким образом, оказывается мощным художественным средством, дающим автору возможность воссоздать гигантскую эпопею микенско-троянских времен. Типичная литература, этакая «Война и мир» трехтысячелетней давности или, если переиначить Белинского, «энциклопедия всей героической эпохи». И тут, после долгого отступления, мы возвращаемся наконец к обещанному разъяснению, почему современные специалисты считают достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал некий конкретный человек по имени Гомер, который был автором этой гениальной эпопеи. Специалисты-филологи говорят, что эта эпопея никак не могла быть продуктом некоего «коллективного устного творчества» — уже хотя бы потому, что ее продуманная «выстроенность», ее сюжетная и композиционная «организованность», ее «литературность», наконец, — все это неоспоримо свидетельствует об индивидуальном замысле. Почерк индивидуального гения безошибочно виден в том, с какой поразительной композиционной стройностью, как необыкновенно гармонично организован в «Илиаде» весь ее огромный материал, с какой продуманностью он расположен относительно объединяющей его сквозной сюжетной оси, как изобретательно поддерживается при этом его драматичная напряженность с помощью искусно вплетенных в сюжет многочисленных «отступлений в прошлое», играющих роль своего рода «сюжетных задержек», которые последовательно нагнетают у слушателей нетерпеливое ожидание триумфальной развязки (этот древний прием отлично знаком всем зрителям современных кинотриллеров и читателям современных детективов). В конце концов, ожидания, как мы уже знаем, разрешаются благополучно: Ахилл появляется из своего шатра, и «Илиада», как и положено триллеру, завершается своего рода мстительным хэппи-эндом — поражением троянцев и смертью Гектора. Патриотические слушатели Гомера, несомненно, жаждали этого возмездия. Может быть, они даже рукоплескали ему. Тем более что рассказ о последующей гибели самого Ахилла был расчетливо, иначе не скажешь, вынесен автором за скобки всей этой симфонической «романной» структуры. Однако, строго говоря, поэма не кончается на мстительной ноте. Подлинный конец «Илиады» — это плач Приама над убитым Гектором, плач, который смягчает даже сурового Ахилла, плач, в котором горькая и трагическая изнанка войны совсем по-иному высвечивает ее героическую красоту, незадолго до того воспетую тем же Гомером. Так что, в конечном счете, «Илиада» все-таки не завершается стандартным хэппи-эндом и не оборачивается банальным триллером. Пафос гомеровской поэмы куда шире и грандиозней, говорят специалисты. Созданная спустя столетия после конца «героической эпохи», она не просто отображала ее трагический закат: противопоставив его описанной перед тем с той же художественной силой картине величественного расцвета ахейской державы, объединенной под руководством могущественных Микен, она одновременно должна была заронить в душу слушателей тоску по этому былому величию, а заодно и по былому и утраченному единству. Может быть, высокий авторитет Гомера у потомков как раз и был вызван тем, что его рассказ позволял им предчувствовать и предвидеть новое единство вслед за «темными веками», отделявшими героическую эпоху от уже начинавшегося «ренессанса»? Таковы, говоря вкратце, основные выводы современной науки касательно личности Гомера. Однако, ограничившись этими выводами, мы, пожалуй, не приблизимся к ответу на вопрос, в какой степени можно доверять свидетельствам Гомера. Напротив, кое у кого сомнения в достоверности гомеровского рассказа, возможно, даже усилятся. В самом деле, скажет иной скептик, если даже современные специалисты подтверждают, что этот рассказ был сочинен, т. е. представляет собой художественный вымысел некоего автора, и вдобавок был подчинен не только художественным, но отчасти даже идеологически-патриотическим задачам, то можно ли ожидать, что такой рассказ будет исторически правдивым? А может быть, это всего лишь приятная для греческого слуха легенда? Знаем же мы, к примеру, такой, тоже авторский, поэтический роман — знаменитую «Песнь о Роланде», в которой гибель обыкновенного франкского рыцаря, павшего в засаде, которую устроили ограбленные им баски, преображена в героический национальный эпос о «великой битве» христиан… с маврами. Сомнения эти вполне естественны. Чтобы развеять их, нужно выяснить, как отвечает современная филология на вопрос о соотношении преображающего вымысла Гомера с реальной правдой греческой истории. Обратимся к филологии. >ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМА ГОМЕРА Вопрос о соотношении гомеровских поэм с исторической реальностью находится в центре так называемой «проблемы Гомера», споры вокруг которой продолжаются в филологической науке уже добрых полтораста лет. Мы уже говорили в предыдущей главе, что, по одной из версий, первый полный письменный текст этих поэм появился только во времена афинского тирана Писистрата (560–529 гг. до н. э.). Эта «Писистратова версия», выдвинутая итальянским философом XVIII века Джамбатиста Вико, была у него связана с весьма решительным утверждением, будто никакого Гомера на самом деле не было, а прозвище это (одни толкуют его как «слепой», другие — как «заложник») в действительности означало весь коллектив «аэдов», сказителей древних преданий, устно передававших разрозненные части будущей «Илиады» вплоть до писистратовых времен, когда она только и обрела благодаря записи вид единой поэмы. Хотя против этой гипотезы выступали уже многие современники Вико (Гете, например, Даже написал целый трактат, доказывая принадлежность «Илиады» одному автору), она возымела большое влияние, и первые серьезные филологические исследования, посвященные «проблеме Гомера», ставили своей главной целью разъять гомеровский текст на более мелкие куски, якобы принадлежащие различным более ранним устным сказаниям. Такой подход, рассказывают Л. Гиндин и В. Цымбурский в упоминавшемся мною (во вступлении) филолого-лингвистическом исследовании «Гомер и история Восточного Средиземноморья», основывался на господствовавшем поначалу в филологии XX века априорном представлении об устном народном эпосе как о совокупности «окаменевших» текстов, которые после своего создания передавались неизменными от певца к певцу и могли лишь «состыковываться» в готовом виде в более крупные поэмы. Считалось также, что сюжеты этих малых «первичных» текстов должны были быть крайне простыми, а поскольку Гомер начинает «Илиаду» с обещания рассказать о «гневе Ахилла» и затем то и дело нарушает это обещание многочисленными сюжетными отступлениями — в сущности, перебивает сюжет другими короткими рассказами, — такое построение казалось как раз подтверждением того, что «Илиада» является механической смесью «простых» первичных текстов. Был, дескать, в глубокой древности простенький рассказ об Ахилле и Агамемноне, построенный на традиционной формуле «обида — примирение», характерной для многих эпических сюжетов, и к этому рассказу постепенно присоединялись другие, побочные. Эта теория продержалась до 20-30-х годов нашего века. Затем, однако, в результате углубленного изучения эпических традиций, сохранившихся у некоторых балканских и азиатских народов, было выявлено, что от певца к певцу передаются не столько готовые тексты, сколько, скорее, «формульные конструкции» — набор традиционных сюжетов, канонизированных образов и ситуаций, словесно-ритмических формул и тому подобных «готовых наборов», с помощью которых каждый сказитель создает всякий раз заново рассказываемую им историю. Когда эта закономерность была проверена на материале поэм Гомера, оказалось, что и он самым широчайшим образом пользовался таким приемом. Один из исследователей подсчитал, что в некоторых частях его поэм — например, в зачинах и окончаниях речей героев или в характеристиках действующих лиц, — «формулы», от простейших до самых сложных, занимают около 90 процентов текста! Так, уже в первой песне «Илиады» предводитель. Троянского похода, микенский царь Агамемнон, именуется то «пространно-властительным», то «могучим», то «гордым могуществом», то «повелителем мужей»; а пройдя по всем 24 песням поэмы, можно обнаружить, что буквально для каждого из важнейших ее героев заготовлен набор из десятка и более таких характеристик, чередующихся в самом разнообразном порядке. Как ни странно, именно эта «формульность» гомеровской поэтики позволила М. Пэрри и А. Лорду выдвинуть утверждение, что Гомер был «индивидуальным автором внутри коллективной традиции». Это утверждение может показаться противоречивым, однако в действительности оно вполне логично. В самом деле, в том смысле, что некое эпическое сказание, каждый раз импровизируется данным певцом заново, оно действительно является его индивидуальным творчеством; но в том плане, что певец всякий раз использует общий набор элементов, присущий данной культуре и знакомый ее носителям, его произведение, несомненно, принадлежит к коллективному творчеству. Иными словами, Гомер, по мнению Лорда и Пэрри, был гениальным реализатором коллективного эпического канона. Такой точке зрения противостоял В. Шадевальдт, который в конце 30-х годов предложил изучать каждый эпизод. «Илиады» с точки зрения его функций в составе поэмы как целого и показал, используя этот подход, что гомеровская «Илиада» отличается от обычного эпоса наличием строго организованного единства. Ни один из ее эпизодов нельзя изъять, не нарушив общей связности поэмы. Композиция «Илиады» оказалась продуманной и структурно, и эстетически, а это возможно только в том случае, если текст всецело является авторским, то есть ближе к тексту, скажем, Вергилия, чем к песням неграмотных устных сказителей; это не просто реализация эпического канона, а творческое переосмысление его. Однако ведь и авторский текст может быть совершенно различным: грубо говоря, одни авторы создают близкие к подлинной истории романы-хроники, другие расшивают по исторической канве самые фантастические узоры. Что же создавал в этом смысле Гомер? Для суждения о соответствии гомеровских поэм исторической реальности войны ответ на этот вопрос имеет решающее значение. Здесь тоже имели место (и частично до сих пор продолжаются) ожесточенные споры: одни ученые — вроде Д. Пэйджа («История и «Илиада» Гомера», 1959) или Майкла Вуда («В поисках Троянской войны», 1986) — увлеченно утверждали, что «Илиаду» следует считать весьма или даже вполне надежным историческим источником, находя доказательства этого в данных современной археологии и лингвистики; другие, как влиятельный Майкл Финли («Троянская война», 1964), выражали изрядный скепсис в отношении историзма Гомера, находя в его творчестве многие черты сказки и мифа (достаточно вспомнить, что боги играют в «Илиаде» почти такую же роль, что земные герои, да и многие из этих героев описываются как дети богов). Но большинство филологов-гомероведов занимает в этом вопросе срединную позицию, которая совмещает оба указанных взгляда. С одной стороны, говорят эти филологи, эпос, в том числе и гомеровский, бесспорно содержит много мифических и сказочных элементов, поскольку он вырастает, ведет свое начало из мифа и сказки. Тем не менее эпос все-таки отличен от мифа. Как объяснял, например, замечательный российский исследователь мифопоэтики Е. Мелетинский, миф рассказывает о временах «создания» мира и всех его существующих форм, тогда как эпос занимается прежде всего «ключевыми», «героическими» периодами народной истории — вспомним былины о Владимире Красное Солнышко, героизирующие историю Киевской Руси, или, скажем, «Песню о Нибелунгах», отражающую становление раннегерманского общества в том же духе героических сказаний. Во всех этих классических памятниках мировой литературы прошлое народа воплощается по одному и тому же «эпическому канону» — в героических образах и великих деяниях. Все подобные произведения, как правило, монументальны по размаху, и все они, как показывают исследования, представляют собой заключительную стадию развития эпоса — стадию перехода к индивидуальному творчеству. Таким же было, как мы уже знаем, и творчество Гомера. Что же можно сказать об историзме такого эпоса? Этот историзм представляется несомненным (ведь и древний Киев с князем Владимиром, и раннегерманское племенное общество, и другие коллективные герои национальных эпосов различных народов существовали вполне реально), но он весьма специфичен. Эту специфичность блестяще вскрывает характеристика, предложенная крупнейшим специалистом по древним религиям Мирчей Элиаде: «Память об исторических событиях и о подлинных персонажах меняется по истечении двух-трех столетий таким образом, чтобы их можно было подвести под шаблон архаического способа мышления, неспособного к восприятию индивидуального и удерживающего в памяти лишь образцовое, то. есть сводящего события к категориям, а личности — к архетипам». Иными словами, в эпической поэзии появление, былинных, сказочных, мифологических черт попросту неизбежно, но это нисколько не противоречит ее сущностной историчности, поскольку, с другой стороны, в ней непременно должны содержаться и некоторые подлинные, фактические приметы былой истории, которые устный эпос не мог не увлечь с собой в своем развитии, как те зерна, вокруг которых только и могли кристаллизоваться его «архетипы». Эти «зерна» невозможно извлечь средствами одного лишь филологического анализа тут требуется помощь археологии и лингвистики. Мы еще обратимся к показаниям этих наук по вопросу о Троянской войне, здесь же ограничимся лишь несколькими частными примерами, подтверждающими наличие несомненных отголосков исторической реальности в эпических поэмах Гомера. Так, средства современного лингвистического анализа, основывающегося на том, что известно сегодня о диалектах Древней Греции, позволили обнаружить в гомеровском тексте прямые заимствования из языка, на котором говорили за полтысячи лет до Гомера, в древних Микенах. Немецкий исследователь Рейх заметил, что часто встречающаяся в «Илиаде» поэтическая «формула», которую можно перевести как «сила Гераклова», не укладывается в размер гекзаметра, которым написана поэма, но если написать имя Геракла так, как оно, судя по лингвистическим данным, произносилось в Древних Микенах, это противоречие немедленно исчезает. Можно думать поэтому, что данная «формула» сложилась еще в микенскую эпоху и дошла до Гомера неизменной, несмотря на изменившееся произношение. Другое яркое свидетельство в пользу исторической достоверности «Илиады» приводит И. Вуд в своей книге «В поисках троянской войны». Речь идет о так называемом «списке кораблей» во 2-й песне «Илиады». Этот список представляет собой в действительности перечень 164 греческих городов, которые послали свои корабли с воинами для участия в общем походе на Трою. Его отличие от общего стиля «Илиады», неуместность в той части текста, где он находится, и определенные расхождения с остальным текстом поэмы настолько бросаются в глаза специалистам-языковедам, что некоторые исследователи уже давно заподозрили здесь инородную вставку, а Д. Пэйдж даже выдвинул увлекательную гипотезу, что это — подлинный документ времен Микен, своего рода воинская диспозиция, отражающая расположение участников похода во время сражения. Действительно, такие длинные, однообразные списки имен, названий, предметов и т. п. были весьма характерны для древности, для периода возникновения первых, еще пиктографических (т. е. рисуночных) письменностей (полагают, что эти письменности и возникли-то из-за необходимости составлять такие списки). Но в «списке кораблей» есть и другая любопытная деталь, глубокая историчность которой выявилась лишь в наше время благодаря новейшим данным археологии. Здесь упоминаются некоторые подвластные Микенам города, многие из которых во времена Гомера уже не существовали, превратившись в руины, — например, «ветреный Эниспе» или «песчаный Пилос». Как мог Гомер знать о самом существовании этих городов, не говоря уже об этих их особенностях? А между тем раскопки Шлимана и других археологов подтвердили все эти детали. Об историзме Гомера столь же убедительно свидетельствуют и его характеристики Трои. Если бы эпос не содержал крупиц исторической реальности, Гомер никак не мог бы узнать о слабости троянских стен в одном определенном их месте — ведь эти стены давно были погребены под вековыми отложениями. Между тем раскопки Дорпфельда показали наличие такой «слабины» именно в том месте, о котором говорит «Илиада»! Правдивыми оказались и гомеровские описания военного снаряжения, упоминаемые в описании сражений под стенами Трои. Некоторые нестандартные детали этих описаний, вызывавшие недоверие историков, — например, шлем Гектора, украшенный полоской «медвежьих зубов», или «подобный башне» щит большого Аякса, — были впоследствии найдены на изображениях микенского времени, обнаруженных в ходе раскопок Шлимана, Эванса и др. Наличие и обилие всех этих реальных свидетельств далекого прошлого вынудило даже такого убежденного скептика, как М. Финли, признать, что «Илиада» во многом верно воссоздает картину жизни Древней Греции времен расцвета Микен и Трои. Подытоживая, можно сказать, что историко-филологический анализ гомеровских поэм, проведенный учеными XX века, несомненно, приблизил науку к решению загадки Троянской войны. Он показал, что «Илиада» правдиво отражает определенные исторические реалии далекого прошлого, а потому и описываемую в «Илиаде» Троянскую войну тоже может считать более или менее правдивым отражением исторической реальности. Требовать более решительного утверждения попросту нельзя. Филологический анализ не может доказать, что такая война действительно имела место. Как мы уже видели, славные войны и героические походы — одна из обязательных примет любого эпоса («категория архаического сознания», по определению Мирча Элиаде): такое сознание всегда мыслит прошлое в категориях славных войн и великих походов, независимо от того, происходили они в действительности и были ли они славными и великими. Поэтому реальность отдельных деталей — условие, хотя и необходимое, но еще недостаточное для убедительного вывода о том, что они некогда воевали друг с другом. Филологический анализ подводит к выводу о правдоподобии такой войны, но не дает и не может дать однозначных доказательств ее исторической реальности. Такие доказательства могут скрываться только в развалинах древних городов или в текстах древних рукописей. Обратимся поэтому к этим свидетелям истории — к памятникам и документам. >ГЛАВА 4 ТРОЯ И МИКЕНЫ Историко-филологический «суд над Гомером» не помог нам вынести однозначный вердикт касательно исторической подлинности или вымышленности описанной им в «Илиаде» Троянской войны. Реальность этого события может быть подтверждена или опровергнута только археологическими и лингвистическими изысканиями. Но любой археолог, который и впрямь вознамерился бы проверить правдивость гомеровского рассказа, тотчас оказался бы перед трудностью, которую выразительно охарактеризовал английский историк и писатель Майкл Вуд в своей книге «Поиски Троянской войны»: «В определенном смысле проблема историчности Троянской войны не очень изменилась со времен Фукидида, — пишет Вуд. — Гомер и мифы рассказывают нам некую историю; называемые ими места все еще существуют: некоторые из них демонстрируют явные признаки былой могущественности; другие столь же явно свидетельствуют о своей полной незначительности. Если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, как считал Фукидид, то как это доказать? Если вдуматься, Гомер рассказывает историю, в которую на первый взгляд, зная школьную историю Греции, действительно трудно поверить. Он утверждает, будто в XIV–XIII веках до н. э., т. е. чуть ли не за тысячу лет до той «классической эпохи», которую мы, собственно, и привыкли считать «Древней Грецией», здесь уже существовала могущественная цивилизация, охватывавшая почти всю территорию этой страны, включавшая в себя разбросанные по ней многочисленные города-царства во главе с Микенами и способная одновременно выставить в поход сотни боевых кораблей и тысячи воинов, как описывается в «Илиаде». В это трудно поверить еще и потому, что упоминаемые Гомером центры этой цивилизации: те же «богатые золотом» Микены, «крепкостенный Тиринф», «пыльный Πилос», «обильный стадами Орхоменос» и другие — уже в Гомеровы времена представляли собой крохотные, нищие городки, а то и просто груды развалин, да и вся греческая земля была не более чем полупустынным, нищим, безрадостным и необжитым пространством, где лишь предстояло спустя столетия подняться городам и крепостям, дворцам и храмам классической эпохи. Разумеется, Месопотамия или, скажем, Палестина тоже выглядели, еще и в XIX веке, пустынными, нищими и безрадостными, хотя, как мы знаем, за тысячи лет до того здесь действительно сменяли одна другую великие культуры. Но о тех культурах хотя бы свидетельствовали письменные памятники далекого славного прошлого, а единственным «доказательством» существования гомеровской «героической эпохи» был только рассказ самого Гомера да мифы и легенды весьма сказочного, скажем мягко, характера». Отыскать письменные памятники гомеровской «микенской цивилизации», изображенной в «Илиаде», нечего было и думать — еще и в начале XX века считалось, что письменность в Греции появилась не раньше, а то и позже Гомера, в VIII веке до н. э., то есть спустя добрых четыре-пять столетий после пресловутой Троянской войны. Стало быть, археолог, ищущий следы этой войны, мог уповать лишь на раскопки в тех местах, которые Гомер упоминал в связи с походом на Трою, — прежде всего, понятно, на раскопки самой «Приамовой» Трои и «Агамемноновых» Микен, но также, если повезет, — Орхоменоса, Тиринфа, Пилоса и многих других, что перечислены в пространном «списке кораблей» во второй главе «Илиады». Поскольку почти все эти города, как уже сказано, в виде развалин сохранились до нашего времени, обнаружить их местоположение не составляло особого труда. Вот как выглядел по состоянию на вторую половину XIX века примерный инвентарный список этого «гомеровского наследия». Открывала список, разумеется, Троя. Со времен Гомера ее приблизительное местоположение было известно всегда. Практически не было такой эпохи, когда бы современники не могли уверенно указать, где находится этот знаменитый город (что, кстати, в немалой степени подкрепляло их веру в правдивость гомеровского рассказа). С гомеровских времен и вплоть до эпохи Александра Македонского, то есть на протяжении пяти с лишним столетий, в Малой Азии, вблизи пролива Дарданеллы, существовал город, именовавшийся «Эллинской Троей», или «Новым Илионом», с величественным храмом Афины и протяженными стенами, которые, по преданию, включали в себя и останки стен Древней Трои. Чуть позже, примерно в 300 году до н. э., полководец Александра Лизимах построил южнее этой крепости новый город, назвав его Александрией Троянской; этот город (во всяком случае, его развалины) просуществовал до римских времен. Через шесть столетий после Лизимаха римский император Константин (тот, что сделал христианство официальной религией империи) построил на месте бывшей «Эллинской Трои» еще один город, который впоследствии получил название «Византийской Трои». Эта очередная Троя, в свою очередь, просуществовала несколько столетий. Ее развалины видны были даже тысячу с лишним лет спустя, во времена султана Бехмета (взявшего Константинополь). За эти тысячелетия (а от Гомера до Бехмета прошло как-никак две тысячи триста лет) Троя благодаря гомеровским поэмам превратилась в место настоящего паломничества — не было, кажется, такой исторически важной персоны, от Александра Македонского в 334 году до н. э. и до лорда Байрона в 1810 году н. э., кто не почел бы своим долгом лично приобщиться к древней славе этого места и произнести какие-нибудь подобающие ситуации слова. Александр Македонский, как утверждали его верноподданные биографы, нашел здесь (под алтарем храма Афины) меч «самого Ахилла», с которым отправился затем на завоевание Азии; Юлий Цезарь поклялся восстановить Трою и сделать ее столицей Римской империи; Константин Великий повторил эту клятву (что не помешало ему впоследствии перенести свою столицу на берега Босфора, в стратегически более важный Константинополь); и еще спустя тысячу с лишним лет упомянутый выше турецкий султан Бехмет, поставив ногу на указанную ему переводчиками «могилу Аякса», провозгласил, что, взяв Константинополь, он-де всего лишь отомстил грекам за разрушение Трои! Словом, Троя — как город, как населенное место — была несомненной исторической реальностью — уже с времен «классической» Греции и вплоть до недавней современности. Печальный факт, однако, состоял в том, что уже к началу XVII века развалины последней по счету Трои тоже были полностью погребены землей. Как писал тогдашний английский автор, «даже руины были уничтожены». Одной из причин тому было беспощадное время, другой — усердно помогавшие ему небольшие, но частые землетрясения, по сей день весьма характерные для этих малоазийских мест. В результате ТОЧНОЕ знание местонахождения «Приамовой Трои» было утрачено. Ее европейским искателям (а любителей искать ее всегда хватало) приходилось руководствоваться разве что указаниями «Илиады» и некоторых греческих мифров. Мифы эти, при всей их сказочности, содержали важные детали. Так, в одном из них (записанном в V веке до н. э. Аполлодором Афинским) рассказывалась «предыстория» гомеровской Трои. Жил будто бы некогда некий Илус, который заложил на западном берегу Малой Азии город Илион, он же Троя, окруженный мощными стенами и нависавший над самым проливом Дарданеллы, ведущим в Черное море и в Колхиду (от Дарданелл, надо думать, и название жителей Трои, которых Гомер зачастую именует «дарданцами»; впрочем, вполне возможно, что и наоборот: от жителей пошло современное название пролива). Илус якобы оставил свое Троянское царство сыну Лаомедонту, а тот, видимо, чем-то раздосадовал греков-ахейцев, потому что миф рассказывает далее, что великий Геракл, прервав, по разным «объективным причинам», свое участие в походе аргонавтов, решил навести порядок на берегах Дарданелл и предпринял поход против Трои. Поход оказался удачным для греческого героя и сокрушительным для Трои: Геракл сжег город, разрушил его стены, убил в рукопашной схватке царя Лаомедонта и посадил вместо него молодого Приама — того самого, которого в рассказе Гомера мы встречаем уже почтенным старцем с пятьюдесятью сыновьями, и двенадцатью дочерьми во дворце. Судя по этой детали, поход Геракла состоялся примерно за 2–3 поколения до Троянской войны (это значит: в XIV или, может быть, даже в XV веке до н. э.). Если довериться этому сказанию, из него можно извлечь весьма любопытные выводы. Самым важным в местоположении Трои было то, что она прикрывала — проход в Дарданеллы. Троянцы, таким образом, владели ключами к Черному морю. Это обстоятельство было крайне существенным. Поскольку греки издавна вели торговлю с народами на черноморских берегах (не случайно аргонавты искали золотое руно именно в Колхиде), свобода судоходства через Дарданеллы была для них, надо думать, весьма небезразлична; троянцы же эту свободу, видимо, пытались ограничить — в свою, разумеется, пользу. Это позволяет думать, что сказание о походе Геракла на Трою является одним из отголосков этой давней и длительной «борьбы за проливы» между греками и троянцами. Комментируя это сказание, Р. Грейвз («Греческие мифы», 1955, гл. 137) замечает, что «Лаомедонт, видимо, препятствовал греческим торговым экспедиция в Черное море, и приструнить его можно было, только разрушив город, владевший Дарданеллами». Не был ли, в таком случае, и следующий поход греков на Трою — тот, что описан Гомером, — еще одной такой «карательной экспедицией»? Как бы то ни было, всего сказанного еще недостаточно, чтобы найти, где в точности располагалась древняя Троя. Но, к счастью, есть ведь рассказ Гомера, а рассказ Гомера, надо сказать, в любом своем месте изобилует живыми, точными и зримыми деталями. И там, где Гомер описывает Трою, тоже так и видишь — могучие стены на высоком холме над равниной и две извивающиеся по ней реки (Скамандр и Симиос, ныне турецкие Медерес и Думрек Су), по которым корабли греков поднимаются почти к самым стенам;.так и слышишь вой бешеных ветров, бушующих над осажденным городом; так и ощущаешь жар, идущий от одного из бьющих под стенами источников, и ледяной холод, идущий от другого… — но здесь, пожалуй, лучше передать слово самому Гомеру (песнь 22-я, строки 145–153, сцена погони Ахилла за Гектором): «Мимо холма и смоковницы, Как он писал, этот слепой гений, три тысячи лет назад, вы только вслушайтесь: «…хладный, как град, как снег; как в кристалл превращенная влага»! Вернемся, однако, к скучной прозе. А скучная проза жизни состоит в том, что ни одно из этих поэтических указаний Гомера, увы, не помогает, оказывается, обнаружению Древней Трои. Злые колючие ветры никогда не прекращаются на всей равнине бывшего Скамандра (на это непрерывно жаловался потом в своих письмах с раскопок Генрих Шлиман); эта равнина действительно изобилует ключами, но двух таких, где. температура воды разнилась бы так сильно, как указывается в «Илиаде», ни одному искателю «Приамовой Трои», несмотря на все усилия, найти не удалось; а что касается кораблей, поднимавшихся по реке к самой крепости, то за прошедшие тысячелетия воды в этих местах отступили так далеко от прежних берегов, что ни один холм на равнине Скамандра (Мендереса) сегодня не имеет прямого выхода к морю. (Это, между прочим, было еще одной причиной упадка и разрушения последней по счету, «византийской», Трои.) Иными словами, стоя на Троянской равнине и оглядываясь кругом, можно сказать только, что Древняя Троя погребена, по-видимому, где-то в толще какого-то из многочисленных окрестных холмов, да вот беда — неизвестно какого. Иное дело Микены. Здесь в точном местонахождении древнего города не приходилось сомневаться. Даже в наше время стоит выйти из автобуса, приволокшего тебя по извивам дорог из далеких и шумных Афин в тишину курчавых гор Арголиды, как нетерпеливому взгляду тотчас открываются (точно такие, как представлял) — зубцы древних стен, охватывающие заросшую вершину крутого холма, а в тех стенах — знаменитые Львиные ворота, на удивление невысокий проход, охраняемый двумя вставшими на задние лапы безголовыми каменными львами. Знаменитое, древнее, почти «знакомое» место — только разве что неожиданно невзрачное и стесненное, как на нынешний туристский вкус. Только размах соседствующей с развалинами громадной пещеры, именуемой «гробницей Атридов», один лишь и способен, пожалуй, примирить ворчливого туриста с потерей целого дня в утомительной поездке. Почти в таком же жалком виде «Агамемноновы» Микены находились уже в гомеровские времена: древнегреческий историк Фукидид, описывая (в V веке до н. э.) город под таким названием (тогда это еще был город, а не сегодняшние развалины), называл его «небольшим», сообщая, что на битву под Фермопилами тогдашние Микены выставили всего 40 человек! Впрочем, уже через несколько столетий и этот жалкий городок исчез, превратившись в развалины, и уже во II веке н. э. историк Павсаний с удивлением размышлял: неужто эти руины и есть великая столица Агамемнона? Почти две тысячи лет спустя, в 1876 году, Шлиман увидел руины Микен в точности такими, какими их описывал Павсаний. То же самое можно сказать и о других древних «царских столицах», упоминаемых Гомером. В тех же местах, на Пелопонесском полуострове (это, кто не помнит, юго-западная оконечность материковой Греции), вплоть до наших времен поближе к морскому побережью были видные уцелевшие остатки поистине циклопических укреплений гомеровского «крепкостенного Тиринфа». А в срединной Греции, вблизи Афин, можно было увидеть развалины некогда «богатого стадами» Орхоменоса. Несколько хуже обстояли дела с «песчаным Пилосом», еще одним центром воспетой Гомером «микенской цивилизации». Хотя город с таким названием существует и сейчас, на западном берегу Пелопонесса, но недаром у греков издавна была в ходу поговорка: «После Пилоса был еще один Пилос, а рядом еще один»; города с таким названием сменяли в этих местах друг друга неоднократно, так что найти погребенные в земле руины самого древнего из них, гомеровского, тоже было непросто. Шлиман, во всяком случае, ошибся, начал искать Пилос. не там, ничего, естественно, не нашел и в досаде прекратил раскопки. Только перед самой Второй мировой войной Карлу Блегену удалось отыскать «настоящий» древний Пилос. Проведя эту беглую «инвентаризацию руин», мы можем лишь, кажется, воскликнуть вслед за другими скептиками: «Да действительно ли существовала, и притом уже в той баснословной, покрытой мраком забвения древности, то бишь в XIV–XIII веках до н. э., — та могущественная «микенская цивилизация», которую изобразил Гомер в своей «Илиаде»? Да неужто уже в те «варварские», по греческим меркам, времена этот невзрачный ныне городок Микены был столь могуществен и влиятелен, что мог организовать общегреческий — многолюдный, многокорабельный и многолетний — поход против Трои?» Пыльная скудность всех этих развалин способна, скорее, убедить лишь в обратном. Как я уже заметил, мы не окажемся одиноки в своем скептицизме. Этот вопрос задавал себе еще Фукидид, удивленный неприглядностью современных ему Микен, и из его текста видно, как он буквально заставлял себя поверить в правоту Гомера: «Верно, Микены. — небольшой город, и многие города того периода выглядят сегодня не очень внушительно, но мы… не имеем права судить города по их внешнему виду, а не по их реальному могуществу.» Весь вопрос, однако, как раз и заключался в том, существовало ли в описанные Гомером времена это «реальное могущество». И здесь нам остается лишь вернуться к уже процитированным словам Майкла Вуда: «В определенном смысле проблема… не очень изменилась со времен Фукидида — если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, то как это доказать?» Специалисту, историку, ученому и впрямь очень трудно найти это зерно. Он знает, что когда-то, примерно за две тысячи лет до нашей эры, Греческий полуостров заселили дикие племена, пришедшие откуда-то из глубин Малой Азии или Балкан; что и после этого здешние земли раз за разом становились добычей очередных завоевателей-варваров, последними из которых были вторгшиеся с севера (примерно в 1100 году до н. э., много позже предполагаемых времен Троянской войны) племена дорийцев; что затем в истории Древней Греции наступил многовековой провал, который ее собственные (более поздние) летописцы назвали «Темными веками»; и что из этого своего беспамятства Греция вышла на свет истории лишь в начале VIII века до. н. э. — скудно заселенной, бедной, безграмотной страной, самый великий тогдашний поэт которой, Гесиод, сочинял свою (ныне знаменитую) философско-мифологическую поэму «Теогония», в изнеможении бредя за буйволом, медленно тащившим железный плуг по нищей борозде. Величие того, что мы сейчас называем «Древней Грецией», лежало далеко впереди Гомера и Гесиода, и какой же грамотный историк решился бы (без всяких тому фактических подтверждений, на основании одних лишь поэм Гомера) всерьез утверждать, что еще большее величие Греции лежало далеко позади, за бездной «Темных веков», еще до вторжения дорийцев, в некой «героической эпохе» некой «микенской цивилизации»? Уже тогда разговоры о «великих исчезнувших цивилизациях» (о которых к тому же зачастую и по сей день утверждается, будто они намного превосходили цивилизации современности) вызывали у всякого серьезного ученого определенную интеллектуальную неловкость. Не случайно ведь педантичный немецкий историк XIX века Г. Гроте начал свою «Историю Греции» лишь с Олимпиады 776 года до н. э., с первого греческого события, о котором есть надежные письменные свидетельства: «Все предшествующие времена, — писал он, — это область поэзии и легенд». К счастью для науки, за поиски Трои и Микен взялся любитель-дилетант, который не был серьезным ученым и потому верил в правдивость этих «легенд». Этим смельчаком, как всем сегодня известно, был Генрих Шлиман. >ГЛАВА 5 ШЛИМАН: ОТКРЫТИЕ МИКЕНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Существуют, две биографии Генриха Шлимана. Согласно первой из них, любящий отец (протестантский пастор) подарил семилетнему сыну толстую книгу «Всеобщая история», содержавшую пересказ «Илиады», и тем самым навсегда заронил в маленького Генриха мечту отыскать описанную Гомером Трою. Дальнейшее общеизвестно: разбогатев на деловых операциях, Шлиман решил осуществить свою детскую мечту, сменил сюртук бизнесмена на блузу археолога, отыскал, согласно указаниям Гомера, в которые он свято верил, старинный холм, в толще которого скрывались остатки древней Трои, и — раз-два! — обнаружил там ее развалины. Затем он примерно тем же способом (раз-два!) нашел в развалинах Микен гробницу древнего царя Агамемнона, руководившего, согласно Гомеру, походом греков на Трою, и тут уж его слава стала поистине всемирной, но в это время он как-то неожиданно умер — упал прямо на улице и в одночасье скончался. Лет его жизни, как говорилось в старину, было 68 — с 1822-го по 1890-й. Существует вторая биография Шлимана, не столь — лубочная, как первая. Шлиман, несомненно, заслужил звание «отца археологии», как некогда Геродот — «отца истории», но это не отменяет того факта, что его методы раскопок были ужасны и разрушительны, а датировка — приблизительна и, как правило, ошибочна. Он был неутомим и самоотвержен в археологическом труде, но окружал свои находки шумной и отталкивающей рекламой, достойной скорее бизнесмена, каким он и был, нежели ученого, каким он не был. Он был одарен потрясающей интуицией, но начисто лишен вкуса (чего стоила напыщенная телеграмма, отправленная им в греческие газеты с раскопок в Микенах: «Сегодня я взглянул в лицо Агамемнона»!). Его жизнь была полна удивительных коммерческих подвигов (дерзкие, на грани закона, деловые операции в России, спекулятивная скупка золота у старателей Калифорнии, монополизация порохового рынка во время Крымской войны и другие хищные налеты на легкую добычу), но он еще вдобавок и сам приукрашивал и расцвечивал ее собственным вымыслом (своему отцу, запойному пьянице и мелкому семейному тирану, он писал уже в зрелом возрасте: «Я рассказал журналистам, что это ты впервые познакомил меня с историей Трои и с тех пор я начал мечтать о том, как я ее отыщу…» — словно наставляя престарелого родителя в своей придуманной «на продажу» биографии). Он оставил по себе 11 толстых книг о своих открытиях, 18 путевых дневников, 60 тысяч писем и 175 томов раскопочных тетрадей, но исследователи до сих пор не могут понять, где факт, а где вымысел в этой огромной массе материала. Например, в своей книге «Троя» он рассказал почти детективную историю о том, как во время раскопок Трои его жена, гречанка Софья, приметила в глубине траншеи полускрытое землей золотое ожерелье и как ей пришлось прикрыть его своей длинной юбкой, пока Шлиман не уговорил рабочих разойтись на обед, чтобы скрыть от их завистливых глаз поразительную находку, составлявшую, как оказалось, лишь ничтожную часть богатейшего клада, который впоследствии получил название «сокровища царя Приама». Однако куда более поразительным, чем эта находка, многие тогдашние недруги и нынешние биографы считают тот факт, что в действительности (это доказано вполне надежными документами) Софьи Шлиман в это время не было не только на раскопках, но и вообще в Турции! Был даже пущен слух, что «сокровища Приама» Шлиман купил на стамбульском рынке и сам подбросил в траншею. Доказать или опровергнуть это не удалось: после того как Шлиман тайком от турецкого правительства вывез сокровища в Грецию, основная их часть бесследно исчезла. Сохранились лишь немногие фотографии и среди них самая знаменитая — Софья Шлиман «в диадеме и ожерелье Елены Прекрасной»{9}. Знакомясь с этим списком претензий, начинаешь удивляться — что же все-таки сделал этот человек, которого обвиняют в том, что он чуть ли ничего не сделал? Шлиман сделал великое дело. До него вся так называемая «археология» состояла в том, что сотни любителей искали в старинных развалинах зарытые там сокровища или случайно сохранившиеся старинные, рукописи и предметы искусства; в лучшем случае они составляли описания развалин и собирали то, что лежало на поверхности. Шлиман был первым, кто стал вести планомерные и целенаправленные раскопки, и притом с серьезной научной целью — найти следы древней цивилизации, обнаружить не столько ее клады, сколько ее историю и культуру, проверить рассказы древних об их далеком прошлом. Эти первые широкие поиски материальных свидетельств прошлого и породили всю современную научную археологию как исследовательское орудие историков. Спору нет, они породили также и то, что можно назвать «сенсационной археологией» — ту ее глянцево-приукрашенную, облегченно-газетную версию, что то и дело возбуждает читателей во всем мире открытием какой-нибудь очередной гробницы Тутанхамона. Но в науке главным достижением Шлимана является все-таки не находка «сокровища Приама» или «маски Агамемнона», а обнаружение «Приамовой Трои» и «Агамемновых Микен» — впечатляющее «воскрешение из мертвых» необыкновенно сложного и многоцветного мира, погребенного в глубинах прошлого. Напомню: к началу работ Шлимана наука о человеческой истории находилась в самом зачаточном состоянии; даже термины «палеолит» и «неолит» были придуманы лишь за несколько лет до того, а первая книга о древней истории (Вильсон: «Предысторические анналы») появилась только в 1851 году; но уже тридцать лет спустя Р. Даукинс имел все основания говорить: «Археологи подняли изучение древностей до уровня настоящей науки». И кто же ее поднял на этот уровень за столь короткий срок? Вот именно — Генрих Шлиман в первую очередь. Пусть поначалу дилетантски-грубо, с неизбежными издержками, с ошибками и преувеличениями, но именно он (и поначалу в одиночку) проделал всю или почти всю работу по превращению археологии в науку, — и первый шаг к этому он сделал в 1868 году в Турции, на холме Гиссарлык. Я уже рассказывал, что множество холмов на Троянской равнине оспаривало честь быть хранилищем остатков Древней Трои, подобно тому, как множество городов Древней Греции оспаривали в свое время честь считаться родиной Гомера. Главными фаворитами были Гиссарлык, находившийся на самом краю плато, обрывавшегося к равнине Мендереса-Скамандра, и лежавший несколько дальше в глубине плато Бурунбаши. Шлиман мог бы ошибиться в своем выборе места раскопок (как он впоследствии ошибся при поисках Пилоса), но, на его счастье, сопровождать уважаемого гостя в экскурсии по Трое вызвался большой знаток тамошних мест и по совместительству американский консул в этой провинции Оттоманской империи Франк Кальверт. Этот незаурядный, судя по воспоминаниям, человек тоже интересовался древностями и даже предпринял некогда пробные раскопки на Гиссарлыке. Заложенная им траншея была неглубока и коротка, но и этого хватило, чтобы убедиться, что холм содержит несколько «культурных слоев» (следов существовавших здесь когда-то одно за другим и одно над другим поселений). Под влиянием Кальверта Шлиман решил искать Трою именно на Гиссарлыке{10}. Свои раскопки он начал в 1871 году. К концу третьего года работ Шлиман вскрыл пять последовательных культурных слоев, один под другим, и убедился, что каждый из них представлял собой останки сменявших здесь друг друга древних городов. К сожалению, будучи дилетантом в предпринятом им новом деле, Шлиман приказывал рабочим вести траншею напрямик, сквозь все препятствия, и в результате разрушил попутно многие более поздние останки. Позднее он оправдывался: «Поскольку моей целью было раскопать Трою, которую я ожидал найти в одном из самых нижних слоев, я был вынужден разрушить руины в слоях более высоких». (Как теперь известно, он попутно разрушил руины и той Трои, которую искал.) Тем не менее во втором снизу слое на глубине 15 метров (по нынешней нумерации, это Троя-2) он обнаружил более или менее «гомеровский» элемент: развалины большой крепостной башни. В марте 1873 года в этом же слое были найдены остатки мощеной улицы, покрытые толстым слоем разноцветного пепла (пепел — это пожар, а пожар — это война!), а также развалины двух больших ворот, заваленных обломками. И, наконец, несколько позже, под самый конец сезона, здесь же были раскопаны и знаменитые «сокровища Приама» — золотая «диадема Елены Прекрасной», как тотчас назвал ее Шлиман, собранная из 16 тысяч золотых звеньев, и множество других золотых украшений{11}. Все это убедило его, что он отыскал заветную цель. Да и как иначе: укрепления, сокровища, а главное — пепел! Пепел — это пожар, а пожар — это война, не так ли?! И какая же, если не Троянская? С момента сенсационной публикации всех этих гиссарлыкских открытий за Шлиманом прочно укрепилась слава «человека, который нашел Трою». В каком-то смысле это было справедливо, потому что он действительно нашел «точное местоположение» этого древнего города. Однако ту Трою, которую он искал — гомеровскую, «Приамову» Трою, — найти оказалось значительно труднее. Шлиман поторопился, объявив ею найденную им Трою-2. Это отождествление сразу вызвало у специалистов серьезные сомнения: Троя-2 была слишком мала по размерам (всего 100*80 метров), а грубость и примитивность ее строений никак не соответствовала пышным описаниям Гомера. Шлиман, правда, пытался убедить скептиков (а заодно, наверно, и самого себя), что «Гомер был эпический поэт, а не историк; к тому же он видел Трою через 300 лет после ее разрушения», но и сам не мог не согласиться: «Если Троя действительно была таким небольшим по размерам городком, то несколько сот человек могли взять ее за несколько дней, и тогда всю «Троянскую войну» пришлось бы признать полным вымыслом…» Эти сомнения заставили его вскоре вернуться на Гиссарлык. И еще не раз вернуться. В промежутке, однако, он совершил поистине «кавалерийскую атаку» на Микены, которые Гомер описал как столицу Агамемнона, возглавлявшего Троянский поход. Как и на Гиссарлыке, он руководствовался здесь буквалистским прочтением свидетельств древних авторов — в данном случае историка II века Павсания. В своем описании Микен Павсаний утверждал, что гомеровский Агамемнон был похоронен внутри стен древней крепости. Поскольку сохранившиеся к XIX веку стены Микен охватывали очень малое внутреннее пространство, недостаточное для размещения пышных царских гробниц, все исследователи считали, что Павсаний имел в виду какие-то другие, наружные, более протяженные стены, которые, видимо, разрушились еще в старину (останки таких стен были, действительно, найдены при последующих раскопках, уже после Шлимана). Но Шлиман, читавший своих древних наставников буквально, начал раскопки именно в пределах сохранившихся стен, с внутренней стороны Львиных ворот. Слой обломков, заваливших здесь бывшую крепостную площадь, был в несколько метров толщиной; Шлиман, не задумываясь, приказал своим рабочим вымести этот слой и проложить через расчищенное место горизонтальную траншею. Стоит ли говорить, что он опять нашел то, что искал! Раскопки почти сразу вскрыли поразительное сооружение — ряд вертикально поставленных плоских каменных плит, образующих кольцо диаметром метров в тридцать. Площадка внутри этого круга явно была выровнена еще в древности, и на ней, вкопавшись до самого скального основания, рабочие обнаружили входы в пять вертикальных округлых колодцев-гробниц. Эта площадка впоследствии получила название «первого круга гробниц». Но главное состояло в том, что в этих гробницах были обнаружены сохранившиеся с глубокой древности останки девятнадцати мужчин и женщин и двух детей. Их скелеты были буквально погребены под грудой бесчисленных золотых украшений и предметов; на лицах мужчин были золотые маски, черты которых повторяли черты их лиц; тела были покрыты доспехами из золотых листьев; на женщинах были золотые браслеты и диадемы; вокруг лежали мечи и кинжалы с изумительными изображениями батальных и охотничьих сцен, кубки и чаши с тончайшими рисунками и многое-многое другое{12}. Что должен был подумать человек, наизусть знавший Гомера, увидев эти богатейшие захоронения? Мы точно знаем, что подумал Шлиман, потому что сохранилась телеграмма, посланная им в тот же день греческому королю: «С огромной радостью спешу известить Ваше Величество, что я нашел гробницы, представляющие собой, согласно рассказу Павсания, захоронения. Агамемнона, Кассандры, Евромедона и их спутников, которые были убиты во время пиршества Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом». Традиция, идущая от Гомера, действительно утверждает, что великий микенский царь, руководитель Троянского похода Агамемнон по возвращении домой был предательски убит на пиру вместе со своими приближенными и наложницами, в том числе Кассандрой и ее двумя детьми, а в найденных им гробницах Шлиман действительно обнаружил скелеты нескольких мужчин, а также женщин и двух детей, так что у него были все основания для восторженной телеграммы, но, как и в случае с Троей-2, он опять оказался не прав. Его датировка была ошибочной: как выяснилось позже, найденные им скелеты, по меньшей мере на 300 лет были старше предположительной даты Троянской войны. Доказательство реальности Троянской войны опять ускользнуло, но зато обнаружилось нечто иное, и, быть может, намного более важное. В самом деле, если уже за триста лет до пресловутой Троянской войны цари Микен (а внутри стен наверняка находились гробницы царей) располагали такими богатствами и их хоронили с такой пышностью, то лучшего доказательства могущества и величия Микенского царства трудно и желать. Более того, как показал впоследствии американский археолог профессор Алан Вэйс, руководитель многолетних систематических раскопок в Микенах в 30-е годы XX века, останки, найденные Шлиманом, в действительности принадлежали людям разных эпох и в совокупности покрывали время от XVI до XIII века. А это уже позволяло утверждать, что Микены, как и говорил Гомер, на протяжении ряда столетий действительно были центром богатого и мощного государства, а возможно, и всей тогдашней греческой цивилизации. Но Шлиман нашел и другие, хоть и более мелкие, но крайне важные подтверждения правдивости рассказа Гомера. На некоторых золотых украшениях были изображены те самые загадочные «башнеподобные» щиты, прикрывавшие тело воина с головы до пят, которые у Гомера принадлежали «большому» Аяксу и подобных которым в гомеровские времена уже не было. В другой гробнице была найдена золотая чаша с двумя ручками в виде голубей, очень похожая на описанную Гомером в «Илиаде» чашу героя Нестора, а также шлем с гребнем из медвежьих зубов: дословное описание такого шлема содержится в 10-й главе «Илиады». Даже сдержанные историки были потрясены: казалось, гомеровские герои явились перед их глазами живым воплощением слов Гомера. Однако, как ни сенсационны были эти находки, для развития археологии как науки куда более важными оказались многочисленные образцы древней посуды, найденные Шлиманом в Микенах. До того, в Трое, он находил лишь отдельные черепки каких-то непонятных эпох. Обилие найденной им теперь керамики впервые позволяло специалистам произвести более или менее точную датировку этих эпох путем сопоставления микенских черепков с остатками аналогичной посуды, обнаруженной в других местах Средиземноморья, прежде всего — на раскопках в Египте, хронология культурных слоев которого благодаря обилию и детальности письменных памятников известна весьма точно. Детальная разработка этого метода датировки заняла еще многие годы, но в конце концов ее принципы были установлены достаточно прочно, что позволило со временем заложить основы надежной микено-троянской хронологии. Шлиману не суждено было воспользоваться этим методом. Его уверенность, что он нашел гробницу Агамемнона, оставалась непоколебимой и подвигла его продолжить поиски «микенской цивилизации», на сей раз — в Орхоменосе, том самом, о котором Ахилл у Гомера говорит: «Даже ради богатств Орхоменоса не соглашусь». Подобно останкам Микен, развалины Орхоменоса (с огромной гробницей, некогда описанной все тем же Павсанием) сохранились на виду, и Шлиман быстро произвел там разведывательные раскопки. Золота он, однако, не обнаружил, других сенсационных находок тоже (если не считать очередного обилия черепков), и уже через несколько недель прервал работу; единственным ее результатом было обнаружение удивительного сходства гробницы в Орхоменосе с гробницей в Микенах (позднее была высказана гипотеза, что их строил один и тот же архитектор). Из Орхоменоса, лежавшего к северу от Афин, Шлиман направился к развалинам древнего Тиринфа, расположенного к югу от Микен, почти у самого берега моря («крепкостенный Тиринф» у Гомера, откуда под Трою пришел царь Диомед со своими воинами: «Осмьдесят черных судов под дружинами их принеслося». Циклопические стены этого города тоже сохранились с древних времен и не могли не привлечь внимание Шлимана. Свои раскопки в Тиринфе Шлиман начал в 1884 году, на сей раз вместе с архитектором Дорпфельдом, и участие этого молодого человека, который впоследствии вырос в серьезного, самостоятельного археолога, оказалось весьма существенным: именно Дорпфельд помешал Шлиману проложить траншею, которая наверняка бы уничтожила таившийся под обломками средневековой византийской церкви древний царский дворец. В результате вмешательства Дорпфельда дворец был раскопан неповрежденным, что позволило впервые воочию узреть многие детали замечательной дворцовой и крепостной архитектуры XIV–XIII веков до н. э. Они опять оказались предельно совпадающими с описаниями Гомера, и Шлиман не замедлил оповестить мир о своем очередном сенсационном открытии: «Я извлек на свет великий дворец легендарных царей Тиринфа, — писал он, — и отныне до конца времен никто не сможет опубликовать книгу о древнем искусстве, не упомянув о моем открытии». После Тиринфа Шлиман предпринял еще несколько попыток: следуя путями гомеровских героев, он безуспешно искал местонахождение «Менелаевой Спарты»; затем пробовал копать в упоминаемом Гомером «песчаном Пилосе» царя Нестора, но, как я уже говорил, ошибся в местоположении древнего города и ничего существенного не нашел; и, наконец, несмотря на огромную усталость («Я испытываю огромное желание до конца моих дней устраниться от раскопок…»), решил снова «копнуть» в любимой Трое. Он уже был тут несколько раз в промежутке между раскопками в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе, Пилосе и каждый раз находил что-то новое и неожиданное. Но все эти открытия не приносили ему того удовлетворения, которое он так хорошо имитировал в своих победных реляциях на публику. Его продолжали одолевать сомнения. Возражения скептиков разъедали его уверенность. Он возвращался и снова искал — искал доказательств, которые бы окончательно и однозначно убедили скептиков (и его самого), что найденная им Троя-2 — это действительно «Приамова Троя». И вот теперь он решил возвратиться сюда снова — поискать еще раз. Кто ищет, тот, как известно, всегда найдет. Хотя, конечно, не всегда то, что ищет. >ГЛАВА 6 «ПРИАМОВА» ТРОЯ — ВТОРАЯ, ШЕСТАЯ, СЕДЬМАЯ? В сознании широкой публики слава Шлимана как «первооткрывателя Трои» связана с его сенсационными открытиями 1871–1873 годов — раскопками в Трое-2 и обнаружением там «Приамового сокровища». Но, как мы уже сказали, среди специалистов оставались многие, кто весьма скептически относился к Шлиманову отождествлению Трои-2 с гомеровской Троей. Сомнения, как мы тоже уже говорили, были и у самого Шлимана; вот почему в промежутках между раскопками в Греции — в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и Пилосе — Шлиман неоднократно возвращался на Гиссарлык. Первый раз он вернулся в 1878–1879 годах, — но единственным результатом этих двух раскопочных сезонов было лишь открытие еще одного, самого глубокого культурного слоя. Судя по находкам, этот слой принадлежал к далеким доисторическим временам и к гомеровской Трое отношения не имел. Еще через два года, в 1881-м, Шлиман объехал верхом на лошади самые дальние окрестности Гиссарлыка, словно отыскивая другие возможные места раскопок, но ничего подходящего не нашел и в 1882 году снова вернулся на Гиссарлык, на сей раз вместе со своим новым помощником Дорпфельдом. И вот тут, наконец ему улыбнулась удача. Продолжив раскопки в Трое-2, он обнаружил новые признаки существовавшего здесь в древности укрепленного города — еле заметные следы кольцевых стен, почти стертые временем остатки мощных бастионов, а главное — развалины обширного здания, напоминавшего царский дворец. Вкупе с прежними находками в том же слое это делало Трою-2 куда более соответствующей описаниям Гомера, и Шлиман не замедлил известить своих друзей и недругов: «Моя работа в Трое завершена окончательно. Я доказал, что в глубокой древности на, этой равнине находился большой город, разрушенный страшной катастрофой и в точности отвечающий гомеровскому описанию…» Увы, победоносное извещение и теперь оказалось преждевременным. В 1889 году Шлиман с Дорпфельдом в очередной раз вернулись на Гиссарлык, чтобы расширить раскопки Трои-2, и почти сразу же наткнулись на обескураживающий факт. Заложенная ими новая траншея вскрыла следы еще одного дворцового зала, в помещениях которого оказалось множество остатков посуды микенского («Агамемнонова») типа, но, увы, культурный слой, в котором располагался новонайденный дворцовый зал с его посудой, оказался шестым, считая снизу, то есть намного более поздним, чем Троя-2. Если Шлиман был прав и Троя-2 была, как он утверждал, гомеровской, то кому тогда принадлежали дворец и посуда Трои-6? История не знала на этом месте более поздних городов с такими дворцами, да и посуда не соответствовала более позднему времени. Если же гомеровской была новонайденная Троя-6 (на что могли указывать дворец, а главное, датировка посуды), то, что же тогда нашел Шлиман в Трое-2? Все здание троянской датировки Шлимана вдруг заколебалось, и стало понятно, что без новых раскопок не обойтись. Шлиман назначил эти работы на следующий, 1891 год, но ему уже не суждено было вернуться на Гиссарлык — в том же году он скоропостижно умер после неудачной операции застуженного на раскопках уха: свалился прямо на улице, парализованный и утративший речь, был доставлен в больницу для бедных и через несколько часов, не приходя в сознание, скончался. Польский писатель Генрих Сенкевич, случайно оказавшийся свидетелем отправки его тела домой, в Афины, позднее писал: «Хозяин отеля подошел ко мне и спросил: «Знаете ли, вы, кто этот господин? Нет? Это великий Шлиман!» Бедный «великий Шлиман»! Подумать только — откопать Трою и Микены, заслужить, бессмертную славу у людей и так вот умереть…» Шлиман, несомненно, заслужил эту бессмертную славу как первооткрыватель Трои и, что еще важнее, микенской цивилизации, но «настоящую», гомеровскую Трою он, как вскоре выяснилось, не опознал. Установил это Дорпфельд. В 1893 году, получив от Софьи Шлиман средства на продолжение раскопок, он вернулся на Гиссарлык, заложил огромную кольцевую траншею, вокруг найденных им (в последних раскопках со Шлиманом) остатков дворца в Трое-6 и почти немедленно обнаружил останки стен, намного более грандиозных, чем все, что нашел Шлиман в своей Трое-2. Продолжая раскопки, он нашел еще целый ряд строений, некогда составлявших тот же город, — сначала остатки пяти больших, неплохо сохранившихся домов аристократического типа, затем еще нескольких сильно поврежденных зданий того же характера и, наконец, развалины могучего крепостного бастиона в северо-восточной части стены. Особенно важным было то, что повсюду в этом слое обнаруживались черепки посуды точно того же типа, что нашел Шлиман в Микенах и Орхоменосе. К этому времени уже было доказано, что такой тип посуды производился исключительно в греческих («микенских») городах XV–XIII веков до н. э., и это означало, что на Гиссарлык она могла попасть лишь из Греции; иными словами, Троя-6 имела давние и длительные — по крайней мере, с XV по XIII век — контакты с городами «микенской цивилизации». В этот промежуток времени попадала любая предположительная дата Троянской войны; а если еще добавить, что, судя по некоторым приметам, гибель Трои-6 сопровождалась тяжелыми разрушениями: крепостные стены во многих местах были повреждены, здания и дворец еще хранили следы пожара, то общий вывод напрашивается как бы сам собой: именно этот город, Троя-6, а не Троя-2, и мог быть искомой гомеровской Троей. Теперь настала очередь Дорпфельда публиковать победные реляции. Сообщая о своих находках, он писал: «Долгий спор о реальности Трои и ее местоположении пришел к концу… Шлиман оправдан… Вид крепости был несомненно знаком певцам «Илиады»…» (Шлиман, надо думать, был оправдан в том смысле, что подлинная Троя оказалась именно там, где он ее искал, хотя и не в том слое.) Дорпфельд мог бы добавить: вид крепости был Гомеру не просто знаком, а знаком детально. На одном из участков разрушенной крепостной стены раскопки вскрыли место, весьма напоминавшее то, где, по словам Гомера, «трижды Менетиев сын (Патрокл. — Р.Н.) взбегал на высокую стену»: камни здесь прилегали друг к другу так неплотно, что и турецкие землекопы, далеко не Патроклы, тоже запросто могли по ним подниматься. А в западной части крепостной стены Дорпфельд обнаружил слабо укрепленный участок, что опять же соответствовало рассказу Гомера, согласно которому Одиссей еще во время осады пробрался в осажденный город через слабину в западной части стены! Эти поразительные совпадения едва ли не более, чем всё остальное, побудили большинство исследователей согласиться с выводом Дорпфельда. Так, видный английский гомеровед Уолтер Лиф в своей книге «Гомер и история» писал: «Крепость (найденная Дорпфельдом. — Р.Н.) находится на том самом месте, где ее помещала гомеровская традиция». И продолжал: «Отсюда следует историческая реальность Троянской войны. Можно даже думать, что, по крайней мере, некоторые из героев Гомера тоже были реальными участниками той войны и носили те же имена, что у Гомера». Другим специалистам тоже казалось, что долгие поиски Трои наконец-то благополучно завершились. Но Троя и на этот раз приготовила своим искателям неприятный сюрприз. Примерно через сорок лет после Дорпфельда, в 1932 году, на Гиссарлык прибыл еще один продолжатель дела Шлимана — замечательный американский ученый Карл Блеген. К тому времени он уже был широко известен специалистам во всем мире своими тщательными раскопками в «микенских» городках материковой Греции — Коракоу, Зигурос и Просимна. Эти его работы (вкупе с новыми раскопками англичанина Алана Вэйса в самих Микенах) позволили окончательно завершить создание детальной и точной хронологии культурных слоев и стилей керамики, общих для всей микенской цивилизации. Теперь, возвращаясь вслед за Шлиманом и Дорпфельдом на Гиссарлык, Блеген хотел всего лишь проверить на основе этой хронологии их датировку культурных слоев многовековой Трои. Но неожиданно для него самого это «невинное» намерение повлекло за собой сенсационные результаты. В ходе дотошного (а это он умел!) изучения Трои-6 Блеген установил, что ее стены и дома были повреждены отнюдь не военным штурмом, а естественной катастрофой: в стенах и зданиях обнаруживались сдвинутые с места камни фундамента, а сдвинуть с места фундамент могло только мощное землетрясение. Вывод опять напрашивался сам собой: если Троя-6 погибла не в результате осады и штурма, то, значит, Троя-6 тоже не является гомеровской Троей! Точно так же, как Дорпфельд в свое время опроверг Шлимана, Блеген теперь опроверг Дорпфельда, и с убедительностью этого опровержения вынужден был согласиться и сам Дорпфельд, когда в 1935 году посетил раскопки Блегена. Но Блеген сделал и нечто намного большее. Поняв, что Троя-6 не может быть гомеровской, он стал искать следы гомеровской Трои в более поздних культурных слоях. Он проделал гигантскую работу по детальнейшей датировке всего Гиссарлыкского холма, от основания до макушки, и выявил в нем 11 культурных слоев, которые распадались на пятьдесят (!) подслоев. Два из них — 7а и 7б — располагались непосредственно над Троей-6, друг за другом, и, как оказалось, в одном из них, в подслое 7а, Блегена ожидали поистине сенсационные открытия. Прежде всего, он установил, что город, возникший на развалинах Трои-6 спустя примерно полвека после ее разрушения (Блеген назвал его «Троя-7а!»), был построен внутри тех же стен, что и Троя-6. Это означало, что многие из характеристик Трои-6, открытых Дорпфельдом, — участки стен, поврежденные штурмом, неплотно уложенные камни в том месте, где, по Гомеру, пытался взбежать на стену Патрокл, слабина в западной стене, могучие ворота и бастионы, даже характер посуды — все это относилось и к Трое-7а. Это означало также, что спустя полвека люди вернулись на развалины и отстроили свои жилища, но почему-то не стали восстанавливать разрушенные крепостные укрепления. Почему? Объяснение этого факта потребовало дальнейших раскопок, в ходе которых Блеген сделал еще более поразительные открытия. Изучая характер построек в исследуемом подслое, он установил, что постройки Трои-7а были куда бедней и примитивней, чем в непосредственно предшествовавшей ей Трое-6, раскопанной Дорпфельдом, но зато их было намного больше. Там, где раньше высилось лишь несколько элегантных зданий, группировавшихся вокруг дворца, теперь располагался запутанный лабиринт однокомнатных каменных строений, настоящих лачуг, явно построенных на скорую руку, как попало, вплотную друг к другу, в страшной скученности. Троя-7а мало походила на царственную Трою-6 — она, скорее, напоминала лагерь беженцев. Казалось, будто окрестные жители внезапно хлынули в разрушенный землетрясением город и наскоро стали строить жилища-времянки среди развалин, не имея ни времени, ни средств восстановить прежние здания и дворцы или залатать поврежденные крепостные стены. Более того, внутри многих лачуг, у входа, Блеген обнаружил следы некогда вкопанных в землю громадных, в человеческий рост, глиняных сосудов, в которых древние. обычно хранили съестные припасы. Впечатление было такое, будто жители не просто бежали за стены от какой-то внезапной опасности, но еще и ждали длительной осады — потому и собирали запасы продовольствия. Об «осадном положении» говорило и почти полное отсутствие в развалинах Трои-7а каких-либо следов импортной посуды или тканей — все находки были местного производства, как будто связи города с наружным миром были перерезаны. Свое последнее открытие Блеген сделал уже внутри жилищ Трои-7а. Их стены демонстрировали следы насильственного разрушения, там и сям обнаруживались куски обожженного дерева, под одной повалившейся стеной был найден человеческий скелет, в другом месте — человеческий череп, пробитый стрелой. Эти следы разрушения и гибели могли быть оставлены только войной. Взятые вместе, все эти находки выстраивались в связную картину: известие о приближении врага — торопливое бегство людей со всей округи под защиту крепостных стен — осада — штурм — взятие и разрушение города. По оценке Блегена, Троя-7а была взята штурмом не более чем через 50 лет после землетрясения и не позднее чем в 1240 году, т. е. «именно в тот период, — писал он, — когда микенские царства материковой Греции переживали самый высший расцвет и наверняка были достаточно могущественными, чтобы предпринять совместную военную экспедицию» (К. Блеген, «Троя и троянцы»). То же самое можно сказать й иначе: гомеровская Троя существовала — это была Троя-7а. Ошибка Дорпфельда была вполне извинительной: не имея в руках тех методов, которыми (40 лет спустя) располагал Блеген, он приписал Трое-6 те признаки, которые на самом деле принадлежали лежавшей буквально над ней, почти без перерыва, Трое-7а. Но основной вывод Дорпфельда был, по мнению Блегена, бесспорен. «Не может быть больше сомнения, — писал Блеген в той же своей книге, — что Троянская война, в которой коалиция ахейцев, или микенцев, сражалась с троянцами и их союзниками, была исторической реальностью… И Троя-7а, которая и должна быть признана настоящей Троей, была той самой крепостью, чья осада и штурм так врезались в память трубадуров и бардов, что они передали своим потомкам имена героев, сражавшихся в этой войне». В этом замечательном обобщении итогов всех трех стадий исследования Трои — шлимановской, дорпфельдовской и собственно блегеновской — есть только одна неточность: найденные Блегеном факты в действительности свидетельствовали лишь о разрушении Трои, но не могли служить доказательством, что этому разрушению предшествовала предварительная осада. Что, собственно, подкрепляло мысль об осаде? Только разве что вкопанные у входа в дома кувшины с продуктами? Но ведь и в Помпеях тоже были найдены такие кувшины, а Помпеи никто не осаждал, как известно. Не случайно один археолог (уже после раскопок Блегена) насмешливо заметил, что «разрушение Трои — это исторический факт, но ее осада — всего лишь возможность». Новый свет на вопрос о реальности осады Трои был пролит лишь спустя полвека, когда все герои нашего рассказа давно уже сошли с исторической и просто жизненной сцены. В 1988 году, ровно через 50 лет после завершения раскопок Блегена, на Гиссарлыке начала работать новая археологическая группа под руководством Манфреда Корфмана. В числе прочего она произвела широкую разведку в окрестностях Гиссарлыка и, в частности, к юго-западу от него, вблизи высокого могильного кургана конической формы Бесик-Тепе. Во времена «классической», послегомеровской Греции (с V века до н. э. и позже) этот курган считался «могилой Ахиллеса», и именно на нем в свое время позировали для истории персидский царь Ксеркс и великий Александр Македонский. А в наше время экспедиция Корфмана сделала здесь весьма важное открытие. Во-первых, было обнаружено, что именно здесь в XIII–XII веках до н. э. (то есть во времена предполагаемой Троянской войны) находился морской берег. А во-вторых, всего в нескольких метрах от тогдашней береговой линии было найдено захоронение XIII века до н. э., содержавшее около 50 камер-гробниц с прахом кремированных людей. В гробницах сохранилось множество погребальной посуды и других предметов греческого производства. Среди этих предметов были также камни, игравшие роль личных печатей микенских аристократов. Близость этого «греческого кладбища» к тому кургану, который греческая традиция упорно именовала «могилой Ахиллеса», а также к древнему морскому берегу была слишком красноречивой, чтобы быть случайной. Гомер («Илиада», 14:30) говорил о лагере, который греки во время осады разбили вблизи моря («Их корабли от равнины, где бились, далеко стояли // берегом моря седого…»); он говорил также, что здесь же, вблизи своего лагеря, греки хоронили героев, павших во время осады. Не нашел ли Корфман этот гомеровский лагерь? Тогда это однозначно доказывало бы историческую реальность осады города. Сам Корфман сформулировал свое мнение крайне осторожно: «Я могу лишь высказать интуитивное впечатление, что открытое нами кладбище в гавани Трои, скорее всего, относится к тем временам, когда происходила Троянская война». Любопытные находки были сделаны и в самой Трое. В южной части древней Трои-6 (и 7а, соответственно) экспедиция Корфмана обнаружила остатки шести домов с таким количеством микенской посуды, которое невольно порождало вопрос, не находилась ли здесь когда-то греческая торговая колония (доказано, например, что в Милете, много южнее Трои по берегу моря, такая колония действительно существовала). В таком случае захоронению, найденному Корфманом в Бесик-Типе, можно было бы дать и другое, более прозаическое объяснение — это могло быть, например, кладбище богатых микенских купцов, живших в Трое. Корфман и впрямь нашел признаки того, что Троя-6 была достаточно большим городом, далеко выходившим за стены той крепости, которую раскопали Дорпфельд и Блеген, и потому — особенно учитывая ее географическое расположение на берегах Дарданелл — вполне могла привлечь к себе внимание купцов из разных стран. Но ведь в той же мере и по тем же причинам она могла привлечь к себе и внимание хищных завоевателей! Уж очень многое в Трое-6 и 7а несло на себе следы чисто военных разрушений. На окончательный выбор могли бы существенно повлиять показания каких-нибудь «независимых» свидетелей тогдашних событий. Но были ли у гомеровских Микен и Трои современники и одновременно близкие соседи, которые могли бы оставить такие свидетельства? Как ни странно, были — и даже два: Крито-Минойское царство на западе и Хеттская империя на востоке. К ним мы и обратимся на этом последнем витке нашего исторического расследования. >ГЛАВА 7 КРИТ И МИКЕНЫ У Микен и Трои были два современника-соседа, и одним из них было Крито-Минойское царство. Заслуга его открытия принадлежит замечательному британскому археологу Артуру Эвансу. Подробный рассказ о работах Эванса увел бы нас далеко в сторону; ограничимся поэтому лишь тем, что непосредственно связано с загадкой Троянской войны. Эванс заинтересовался археологией Древней Греции под влиянием находок Шлимана в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и т. д. Ему казалось непонятным, что такая могущественная цивилизация, какой в результате раскопок Шлимана представала цивилизация Микен (ведь она простиралась чуть не на всю основную часть Греции), не оставила по себе никаких письменных памятников вроде тех, которыми засвидетельствовали свое существование Древний Египет или Шумерское и Ассирийское царства в Месопотамии. Эванс был убежден, что такие письменные следы микенского прошлого должны отыскаться, и его уверенность была подкреплена случайной находкой: в 1893 году, во время посещения Афин, некий торговец древностями предложил ему купить старинные камни с выцарапанными на них причудливыми узорами. По причине своей невероятной близорукости Эванс очень хорошо различал микроскопические детали и потому сумел разглядеть в узорах-царапинах явные следы некой системы. Он заподозрил, что это и есть разыскиваемая им микенская письменность. Однако на его вопрос, откуда камни, продавец сказал: «С Крита». Надо сказать, что Шлиман в свое время интересовался Критом и даже побывал в 1886 году в Кноссосе, что под Гераклионом, чтобы решить, не начать ли здесь свои очередные раскопки (ему это не удалось по весьма прозаической причине — турецкое правительство отказалось продать ему землю). Он с поразительной интуицией предвидел, что здесь может таиться нечто важное. «Я не буду поражен, если здешняя почва таит останки цивилизации, древность которой сделает Троянскую войну событием вчерашнего дня…» — писал он одному из корреспондентов. Разумеется, у шлимановой интуиции, как и у всякой иной, были вполне рациональные основания. Еще древние греческие мифы связывали с Критом начало науки, техники и архитектуры. Так, в знаменитом мифе о критском царе Миносе говорилось, что именно в Кноссосе легендарный архитектор, инженер и изобретатель Дедал построил царю дворец, а под ним — Лабиринт, куда был упрятан получеловек-полубык Минотавр, которого похотливая жена Миноса родила от совокупления с быком и который питался исключительно человечиной. Миф о Тезее рассказывал, как афинский герой Тезей пробрался в лабиринт, убил Минотавра и выбрался обратно с помощью нити Ариадны, дочери царя Миноса. Если верить мифу, этот подвиг Тезея избавил Афины от древней обязанности ежегодно отправлять в Кноссос человеческую дань. Если рассматривать эту легенду как отражение реальности в мифологическом сознании, она означает, что Афины, видимо, были подчинены Криту. Поэтому можно думать, что могущественное царство Миноса, владея множеством боевых кораблей, сумело подчинить себе и многие другие города — как на островах Эгейского моря, так и в материковой Греции. И действительно, в ходе своих раскопок в Микенах Шлиман нашел несколько предметов с изображением критского быка, что, собственно, и навело его на мысль, что между Микенами и Критом могла существовать древняя связь — не случайно же его любимый Гомер упомянул критского царя Идоменея в числе властителей, приславших, по призыву Агамемнона, свои корабли и воинов под Трою. Так что визит Шлимана на Крит был целенаправленным — он надеялся отыскать там следы древних крито-микенских связей. Эванс прибыл на Крит с другой целью — найти здесь следы «микенской письменности». Он быстро убедился, что камней с загадочными надписями, вроде купленного им в Афинах, здесь превеликое множество — местные женщины носили их на груди в виде амулетов и называли «молочными камнями». Но у местного археолога-любителя Калокаириноса он увидел еще более любопытный предмет — глиняную табличку, сплошь покрытую несомненными письменами. Калокаиринос нашел ее в ходе своих пробных раскопок в Кноссосе, когда проложенная им траншея вскрыла остатки обширного дворцового комплекса, стены которого были покрыты охровой краской, а полы завалены щебнем и обломками глиняной посуды. Прослышав о дворце, Эванс немедленно купил указанный ему кусок земли в Кноссосе (в отличие от Шлимана, ему это удалось, потому что к тому времени Крит уже освободился от турецкого владычества) и в 1900 году приступил к систематическим раскопкам. Первоначально весь его интерес сосредоточивался на поиске табличек; вскоре, однако, эти поиски отошли на второй план, поскольку первые же траншеи вскрыли богатейшие остатки какой-то могущественной цивилизации, значительно более древней, чем микенская (как и предсказывал за 15 лет до того Шлиман). Вскоре находки пошли сплошь и подряд: дворцовые залы с изумительными фресками на стенах, помещения с громадными сосудами, на которых были изображены сцены каких-то загадочных игр людей с бкками, статуэтки неизвестных дотоле богинь с обнаженной грудью, колонны и статуи, золотые украшения и множество обожженных глиняных табличек с отчетливыми письменами. Архитектура построек, характер живописи, детали росписей на сосудах — всё свидетельствовало о том, что открытая Эвансом культура не имела ничего общего с микенской и отличалась совершенно особым, индивидуальным характером. Постепенно усилиями других археологов, привлеченных Эвансом на Крит, выяснилось, что аналогичные дворцы, живопись, ритуалы существовали и в других районах огромного острова — на юге, в Фестосе, и на западе, в Мелии. Эванс назвал эту дворцовую культуру «крито-минойской» — в честь легендарного царя Миноса; по его убеждению, ее создателем был какой-то древний народ, возможно, пришедший на Крит из глубин Малой Азии. Современный греческий историк проф. С. Алексиу полагает, что это переселение людей из Малой Азии на Крит, на острова Эгейского моря и в материковую Грецию произошло примерно в середине третьего тысячелетия до н. э. Об общности раннего населения всех этих мест могут свидетельствовать общие для эгейских островов и Крита географические названия — Олимпус, Ида, Инатос и т. д. Возможно, географические названия с окончанием «-ос», столь многочисленные и на Крите, и в Греции — Коринфос, Кноссос, Фестос, Орхоменос, — распространились в это же время. В соответствии с нынешней хронологией, середина третьего тысячелетия до н. э. — это так называемый ранний бронзовый век{13}. Поскольку заселение Крита произошло, по теории Эванса — Алексиу, раньше, чем заселение материковой Греции, на Крите раньше возникли и предпосылки развития цивилизации. Контакты с близлежащим Египтом еще более ускорили это развитие. По мнению Эванса, около 2000 года до н. э. (т. е. в конце раннего бронзового века) лроизошло знаменательное событие: были возведены первые дворцовые комплексы в Кноссосе, Фестосе и Малии. Стала складываться «дворцовая культура». В ее основе лежало сельское хозяйство — не случайно все три дворцовых центра находились в самых плодородных районах острова. В 1700 г. до н. э., судя по археологическим данным, Крит постигла крупная естественная катастрофа, возможно — землетрясение. Однако она не прервала наметившегося развития: разрушенные дворцы были немедленно восстановлены, и последующий период стал временем высшего расцвета и могущества крито-минойского государства. Его колонии включали Теру, Родос, Карпатос, Мелос и другие острова Эгейского моря. То была «талассократия», или морская империя («таласса» по-древнегречески — море), опиравшаяся на силу своего обширного флота, равного которому не было во всем Средиземноморье. И вот в этом месте своих рассуждений Эванс подошел к. драматическому пункту: их логика с неизбежностью привела его к противоречию со Шлиманом. Дело в том, что во времена Эванса считалось, что микенская цивилизация, открытая Шлиманом, существовала в XIV–XII веках до н. э. Крито-минойская культура была явно древнее микенской — она достигла расцвета уже в XVII веке до н. э. Судя по раскопкам Эванса, она была также намного выше и изощренней: критские дворцы, архитектура, искусства, ремесла далеко превосходили все, что было найдено в материковой Греции того же времени. И вдобавок, по Эвансу, Крит с помощью своего флота контролировал все Эгейское море. Миф о Тезее утверждал, что критской власти подчинялись даже Афины. Напрашивалась мысль, что эта власть могла распространяться и на Микены с их городами. Иными словами, как бы сама собой складывалась гипотеза, что вся материковая Греция, включая Микены, была крито-минойской провинцией. Тогда некоторые приметы искусства и архитектуры, общие для обеих цивилизаций, можно объяснить тем, что дворцы в Микенах, Тиринфе, Пилосе и других центрах «микенской цивилизации», а также царские гробницы в этих городах принадлежали критским губернаторам и строились архитекторами с Крита, сосуды, утварь, оружие изготовлялись и расписывались критскими мастерами, а игры с быками и фигурки богинь были занесены критскими аристократами. Итогом этой цепи рассуждений неизбежно становился радикальный вывод: никакой особой «микенской цивилизации», на существовании которой настаивал Шлиман, не было вообще. Не удивительно, что от нее не осталось никаких письменных свидетельств. Письменность глиняных табличек — это не греческая, а крито-минойская письменность. А все найденное Шлиманом и его продолжателями в городах материковой Греции — это артефакты поздней крито-минойской культуры. Эта радикальная теория, выдвинутая Эвансом и получившая поддержку большинства историков и археологов начала XX века, столкнулась, однако, с определенными трудностями. Судя по данным критских раскопок, крито-минойская цивилизация, возникшая, по Эвансу, в 2000 году до н. э., просуществовала лишь шесть столетий. В 1420 году до н. э. (эта дата установлена достаточно надежно) какая-то загадочная катастрофа разрушила дворцы в Кноссосе и Фестосе, а с ними и все крито-минойское государство вообще{14}. Тем не менее, те же раскопки показали, что жизнь на Крите не угасла и после этого удара: дворец в Кноссосе был частично восстановлен, таблички продолжали писаться, хозяйство и торговля ожили и стали вновь развиваться. Это несоответствие требовало объяснения, и последователи Эванса его предложили. По их утверждению, города материковой Греции (Микены, Афины и др.), воспользовавшись крахом крито-минойской державы, освободились от власти критских завоевателей и сами, в свою очередь, завоевали и колонизовали Крит. Иными словами, подъем микенской цивилизации в XIV–XII веках до н. э. следовало представлять себе как восстание провинции против ослабевшей метрополии, — закончившееся ее подчинением. Но и при этом, говорили «эвансисты», Микены никогда не поднялись до тех высот, которых достигли в минойские времена. Второе несоответствие выявилось в результате раскопок 1930-х годов — А. Вэйса в Микенах и К. Блегена в Пилосе. И тот, и другой нашли в этих древних центрах микенской цивилизации глиняные таблички с точно такими же письменами, какие Эванс нашел на Крите. И тот, и другой нашли в своих раскопках такие исторические и культурные свидетельства, которые невозможно было уложить в Эвансову схему истории материковой Греции как критской колонии, населенной тем же народом, что и сам Крит. Одновременно с этими данными в печати появились в те же годы многочисленные работы лингвистов, филологов и историков, детально проанализировавших накопившиеся к тому времени данные о греческой «предыстории». Опираясь на всю совокупность этих новых данных, противоречивших теории Эванса, Вэйс и Блеген в совместной статье выдвинули альтернативную теорию. Согласно их историко-культурной схеме, материковая Греция была заселена носителями индо-европейского (древнегреческого) языка уже в конце раннего бронзового века, примерно с 1900 года до н. э., то есть тогда же, когда началось становление крито-минойской культуры на Крите, и эти же племена непрерывно населяли страну вплоть до падения микенской цивилизации около 1100 года до н. э., иными словами, много позже краха крито-минойского царства. Проще говоря, Греция всегда была греческой, ее (микенская) цивилизация и культура были автохтонными (местными и независимо возникшими), а не крито-минойскими, и именно ее (то есть древнегреческая, микенская) письменность была письменностью Эвансовых табличек. Наличие же общих культурных элементов объясняется просто культурными и торговыми связями этих двух цивилизаций. Эта гипотеза вызвала бурные возражения сторонников теории Эванса. Они заявили, что все аргументы Блегена — Вэйса являются косвенными; прямое отношение к спору имеют только найденные ими таблички с письменами, но как раз этой находке можно дать очень простое и естественное объяснение: либо эти таблички были оставлены в Микенах и Пил осе критскими купцами, либо микенские «варвары», завоевавшие Крит после 1420 года до н. э., вывезли к себе критские таблички, а может быть, — и уцелевших писцов-грамотеев. Сами же микенцы не могли создать ничего культурно значительного, тем более — самостоятельной письменности, поскольку их «цивилизация» была попросту последней, предсмертной «судорогой» великой крито-минойской культуры, а на своей последней стадии цивилизации, как и живые организмы, ничего нового создать уже не могут: творческий расцвет сопровождает молодость культур. Возникший спор имел прямое отношение и к интересующей нас загадке Троянской войны. «Шлиманцы» вслед за своим учителем (а также приведенные к этому собственными исследованиями) все более приближались к признанию исторической реальности этой войны. «Эвансисты» вслед за своим догматичным мэтром утверждали, что после краха «дворцовой культуры» Крита «варварские» города материковой Греции попросту не способны: были на такую далекую и трудную военную экспедицию. Поэтому никакой Троянской войны не было. А рассказ Гомера о ней, говорили «эвансисты» вслед за своим великим учителем, есть не что иное, как воскрешение критского мифа! Подтверждение или опровержение этого радикального тезиса требовало новых раскопок, но время для этого наступило самое неподходящее — грянула вторая мировая война, и Греция вместе с Критом были захвачены немецкими войсками. Единственным доступным полем исследований остались одни лишь критские и микенско-пилосские глиняные таблички. Только в их загадочных письменах могли теперь исследователи искать (и надеяться найти) решение жестокого и непримиримого спора между последователями Эванса и последователями Шлимана, а заодно, и возможные свидетельства «за» или «против» реальности Троянской войны. Задача была из труднейших. Ситуация казалась безнадежной. Неизвестны были не только знаки «глиняной письменности» — неизвестен был и язык, который скрывался за этими знаками: Вэйс и Блеген полагали, что это какой-то диалект древнегреческого (очень «древне» — времен расцвета Микен, XIV–XIII веков до н. э.), сторонники Эванса считали, что это никому неведомый «крито-минойский» язык. Тем не менее все эти трудности удалось преодолеть. Таблички заговорили. >ГЛАВА 8 ЛИНЕЙНОЕ ПИСЬМО Б Итак, Вторая мировая война прервала археологические исследования, которые могли бы пролить дальнейший свет на загадку Троянской войны. В распоряжении ученых остались лишь глиняные таблички с загадочными письменами, найденные Эвансом на Крите и Блегеном в Пилосе, неподалеку от Микен. Первых было около 4 тысяч, вторых — около 600 (перед самой войной Вэйс нашел еще несколько табличек в Микенах; позже они были найдены также в Тиринфе и Орхоменосе). Как уже сказано выше, по мнению Эванса, «коллективным автором» этих табличек был тот неведомый народ, что создал крито-минойскую культуру, а затем распространил ее по всему Эгейскому архипелагу и материковой Греции. По мнению сторонников Шлимана, этим «автором» были древние греки (гомеровские «ахейцы»): письменность глиняных табличек, утверждали они, была высшим достижением созданной ахейцами «микенской цивилизации». Расшифровка загадочных табличек могла решить этот спор, но на пути такой расшифровки стояло несколько затруднений, и первое из них состояло в том, что таблички распадались на целых три класса. Действительно, исследования Эванса выявили существование на древнем Крите трех последовательных стадий развития письменности. Примерно с 2000 по 1650 гг. до н. э., в эпоху складывания крито-минойской цивилизации, на Крите господствовало чисто «пиктографическое» (рисуночное) письмо, в котором каждый рисунок (звезда, солнце, рука, голова, стрела и т. п.) обозначал соответствующее слово или понятие. Табличек с таким письмом сохранилось очень мало, и произвести их расшифровку нечего было и думать. Следующий класс табличек датировался временами расцвета крито-минойской культуры (1750–1450 гг. до н. э.): здесь рисунки уже упростились до схематических, линейных очертаний, поэтому Эванс дал этой письменности название «линейного письма А» (почему «А», сейчас станет ясно). Этим письмом были, в частности, выполнены надписи на некоторых камнях-амулетах и бронзовых изделиях, найденных в различных местах острова. Расшифровка линейного письма А наталкивалась на ту трудность, что надписей, им выполненных, было не так уж много. Наибольшие шансы имела попытка расшифровки третьего, еще более позднего типа письменности, которая получила название «линейного письма Б». Появление табличек с этим письмом датируется примерно 1450–1400 годами до н. э., и хотя более точную границы установить не удалось (никогда нельзя исключить возможность, что более ранние тексты просто не обнаружены), но предположительная дата той великой катастрофы, что разрушила крито-минойскую цивилизацию (1420 н. до н. а, по Эвансу), как раз попадает в этот промежуток времени. Любопытно также, что почти все таблички с этим письмом были найдены только в одном месте на Крите — в Кноссосе — и что почти все они, по оценке ученых, относятся к периоду после разрушения Кноссоского дворца (общее число таких табличек, найденных в Кноссосе, составляет, как уже было сказано, около 4 тысяч). Крайне интересно, однако, что таблички, найденные Вэйсом, Блегеном и другими археологами в Микенах, Пилосе, Тиринфе и других местах материковой Греции, тоже выполнены исключительно линейным письмом Б и тоже относятся к периоду после 1450–1400 гг. до н. э. Дело выглядит так, будто начиная с середины — конца XV века до н. э., с момента своего появления, линейное письма Б является общим и для Крита, и для городов материковой Греции. По сравнению с предшествующим письмом А его знаки представляются еще более упрощенными (впрочем, в некоторых случаях, напротив, более вычурными), хотя и среди них еще встречаются очевидные пиктограммы (схематические изображения людей, животных, сосудов и т. п.). К середине XX века, когда лингвисты занялись изучением линейного письма Б, уже были прочтены памятники многих древних письменностей, начиная с древнеегипетской, ассиро-вавилонской и хеттской, и уже существовали мощные методы их расшифровки. Каждое новое продвижение в этой области происходило путем сопоставления новой, неизвестной письменности с уже расшифрованными. Как правило, дешифровка облегчалась тем, что исследователь знал либо язык, слова которого были изображены неизвестными знаками, либо значения знаков неизвестного ему языка — по их сходству со знаками уже известных. Но в случае линейного письма Б не были известны ни значения знаков, ни стоявший за этими знаками язык. О знаках было известно лишь, что их общее число — порядка восьмидесяти (эта цифра неточна, потому что распознавание различных знаков затрудняется многочисленными разновидностями и вариантами написания). Для лингвистов эта цифра, однако, содержала важную информацию. Она означала, что линейное письмо Б не алфавитное. В алфавитном письме каждый знак отвечает одной гласной или согласной, поэтому число таких знаков мало (22, 26 и т. п.). В то же время оно не могло быть и чисто рисуночно-иероглифическим вроде современного китайского, потому что для такого («идеографического») письма нужны тысячи знаков (в китайском их, например, свыше 50 тысяч). Стало быть, это было силлабическое, слоговое письмо, в котором каждый знак (кроме рисунков, а также числовых и вспомогательных значков) соответствует одному определенному слогу. Первые попытки дешифровки этого слогового письма основывались на упомянутом выше методе сопоставления его с какой-нибудь уже расшифрованной древней письменностью, имеющей сходные знаки. В данном случае сходные знаки обнаружились в так называемом «кипрском письме», найденном на древних табличках с острова Кипр. К этому времени «кипрское письмо» было уже расшифровано: было показано, что его знаки соответствуют отдельным слогам греческого языка. Однако прямая подстановка значений этих слогов под сходные знаки в критских табличках привела к полной абракадабре: отдельные слоги не собирались ни в какие осмысленные слова. Это говорило в пользу гипотезы Эванса, утверждавшего, что язык табличек не имеет ничего общего с греческим, а принадлежит тому неведомому народу, который создал крито-минойскую цивилизацию. В результате гипотеза о «крито-минойском языке табличек» обрела такой авторитет, что к ее оппонентам стали относиться как к еретикам. Даже такой знаменитый ученый, как профессор А. Вэйс, поплатился за эту ересь — руководство университета отстранило его на время от раскопок в Микенах. Не будем рисковать и поступим соглашательски — признаем, что знаки линейного письма Б изображают отдельные слоги неведомого «крито-минойского» языка. В таком случае мы оказываемся в тяжелейшем положении. Поскольку язык этот никому неведом, то неизвестны ни его слова, ни, естественно, их слоги, а стало быть, неизвестно, какие звуки подставлять под разные знаки табличек — нет никакой зацепки. Нужно найти хотя бы какие-то правдоподобные слова и их слоги, иначе нельзя даже сдвинуться с места. В поисках этих слов и слогов первые исследователи линейного письма Б стали обращать взгляды во все мыслимые и даже немыслимые стороны. Одни утверждали, что «крито-минойский» язык, скорее всего, не принадлежит к семейству индоевропейских, а потому может быть похож на современный баскский (поскольку баскский является единственным неиндоевропейским языком в нынешней Европе). Другие полагали, что он должен быть похож на древний этрусский (поскольку традиция утверждала, что этруски пришли в Италию с островов Эгейского моря, близких к Криту). Болгарский лингвист Георгиев объявил «крито-минойским» языком изобретенную им смесь греческого с элементами других индо европейских языков; его теорию энергично поддерживали в сталинском СССР. А пионер расшифровки хеттского языка чешский лингвист Б. Грозный, взявшийся на старости лет разгадывать поголовно все еще не расшифрованные языки, предложил свою трактовку крито-минойских линейных начертаний как произвольной смеси хеттских, древнеегипетских, протоиндийских и даже финикийских письменных знаков; эта гипотеза оказалась такой же бесплодной, как «расшифровка» Георгиева. Тем не менее не все попытки были одинаково безрезультатны. Среди них оказались и удачные. Так, А. Коули разгадал с помощью пиктограмм знаки, характеризующие девочек и мальчиков; Алиса Кобер опознала знаки, которые обозначают пол людей и животных, а также меняют форму слова, как при склонении по падежам (эти «падежные окончания» она нашла, обнаружив на табличках комплексы знаков (слова), в которых все знаки, кроме последнего, были одинаковы); Беннет, анализируя количество одинаковых фигурок в разных частях таблички, выявил знаки для системы счета. Но великую заслугу полной и окончательной расшифровки линейного письма Б нужно отнести, несомненно, на счет англичанина Майкла Вентриса. Этот молодой английский архитектор (в годы второй мировой войны — штурман самолета-бомбардировщика) увлекся загадкой критского письма еще в детстве, а первую свою работу по его дешифровке опубликовал уже в 1940 году в возрасте 18 лет. Поначалу, подобно многим другим, Вентрис предлагал на роль неизвестного языка табличек этрусский. Попытки в этом же направлении он продолжил и после войны и окончания университета. Однако в 1952 году после нескольких лет напряженных размышлений, интенсивных поисков и обширной переписки с другими исследователями он пришел к совершенно новой, революционной гипотезе, опробование которой очень быстро привело его к решающему прорыву. Невзирая на всё, сказанное выше, о нерушимом авторитете гипотезы Эванса, Вентрис рискнул предположить, что язык загадочных табличек не какой-то там «крито-минойский», а все-таки древнегреческий, только очень архаический его диалект — микенский, на котором говорили за 500 лет до Гомера. И действительно, оказалось, что стоит подставить под знаки табличек слоги этого диалекта, как сквозь беспросветную чащу линий и черточек начали проступать первые понятные слова. Каким же путем Вентрис пришел к своей гипотезе? Прежде всего, он опирался на достижения некоторых своих предшественников. Уже Эванс понял, что большинство текстов на его табличках — это хозяйственные списки: в них явно просматривались какие-то подсчеты и суммы. Как уже говорилось, среди линейных знаков текста отчетливо выделялись отдельные пиктограммы — изображения мужчин, женщин, лошадей, амфор, треножников, колесниц, колес и т. п., и это позволяло, понять, какие именно объекты подсчитывались. А.по значкам в итоговых суммах можно было угадать и систему счисления (это сделал Беннет). Выше я уже упоминал о других разгадках — знаках пола, возраста, падежей. Чтобы продвинуться дальше, нужно было прибегнуть к комбинаторике, и Вентрис начал с составления статистических таблиц: какова частота употребления каждого знака, какова частота его появления в начале, середине и конце слова и так далее. Это привело его к определенным важным выводам. Так, он заметил, например, что в начале слов преобладают три знака, под номерами 08, 61 и 38 (такими номерами Вентрис обозначил все различные знаки линейного письма Б в составленной им сводной таблице). Они появлялись также внутри слова, но почти никогда не встречались в конце. Вентрису было известно, что в слоговом письме слог, состоящий из отдельной гласной, редко появляется внутри слова, но часто — в его начале (это подтверждала, в частности, упомянутая выше кипрская письменность). Отсюда следовало, что подмеченные им знаки, скорее всего, означают гласные. Далее, знак 78 очень часто заканчивал слова в различных суммированиях однородных предметов (вроде: пять / рисунок кувшина / 78 шесть / рисунок кувшина / 78 и так далее), за которыми следовала общая сумма («равно тому-то»). Было разумно предположить, что знак 78 означает союз «и», заменяющий (очевидно, не известный критянам) знак «плюс»: «Пять кувшинов и шесть кувшинов и так далее равно такому-то числу кувшинов». В некоторых случаях Вентрису помогали ошибки писца: подметив, к примеру, что знак 28 очень часто исправлялся писцом на 38 (а на глиняных табличках эти замены были очень хорошо видны), он заключил, что соответствующие слоги, видимо, весьма близки (вроде сходства слов «то» и «до», которое действительно может приводить к частым опискам). Все эти догадки и предположения позволили Вентрису в конце концов составить таблицу знаков, в которой они были разделены на «предположительно гласные» и «предположительно согласные», а затем построить таблицу повторяющихся комбинаций тех и других. Некоторые из этих комбинаций оказались повторяющимися, причем одни из них наличествовали как в кноссоских, так и пилосских табличках, тогда как другие — только в тех или других. В известных к тому времени угаритских и других надписях Ближнего Востока такие повторяющиеся комбинации знаков обычно означали названия городов и групп населения. Вентрис сделал смелое предположение, что это верно и для его табличек. Тогда комбинации, присущие только критским табличкам, могли означать названия городов или местностей на Крите вблизи Кноссоского дворца. Одно такое «критское» сочетание — 70-52-12 — повторялось особенно часто, и Вентрис предположил, что эти слоги как раз и образуют слово Кноссос: «ко-но-со». Рядом с ним часто возникало сочетание 08-73-30-12, и можно было думать, что это слово (кончающееся на 12, т. е. тоже на «со») является названием какого-нибудь важного места вблизи Кноссоса; одно такое название было известно еще из Гомера: Амниос, близлежащая торговая гавань. В слоговом (древнем) написании оно должно было выглядеть скорее всего как «а-ми-ни-(о) — со», что позволяло определить написание еще трех слогов. Дальше Вентрис рассуждал так: согласно Коули, комбинации знаков для девочек и мальчиков — это 70–42 и 70–54; если 70 — это «ко», то оба слова имеют вид «ко-42» и «ко-54». В греческом языке среди прочих названий для мальчиков и девочек есть «корос» и «коре»; в ионийском диалекте Гомера «корос» звучит как «коурос», в дорийском диалекте — как «коруос»; быть может, исходным (древнемикенским) были «корвос» (а для девочек — «кор-ва»)? Это добавляет еще два слога в таблицу. Работа Вентриса, таким образом, отчасти напоминала решение кроссворда, где разгадка первых слов все более и более облегчает разгадку следующих, но лишь в том случае, если каждое очередное слово читать именно по-гречески («по-древнемикенски»). Тем самым вероятность того, что язык табличек — действительно древнегреческий, а не какой-то крито-минойский, постепенно усиливалась. К 1952 году Вентрис (работая теперь совместно с кембриджским специалистом по греческим диалектам Джоном Чадвиком) расшифровал слоговые значения почти всех знаков «линейного письма Б» и составил их сводную таблицу. Однако многие специалисты (в особенности ярые сторонники «крито-минойского» происхождения табличек) не верили в эту «греческую» расшифровку и требовали в качестве решающего эксперимента, чтобы Вентрис прочел с ее помощью незнакомый текст (т. е. текст, не использованный при составлении самой таблицы). И Вентрис блестяще справился с этой задачей: получив от Карла Блегена еще не опубликованную табличку из Пилоса и применив для ее расшифровки найденные им слоговые (греческие) значения знаков, он получил связный й осмысленный текст! После этого чтение табличек пошло полным ходом, и уже в 1956 году Вентрис и Чадвик опубликовали толстый том «Документов микенского греческого языка», где было собрано большое число расшифрованных ими к тому времени текстов. А через две недели после выхода этого главного труда своей жизни 34-летний Майкл Вентрис погиб в автомобильной катастрофе. >ГЛАВА 9 ХЕТТСКИЕ СОСЕДИ История расшифровки линейного письма Б бесконечно интересна сама по себе, но скажем честно: мы не стали бы ею так долго заниматься, если бы одна деталь этой истории не имела прямого отношения к интересующей нас загадке Троянской войны. Вот она, эта важная и далеко ведущая деталь. В строках глиняных табличек из Пилоса то и дело встречаются перечни рабов и рабынь, работавших в царском хозяйстве (кстати, термин для обозначения этих людей, «лавийяйи», произведен от того же слова «лавия», «добыча», которое употребляет Гомер в 20-й песне «Илиады», рассказывая о пленницах, захваченных Ахиллом: «…множество жен полонил и, лишив их жизни свободной, в рабство увлек»). Если вдуматься, эти упоминания о рабах и рыбынях отнюдь не удивительны — рабский труд составлял в те времена один из главных хозяйственных устоев всех империй и царств. Любопытней другое. Зачастую рядом со значками, обозначающими рабов, обнаруживаются слова, которые можно расшифровать как указание, где именно эти рабы захвачены. Например, один такой (особенно подробный) список из Пилоса насчитывает около 600 женщин и 700 детей рабского сословия, причем о части из них сказано: «Из Милета» («милатийяйи»), что свидетельствует о походах микенцев к этому городу, находившемуся на западном побережье Малой Азии: В другом месте читаем о рабыне родом из местности «Асийяйи», что сразу напоминает (специалисту, конечно) слово «Ассува» — тогдашнее название обширного региона на том же побережье, позднее трансформировавшееся в греческое название для всей Малой Азии — «Асия». А одна из таких «пленниц» в пилосском списке и вообще характеризуется как «То-ро-ва» — может быть, «из Трои»? Впрочем, подобные фонетические сходства следует толковать крайне осторожно. Не зная, по каким законам меняются со временем гласные и согласные в данном языке, а также как они меняются при переходе от языка к языку (а лингвисты уже обнаружили множество таких законов), очень легко попасть впросак и принять желаемое за действительное. Не будем поэтому торопиться и выделим лишь то, что является несомненным. Несомненным во всем ранее сказанном представляется тот факт, что перечисленные выше упоминания «микенских» табличек о рабах и рабынях, будучи сведены воедино, убеждают нас, что уже в XV–XIII веках до н. э. (пилосские таблички относятся именно к этому времени) микенские и другие цари Ахейи совершали довольно частые походы за «живым товаром» в Малую Азию (в район Милета и «Ассувы»). Этот вывод настолько важен для наших «поисков Трои», что немедленно возникает волнующий вопрос: подтверждается ли он какими-либо другими фактами? Оказывается, да. Оказывается, в ходе новейших археологических раскопок на западном побережье Малой Азии обнаружено уже более 25 мест, где бытовала в больших количествах микенская посуда XV–XIII веков до н. э. Места эти концентрируются в центральной и южной части побережья, вблизи Эфеса и упомянутого выше Милета{15}. Более того, установлено, что микенцы, видимо, составляли заметную часть постоянных жителей тогдашнего Милета (а также, возможно, и некоторых других малоазийских мест). Действительно, этот город, основанный критянами и долго, сохранявший связи с Критом, в какой-то момент, примерно в 1450–1440 гг. до н. э., что совпадает со временем захвата Крита микенцами, резко меняет свой облик: он перестраивается, в нем воздвигается крепость, строятся храм Афины и дома с типично греческими большими залами — «мегаронами» — и т. п. Аналогичные приметы греческого пребывания появляются в то же время в соседних малоазийских городах Эфесе, Книде и других, а также в других бывших критских владениях — на островах Родосе, Хиосе и Самосе, лежащих у побережья Малой Азии. Иными словами, все критское стало теперь микенским. Как говорится, «убил — и еще наследовал». Это делает понятным упоминания о рабах в пилосских табличках. Разумеется, владея столь многими опорными пунктами у берегов Малой Азии и даже на ее побережье, ахейцы вполне могли совершать с этого плацдарма не только спорадические, но и вполне регулярные вылазки за рабами и рабынями в глубь малоазийского полуострова. Все эти факты интересны и сами по себе, ибо рисуют картину микенской цивилизации XIV–XIII веков до н. э. как весьма внушительного по размерам и военной силе царства, территория которого включала не только материковую Грецию, но также многочисленные острова Эгейского моря и даже прилегающее к ним побережье Малой Азии. Мы уже видели такую картину — в гомеровской «Илиаде», разумеется, где же еще! — но на сей раз уже не нужно гадать, достоверна ли она, на сей раз исторический фон гомеровского рассказа подтвержден как точными данными археологии, так и показаниями критско-микенской письменности. Это крайне интересно. Но у перечисленных выше фактов есть и другой, не менее важный аспект. Наличие форпостов Микенского царства на берегах Малой Азии и его неустанные попытки проникновения в поисках «живого товара» все дальше и дальше в глубину полуострова неизбежно должны были приводить к столкновениям ахейцев с другим могучим царством, которое в те же времена доминировало в этих же местах, вплоть до Милета и Трои, — с государством хеттов, с Хеттской империей. А если так, то можно думать, что конфликты двух столь серьезных противников могли найти какое-то отражение в том или ином хеттском клинописном тексте — ведь хеттские цари, как мы сейчас убедимся, вели обширную и детальную документацию всех своих военных, дипломатических и торговых действий. Продолжая эту логическую нить, мы приходим к очередному важному выводу: не исключено, что искомые нами отголоски Троянской войны (которая вполне могла быть одним из таких малоазийских «территориальных конфликтов») тоже могут обнаружиться в каких-нибудь хеттских текстах XV–XIII веков до н. э. Этот вывод заставляет пристальней присмотреться к хеттам, к их истории и в особенности, как мы уже сказали, к письменным памятникам этой истории. Хеттское царство часто называют «забытым». Действительно, долгое время господствовало представление, будто главными действующими лицами на древней ближневосточной сцене были египтяне да ассирийцы. Хетты воспринимались в духе многочисленных упоминаний в Библии (в той её части, которая у евреев называется «ТАНАХ», а у христиан — «Ветхий завет» для христиан), где о них говорится в основном как об одном из второстепенных племен («Хиттим»), встреченных евреями, когда они вернулись из египетского рабства в Палестину: например, красавица Батшева (в современном произношении Вирсавия), так возбудившая любострастие царя Давида, была женой «Урии Хеттеянина», т. е. хетта. Лишь в двух местах ТАНАХа мельком говорится о «хеттейских царях». В действительности, однако, хетты были не столько «зат бытыми», сколько, скорее, «неопознанными» участниками ближневосточной истории. Когда археологи обнаружили в Карнаке и других местах Египта стеллы с отчетом о великой битве при Кадеше (1275 г. до н. э.), эта историческая роль хеттов сразу стала очевидной: выяснилось, что фараону Рамзесу II противостоял в этой битве не кто иной, как «Великий Царь Хатти», армия которого включала воинов «шестнадцати народов» и насчитывала 2500 боевых колесниц! «Узнавание» хеттов получило огромный толчок, когда в 1834 году на поросшем дикими колючками холме вблизи заброшенной турецкой деревеньки Богазкёй в, Анатолии были открыты развалины бывшей хеттской столицы Хаттусы. Остатки ее могучих стен позволяли думать, что когда-то они тянулись на добрых три-четыре километра в длину и, следовательно, заключенный внутри них город не уступал по размерам Афинам в пору их высшего расцвета; там и сям на холме еще сохранились следы высившихся здесь некогда огромных храмов, посвященных каким-то неведомым богам, остатки львиных фигур, украшавших громадные ворота, и обломки странных скульптур, покрытых иероглифами на неизвестном языке. Вскоре аналогичная крепость, хотя и меньших размеров, была раскопана в Каркемише, а иероглифы, аналогичные богазкёйским, обнаружились во многих местах Сирии и Северного Ирака, а также Центральной и Западной Турции. Стало очевидно, что хеттское государство занимало огромную по тем временам территорию и его влияние ощущалось от западного побережья Малой Азии до Северной Сирии и верховий Тигра и Евфрата; иными словами, по размерам и силе оно не уступало тогдашним Египту и Ассирии. Эти представления были подтверждены открытыми в 1887 году глиняными табличками из Тель-Амарны (Сирия), содержавшими переписку фараонов XV–XIV веков до н. э. с мелкими сирийскими и палестинскими царьками, в которой удостоверялась реальность хеттской гегемонии в этих местах задолго до битвы при Кадеше. Но главный свет на историю хеттов пролили найденные в 1906–1908 годах Винклером таблички из Богазкёя, общим числом около 10 тысяч, с текстами на восьми языках (хеттский, аккадский, шумерский и др.), что, кстати, красноречиво свидетельствовало о многонациональном характере хеттского царства. Хеттские тексты этих табличек были расшифрованы во время первой мировой войны и вскоре после нее, и пионером здесь был уже упомянутый нами чешский лингвист Бедржих Грозный. Благодаря этим текстам история хеттов известна сегодня во многих подробностях. К сожалению, даже самое краткое знакомство с ней не может обойтись без упоминаний царских имен, ибо только перечисление последовательных царствований позволяет хоть как-то сориентироваться в хеттской хронологии. Говорю «к сожалению», потому что имена этих царей, как это сейчас же станет очевидным, зачастую труднопроизносимы. Хетты говорили на языке индо-европейской группы, близком к языкам других жителей тогдашней Анатолии — лувийцев, ликийцев и т. п. (эти языки тоже теперь расшифрованы), и пришли в свои земли откуда-то с северных берегов Черного моря, по всей видимости, за две — две с половиной тысячи лет до н. э., но надежное знание генеалогии их царей начинается лишь с 1650 года до н. э. (отрывочные сведения о более ранних временах, содержащиеся в некоторых ассирийских источниках, имеют туманный характер). В 1650 году до н. э. на трон объединенного хеттского царства взошел Хаттусилис Первый, прославившийся завоеванием царства Алеппо в Сирии; ему наследовал его внук Мурсилис, завоевавший долину Евфрата вплоть до Вавилона, а затем, после продолжительных династических распрей, — потомки Мурсилиса: Телипинус, его сын Аллувамнас и ряд последующих, не очень точно известных правителей. Этот период называется «Старым царством»; он продолжался до начала XV века до н. э., когда на трон взошел Тудхалйяс (по-видимому, второй по счету с таким именем), открывший славную эпоху «Нового царства». В эту эпоху хеттская держава стала подлинной империей, т. е. конгломератом многих народностей — в ее состав входили около 20 крупных городов и 40–50 «земель» (небольших царств и отдельных полисов вроде Алеппо, Дамаска, Хацора, Тира, Сидона и т. п.). Около 1400 года до н. э. правителем этой империи стал Тудхалйяс Третий; около 1380 года его сменил Суппилулиумас (я предупреждал!); примерно в 1340 году до н. э. на трон взошел Мурсилис Второй, а около 1315-го — Муватталис, о котором нам еще придется не раз говорить; за ним правили Мурсилис Третий (1296–1289) и, наконец, Хаттусилис Третий (1289–1265); он, видимо, и был тем хеттским царем, который сражался при Кадеше. Особенно интересными с нашей, «троянской», точки зрения являются последние 70 лет существования хеттской империи — времена царей Тудхалияса Четвертого (1265–1235), Арнувандаса Второго (1235–1215) и Суппилулиумаса Второго (1215–1190 гг. до н. э.); они интересны для нас потому, что включают те годы, к которым античная традиция относит Троянскую войну, а археологи — пожар Трои-7а. Они были также последними в истории хеттов, потому что вскоре после смерти Суппилулиумаса Второго или даже при нем, примерно в 1190 году до н. э., в страну вторглись неведомые завоеватели, которые захватили и сожгли столицу Хаттуса (Богазкёй) и положили конец великой Хеттской империи. Перед тем, как задернуть занавес над ее историей, обратим еще внимание, что время гибели объединенного хеттского государства практически совпадает со временем столь же внезапной и столь же загадочной гибели объединенной микенской цивилизации (примерно 1200 год до н. э.) — и тоже под натиском неведомых завоевателей. Если добавить, что примерно тогда же подвергся вторжению и Египет, то череда многозначительных совпадений станет слишком широкой, чтобы быть случайной, и это порождает некоторые предположения, разговор о которых мы, однако, отложим на конец нашего очерка. История хеттов могла бы стать предметом увлекательного рассказа, и даже не одного, но сейчас нас интересует в ней лишь ее узкий «ахейско-троянский» аспект. Этот наш интерес не оригинален: задолго до нас, с самого начала расшифровки хеттских документов, многие лингвисты и историки стали искать в них следы хеттско-ахейских контактов (а многие — и отголоски Троянской войны) и кое-что даже успели найти. В частности, на некоторых глиняных табличках из Богазкёя они обнаружили такие тексты, которые на первый взгляд недвусмысленно указывают на ахейцев и свидетельствуют о давних контактах хеттов с ахейским государством. Действительно, в некоторых хеттских документах (их насчитывается свыше 20) фигурирует некое (заморское?) царство Ахиява (хеттское Ahhijaawa), название которого так похоже на слово «Ахайвой» (так Гомер именует своих героев-ахейцев), что кажется попросту немыслимым истолковать его как-то иначе. В этих текстах встречаются и другие, столь же впечатляющие совпадения, например, Lazpas — какая-то страна, связанная с Ахиявой: это название почти до очевидности похоже на Лесбос — остров в Эгейском море у берегов Анатолии вблизи Трои; или Milawata — город на территории Ликии, находившийся в те времена под властью царей Ахиявы, — название, весьма похожее на Милет, древнегреч. «Миллатос», который, как мы уже говорили, действительно представлял собой в ту пору главный ахейский форпост в Малой Азии. Эти совпадения простираются и на имена собственные: так, исследователи обнаружили в текстах, связанных с Ахиявой, имя Tawakalawas, что с учетом различия произношений очень похоже на греческое «Этеоклес», которое в пилосских табличках зафиксировано как Etewoklewelos; а также совсем уж поразительное Attarisijas, которое можно прочесть как Atressias, что очень близко к имени легендарного греческого героя Атрея, родоначальника всех микенских царей-Атридов вплоть до Агамемнона. В 1924 году Эмиль Форрер, швейцарский лингвист и историк, один из главных дешифровщиков хеттских глиняных табличек, опубликовал статью «Догомеровские греки в клинописных — текстах из Богазкёя», в которой на основании перечисленных выше фактов и множества других, более тонких, но не менее впечатляющих сличений выдвинул гипотезу, что в соответствующих хеттских документах, откуда они были извлечены, речь действительно идет об «ахейской» (микенской) цивилизации времен Троянской войны и ранее, что эта цивилизация (объединение городов-царств во главе с Микенами) была издавна и хорошо известна хеттам и что контакты Хеттской империи с Ахиявой, временами дружеские, временами кровавые, продолжались на протяжении нескольких веков вплоть до эпохи Троянской войны и последовавшего вскоре после нее загадочного краха обеих держав. На наш несведущий взгляд, после всех перечисленных выше совпадений эти утверждения почти самоочевидны, поэтому покажется, наверное, неожиданным, что толкование Э. Форрера вызвало поначалу крайне резкую критику крупнейших хеттологов того времени и, прежде всего, Фердинанда Зоммера — автора фундаментального исследования, в котором были собраны и прокомментированы все хеттские источники с упоминаниями Ахиявы. С этого начался затяжной «спор об Ахияве», к которому и нам стоит присмотреться, так как он напрямую связан с интересующей нас проблемой исторической достоверности Троянской войны. Надо же знать, у кого какие аргументы… Критика гипотезы Форрера шла главным образом со стороны лингвистической. Оппоненты утверждали, что его фонетические сближения — Ахиява — Ахейя, Аттарисиас — Атреус — весьма произвольны и противоречат законам греческого и хеттского языков (например, хеттское «ийя» в слове Ахийява никак нельзя свести к греческому «аи» в слове Ахайвой). А кроме того, двадцать с лишним упоминаний Ахиявы в хеттских текстах — число, конечно, внушительное, но лишь до-тех пор, пока мы концентрируем внимание на одной Ахияве; оно сразу становится ничтожным, когда вспомнишь о многих тысячах (!) упоминаний Египта или Ассирии. Стало быть, предположение о «мощи» Ахиявы не так уж убедительно — это царство вполне могло быть и не таким уж большим, чем-то вроде других царств на западном берегу тогдашней Малой Азии или в Эгейском море — и может быть, именно там оно и располагалось. Исходя из подобных рассуждений, Ф. Зоммер помещал Ахияву вблизи Милета; Б. Грозный — на острове Родос; П. Кречмер — на крайнем юге Малой Азии (нынешняя Анталйя), Дж. Маккуин — возле Трои, а Дж. Мелларт — вообще во Фракии, на противоположном от Трои берегу Мраморного моря, на месте нынешней Румынии и Болгарии. Как насмешливо заметил один из корифеев хеттологии Ф. Шахермайр, «противники Форрера готовы были локализовать Ахияву хоть на Луне, лишь бы не на греческом континенте». Однако по мере того как археология уточняла истинные масштабы ахейского присутствия в Эгейском море и в Малой Азии, гипотеза Форрера начала привлекать все большее сочувствие ученых, и сегодня совпадение «Ахиявы» с какой-то частью ахейского мира считается почти доказанным. Спор идет скорее о том, включали хетты в это понятие всю микенскую цивилизацию или только ее форпосты в Малой Азии, Но в пользу первого предположения говорит тот факт, что в некоторых хеттских документах перед словами «царь Ахиявы» стоит значок, означавший у хеттов что-то вроде «Его Величество» титул, которого удостаивались в хеттской официальной переписке только цари Египта и Ассирии. О «величии» Ахиявы косвенно говорит и другой факт: в 1981 г. в греческих Фивах были найдены 36 ляпис-лазуревых печатей, происхождение части которых надежно прослежено до храма Мардука в Вавилоне, некогда ограбленного ассирийцами. Печати найдены в том слое, который соответствует времени хеттских попыток блокировать ассирийскую торговлю. Не были ли они подарком ассирийцев, пытавшихся привлечь Ахейю на свою сторону против хеттов? Эти и другие аналогичные свидетельства значимости Ахиявы постепенно побудили большинство ученых признать, что великий царь Ахиявы, равный по рангу царям других великих держав того времени, не мог быть правителем какой-то страны в Анатолии, где не было места ни для какой великой державы, кроме Хатти, и потому мог быть лишь царем материковой Греции. Итак, по нынешнему мнению большинства ученых, хеттская «Ахиява» — это действительно Микенское царство XV–XIII веков до н. э., а коль скоро это так, нам, конечно же, следует обратиться к хеттским текстам об отношениях с Ахиявой — ведь где-то там могут скрываться и упоминания о Трое, а может быть, и о Троянской войне. Сейчас мы этим займемся. Мы уже близки к финишу. >ГЛАВА 10 ТРОЯ В ХЕТТСКИХ ДОКУМЕНТАХ Хеттские клинописные тексты, сохранившиеся на десяти с лишним тысячах глиняных табличек из Хаттусы (Богазкёя), — это подлинная сокровищница исторических документов, на страницах которой запечатлены живые, яркие образы царей и полководцев, впечатляющие описания битв и походов, сложные и тонкие дипломатические интриги международной политики. В сравнении с этим тексты крито-микенского линейного письма Б выглядят как сухие безжизненные перечни, сквозь которые едва сквозят смутные силуэты мертвых предметов и безвестных людей. Но хеттские тексты не исключение на тогдашнем Востоке. Такую же широкую, яркую, поразительно выпуклую картину сложной политической и культурной жизни далекого прошлого запечатлели и памятники двух других великих держав той эпохи — Древнего Египта и Древней Ассирии. В этой связи английский историк Майкл Вуд меланхолически замечает: «Увы, микенская Греция находилась на периферии этого «клуба избранных»…» И он прав: в сравнении с хеттской, египетской и ассирийской цивилизациями XV–XIII веков до н. э. с их бесконечными территориями, огромными столицами и громадными военными полчищами материковая Треция тех времен — даже в любовном описании Гомера — кажется «убогой» и «варварской»; этакий архаичный вариант «рыцарской Европы» с ее безграмотными королями и утопавшими в грязи городами или же более знакомой нам Киевской Руси времен какого-нибудь Святослава или Владимира. Подобно Агамемнону и Ахиллу у Гомера, и те ведь ходили походами на Царьград с окраин своей ойкумены, и у тех всех радостей было — пировать в шатрах, враждовать друг с другом из-за пленниц или золота да схватываться с врагами в богатырских поединках. Боги, однако, смеются: где сегодня те византийцы — и где славяне? Где те хетты — и где греки? Именно таким «варварам» история, как правило, дарует великое будущее: пройдет лишь несколько столетий, и Хаттуса будет лежать в развалинах, а Афины станут центром ойкумены: там Платон будет учить Аристотеля, на Самосе родится Пифагор, а на Косе — Гиппократ, и греческие корабли разгромят самую крупную сухопутную державу азиатского континента — империю персов, которая к тому времени сменит хеттов, а потом Александр Македонский высадится в Малой Азии, чтобы завоевать и преобразить Восток. В описываемые нами годы до этого, однако, еще далеко, и, глядя на варварский городок Афины, никто не рискнет предсказать им великое будущее. Хетты еще правят в Малой Азии: их империя занимает всю центральную часть этого огромного полуострова, оползая по карте вниз, на юг, в Сирию и Двуречье, словно под грузом собственной тяжести. На западе она контролирует множество мелких полунезависимых царств на побережье Эгейского моря. Среди них и Милет — видимо, он находится в двойном подчинении (термин Шахермайра): подчиняется Микенам, но официально лоялен по отношению к Хаттусе. Эти места нас и интересуют — здесь, в их северо-западном углу, лежит Троя. Политическая география этого побережья сложна и запутанна, и хеттские тексты мало помогают в ее прояснении. Огромная хеттская держава мало интересуется этими местами: она требует лояльности от всех местных царствишек, ее цель — поддерживать нерушимый порядок в своих пределах, и лишь в те редкие периоды, когда чей-то серьезный мятеж или вторжение его нарушат, она вспоминает об этих местах и шлет туда армию, чтобы восстановить положенный миропорядок. Немудрено, что хеттские документы плохо и путано фиксируют местную географию — они и Ахияву-то, как мы видели, упоминают нечасто, в основном именно в связи с ее вторжениями или интригами на побережье. Все же можно восстановить, что главным царством на побережье хетты считали Арцаву (Аггауф), о местонахождении которой хеттологи по сей день ведут яростные споры. Одни помещают ее в юго-восточной части полуострова, и на карте в старой «Британской энциклопедии» вы увидите именно этот вариант, другие — их подавляющее большинство — отстаивают теорию «западной» Арцавы, в центре западного побережья Малой Азии, со столицей в Апасе, греческом Эфесе. Здесь, на западе, действительно раскопаны крупные города и роскошные дворцы, каких нет на юге; но главное — западное расположение Арцавы много лучше согласуется с имеющимися сведениями о соседних с ней царствах — Мира, Хапалла и Страна реки Сеха. На карте «Британники» они показаны севернее «южной» Арцавы, то есть уже в глубине малоазийского полуострова, но хеттологи показали, что название «Мира» точно сопоставимо с греческим «Мирос» — названием реки северо-восточнее Эфеса, а слово «Хапалла» — Со словом «Капалла», которым греки обозначали область побережья северо-западней Эфеса. Если принять «западное» размещение этих двух соседних с Арцавой царств, то и третий ее сосед, Страна реки Сеха, тоже найдет правильное место — еще дальше на север, в той части побережья, что против острова Лесбоса. То, что это размещение правильное, подтверждается упоминанием хеттских источников, что эта страна граничит со страной Lazpas, что как раз и означает, как мы уже говорили выше, греческий Лесбос. Все перечисленные царства вместе с Арцавой иногда именуются в хеттских документах одним словом «Ассува», которое замечательно близко к тому слову «Асуйя» (позднее — «Асия»), которым в крито-микенских табличках обозначается одно из главных мест, где ахейцы добывали себе рабов в набегах на малоазийское побережье. Видимо, такое единое обозначение следует понимать в том смысле, что все эти западные прибрежные царства время от времени объединялись в борьбе против власти хеттов, и потому хетты знали их как единого врага; это толкование действительно подтверждается списком городов-государств «Ассувы», перечисленных в «Анналах» царя Тудхалияса Четвертого. Может показаться, что мы копаемся в ненужных подробностях, но это не так: двигаясь от одного прибрежного царства к другому, мы имеем важную тайную цель — найти местоположение самого загадочного из них, которое в перечне из «Анналов» Тудхалияса именуется «Вилуса» (по-хеттски — Wilusija). Это название идет в перечне сразу же после другого, — еще более примечательного — «Truisa», которое тотчас и главным образом приковало к себе внимание исследователей (прежде всего Э. Форрера), попытавшихся отождествить его с гомеровским «Troih», т. е. Троей! Эта попытка встретила возражения других ученых, ибо хеттские знаки этого слова допускали несколько возможностей чтения (Форрер выбрал из них самую удобную для своих целей), и потому хеттологи, отложив на будущее загадку «Труисы», переключились на поиски Вилусы, и вот тогда-то П. Кречмер первым привлек для сравнения с ее названием греческое слово «Илион», или «Илиос», в котором, вглядываясь в особенности гомеровского языка, он выявил некогда существовавшее, но выпавшее начальное «В» — «Вилиос». Гипотеза Кречмера вскоре получила поддержку. При анализе хеттских текстов конца XIV века до н. э. времен царя Муватталиса выявилось, что тогдашний правитель Вилусы, некий Alaxandus (обратите внимание на это имя!) обратился к хеттам за помощью против соседей, отдав себя под власть Муватталиса. Между тем из много более поздних византийских хроник известно, что был в Византии город, основанный, по легенде, «царем Мотилом», который принимал там «Париса и Елену». Напомнив, что второе имя Париса было Александр, Кречмер предположил, что «Мотил» — это искаженное временем и легендой «Муватталис». Более того, в другом хеттском документе упоминается царь — предшественник Алаксандуса, по имени Кукунис, которое Кречмер отождествил с именем царя Кикна, упоминаемого в «Илиаде»: согласно Гомеру, он правил в городе Колоны, южнее Трои, и первым пришел на помощь осажденной Трое. Все эти совпадения побуждают сопоставить Вилусу с гомеровским Илиосом, или Троей. И действительно, если следовать перечню прибрежных царств в «Анналах» Тудхаилияса, то местонахождение загадочной Вилусы естественным образом совмещается с положением Трои. Может быть, Труисой в списке Тудхалияса называлась местность, окружавшая город, т. е. тот район, который мы сегодня называем Троадой? Ведь и у Гомера Троя и Илион-Илиос часто упоминаются так, будто Троя понимается и как город, и как страна (Троада), а Илион — только как город (мы говорили об этом в 3-й главе). Как бы то ни было, но в хеттских текстах перед словом Вилуса иногда стоят сразу два значка — страны и города, так что все вместе читается как «страна города Вилуса», а иногда только знак страны — «царство Вилуса». Это царство упоминается весьма часто, что создает впечатление давнего знакомства хеттов с этим районом. Самый первый «вилусский» документ хеттов — договор Алаксандуса и Муватталиса — рассказывает, что некогда хеттам подчинялась и Вилуса, и Арцава; позднее Арцава отпала, но Вилуса оставалась с хеттами в мире и дружбе, и отец Алаксандуса царь Кукунис даже оказал отцу Муватталиса — царю Мурсилису — помощь против Арцавы. Далее в этом документе следует: «У Кукуниса… было… вот он…» Исходя из того, что точно такое же сочетание слов было найдено в другом хеттском документе — об усыновлении одним хеттским царем некоего принца из страны Мира, историк И. Фридрих выдвинул смелую гипотезу, что и тут нужно читать: «У Кукуниса (не) было (детей), вот (он тебя, Алаксандус, и усыновил)». Гипотеза может показаться даже слишком смелой, учитывая скудость наличного текста, но ее делает привлекательной упоминание великого греческого драматурга Еврипида в его (известной, к сожалению, лишь в пересказе) трагедии «Александр» о том, что троянский Парис-Александр имел аналогичную биографию: он был усыновлен царем Приамом и провозглашен законным наследником, что вызвало недовольство и ропот троянцев. В договоре Муватталиса с Алаксандусом тоже говорится, что «человечество ропщет» против Алаксандуса. Параллели слишком волнующи, чтобы оставить их без внимания, — ведь, приняв гипотезу Фридриха, мы, по существу, обнаруживаем в хеттских текстах прямое указание на одного из главных героев «Илиады»! Судя по дальнейшему тексту договора, Муватталис поддержал Алаксандуса против «ропщущих» подданных, за что Алаксандус признал себя хеттским вассалом. Хетты, таким образом, в обмен за свою помощь получили еще одного вассала на западном берегу (в добавление к уже покоренным ими Хапалле, Мире и Стране реки Сеха). Как предположила Хайнхольд-Крамер, сколачивание этого блока вассальных царств было, видимо, необходимо хеттам для прикрытия побережья от возможного вторжения опасного врага. Мы сейчас увидим, что, скорее всего, этим врагом, была Ахиява, т. е. ахейцы. Пока же заметим, что с этим присоединением Вилусы к прохеттской коалиции прибрежных царств весьма подозрительно совпадает первое упоминание хеттами троянского племени: в стеле Рамзеса Второго о битве с хеттами при Кадеше (1275 г. до н. э.) говорится о хеттских союзниках «A-ru-sa-wi», что, видимо, означает воинов из Арцавы, и, «Dar-d-an-ja», что ученые расшифровывают как «дарданцы» — племя, обитавшее, согласно «Илиаде», на юге Троады-Илиоса (Вилусы); мы уже говорили много раньше, что это название то ли восходит к проливу Дарданеллы, то ли само дало ему такое название. Но откуда бы ни взялось слово «дарданцы», ясно, что их упоминание в Кадешской стеле — лишнее доказательство того, что Вилусу правильно отождествлять с Троадой: стоило ей стать вассалом Муватталиса (ум. в 1296 г. до н. э.), и вскоре (1275 г. до н. э.) вилусцы-дарданцы уже появляются в хеттских войсках при Кадеше. Есть и еще одно подтверждение того, что Вилуса — скорее всего, Троя: в договоре вилусского Алаксандуса с Муватталисом упоминаются вилусские боги; один из них — «Аппалинаус», что, несомненно, означает Аполлон. Напомним, что и у Гомера Аполлон не греческий, а именно троянский бог (о чем говорит, например, его история с Кассандрой, которой он хотел овладеть, а за отказ наплевал в уста). Следующим в списке вилусских богов назван «бог подземных вод», что не менее поразительно совпадает с тем фактом, что вблизи Трои воды реки Скамандр с шумом и грохотом выходят из подземного туннеля в широкое ущелье под горой Ида; это ущелье издавна было местом религиозных праздников в Троаде. Гомер, кстати, тоже называет Скамандр «божественным» и «богорожденным». После всего сказанного представляется уже почти несомненным, что в хеттских текстах, рассказывающих о царстве Вилуса, речь действительно идет о Трое-Илионе, знакомой Гомеру, и о ее древних царях времен Троянской войны: не забудем, что правление Муватталиса и его преемников, по какой хронологии ни считать, совпадает со временем существования Трои-6 и 7а, раскопанных Шлиманом, Дорпфельдом и Блегеном. Сам этот факт не так уж поразителен, если вдуматься, т— ведь сомнений в реальном существовании Трои на самом деле ни у кого нет, как нет сомнений и в том, что Троянское царство (а Троя-6, судя по ее размерам, должна была быть столицей довольно значительного царства — это самый большой древний город, раскопанный на северо-западе Малой Азии) уже хотя бы в силу своего геополитического расположения должно было входить в контакты с современной ему и соседствующей с ним могущественной империей хеттов. Приятно, конечно, что все эти представления, имеющие первоисточником гомеровский рассказ, подтверждены теперь перекрестными историческими, археологическими и лингвистическими доказательствами. Но это еще не доказывает исторической реальности описанной Гомером Троянской войны… Пока что мы не обнаружили в хеттских документах чего-либо, напоминающего об этом событии. Задумаемся поэтому: где следует искать такие упоминания (если они вообще существуют)? Ответ представляется однозначным. Троянская война велась ахейцами (для хеттов — Ахиявой) против Трои (для хеттов — Вилусы, их вассала). Следовательно, теперь, на завершающем этапе нашего исторического расследования, надлежит обратиться к тем хеттским текстам, в которых одновременно упоминаются и Вилуса, и Ахиява. Обратимся же к ним — и скорее — мы почти у цели! >ГЛАВА 11 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ХЕТТОВ Большинство хеттских документов повествует о внутренних делах империи; это вполне обычные, знакомые имперские дела: смены правителей, борьба за престол, смуты и гражданские войны, нерадивость местных чиновников и волнения в окраинных областях. Эти глиняные таблички не сохранили ни текстов своего Гомера, ни даже текстов своего Бродского, чтобы позволить потомкам вдохнуть горячую и горькую пыль тех веков, но и в них ощущается бескрайний размах имперского пространства, стянутого сетью нескончаемых, в пустоту уходящих дорог, всепроницаемость и вездесущесть централизованного надзора и тяжесть столичной длани на загривке провинций, бесконечная глушь отдаленных полисов и размеренная медлительность их предустановленного быта. Другой массив текстов посвящен делам внешним — это дипломатическая переписка с повелителями других империй, сообщения о битвах и походах, хвастливые отчеты о победах и сетования на нежданные поражения, договоры о торговле или их расторжение, смутные отголоски сложных политических интриг. Заморское царство Ахиява (которое большинство хеттологов, как мы уже говорили, отождествляют сегодня с материковой, «микенской» Грецией) упоминается здесь нечасто, около 20 раз, то есть несравненно реже, чем Ассирия и Египет, но ведь и то сказать — Ахиява далеко, и ее цари редко когда угрожают империи столь серьезно, как ее ближайшие и могущественные соседи на юге и востоке. Все же несколько-раз доходит, видимо, и до этого, и к таким конфликтам Ахиявы и хеттов нам нужно присмотреться особенно детально, потому что, как уже говорилось в конце предыдущей главы, отголоски Троянской войны, т. е. похода ахейцев на Трою-Вилусу, могут оказаться лишь в тех хеттских документах, которые повествуют о вторжениях царей Ахиявы в хеттские владения. Первый (из доныне найденных) хеттский текст, в котором упоминается такое вторжение, — это «рассказ о преступлениях Маддуваттаса», как его называют хеттологи, отнесшие этот рассказ после долгих споров примерно к 1440–1380 годам до н. э. Микенские греки в то время, как известно, уже овладели Критом и островами Эгейского моря, и вот уже пара десятилетий, как утвердились в Милете. Немудрено, что, ступив на побережье Малой Азии, они тут же начинают вмешиваться в дела прибрежных малоазийских земель, подвластных империи хеттов, и вот в тексте послания к некому Маддуваттасу (видимо, царьку одной из таких земель) в ходе перечисления его прегрешений впервые появляется упоминание об Ахияве: «…тебя (Маддуваттаса), из страны твоей изгнал Аттариссий, человек из страны Аххия… он и далее вслед за тобой… он постоянно преследовал тебя, он стремился к твоей, Маддуваттас, погибели. Но бежал ты, Маддуваттас, к от(цу Солнца Моего). И отец Солнца Моего отклонил тебя от погибели и Аттариссия назад отстранил…» В чем же состояли «преступления» Маддуваттаса, по которым названо это пространное и примечательное послание? Оказывается, едва оправившись благодаря помощи хеттов от поражения, он тотчас напал на своих соседей, других хеттских вассалов, и тогда отступивший было Аттариссий снова появился на сцене с огромным по тем временам войском, насчитывавшим 100 боевых колесниц. Пришлось снова отправлять против него хеттскую армию. Однако неугомонный Маддуваттас и после этого продолжал свои происки: он захватил ряд мелких прибрежных царств по соседству, сколотил из них серьезный анти хеттский блок и, что всего хуже, вступил в тайный сговор с Аттариссием и помог тому напасть на «страну Аласию» (ученые давно уже установили, что хеттская Аласия — это остров Кипр), где Аттариссий захватил много пленных (читай — будущих рабов). В этом месте так и просится упоминание, что по археологическим данным массовое проникновение микенской посуды на Кипр начинается именно в это время — около 1400 года до н. э. Мало того, массовое появление этой посуды на западном побережье Малой Азии тоже начинается в те годы, к которым, судя по хеттскому посланию, относятся вторжения «ахиявского царя» в малоазийские земли{16}. Созданная Маддуваттасом анти-хеттская коалиция сыграла роковую роль в истории «Старого» хеттского царства. Войдя в сговор с Египтом, эта коалиция едва не сокрушила хеттов; во всяком случае, накануне вступления на трон Тудхалияса Второго хетты находились на грани окончательного поражения. Однако новый правитель сумел отразить главные угрозы и возродить хеттскую империю под названием «Нового царства», а его преемники Тудхалияс Третий и Суппилулиумас неслыханно раздвинули пределы полученного наследия. На хеттских табличках сохранилась «Автобиография» Мурсилиса Второго, сына Суппилулиумаса, в которой он много рассказывает о своем отце, упоминая, в частности, что «когда отец мой в живых (был)… тогда он (что-то) с моей матерью… и ее в страну Ахиява… он на ту сторону отправил». Этот документ описывает времена, отстоящие на несколько десятилетий от походов Аттариссия, и отношения хеттов с Ахиявой за это время, видимо, изменились: они стали настолько дружественными, что Ахиява даже готова пойти навстречу хеттскому царю в довольно щекотливом вопросе распри с женой и принять у себя опальную царицу. Сам Мурсилис Второй продолжил победы своего отца, окончательно разгромив Арцаву, которая возглавляла антихеттскую коалицию на западном побережье Малой Азии, и главу ее, некого Ухацитиса, изгнал все в ту же Ахияву: «и он с моря… к царю Ахиявы… я снарядил с кораблем, и они увезли его прочь». Правда, в ходе этой войны был сожжен и главный форпост Ахиявы на побережье — город Милет, но ахиявские цари, судя по всему, не выразили никакого возмущения по этому поводу, и город вскоре был отстроен, кажется, руками самих же хеттов. А вскоре из Ахиявы ко двору заболевшего Мурсилиса отправляется некто «Антаравас» (возможно, Антреус) со статуями ахиявских богов, которые должны помочь выздоровлению царя. Одним словом, при Мурсилисе Втором глухая вражда между Хаттусой и Ахиявой сменяется подлинной политической идиллией. Однако ни во времена вражды, ни теперь, во времена дружбы, Вилуса в связи с Ахиявой, увы, не упоминается. Как мы помним, во времена правления следующего хеттского царя, Мувутталиса (1315–1296), некий принц из Вилусы, Алаксандус, опасаясь каких-то врагов, обратился за помощью к хеттам и согласился стать их вассалом (этими врагами скорее всего были его же «ропщущие» подданные, которым не понравилось, что усыновленный предыдущим вилусским царем Алаксандус взошел после его смерти На трон, минуя законных наследников). В договоре Алаксандуса с Муватталисом вассал обязывается противостоять какому-то врагу, и последующие события показывают, что обязательство это не было случайным — ожидать вторжения врага были все основания. Действительно, в сохранившемся отрывке письма, отправленного царем Страны реки Сеха (это царство, напомним, соседствовало с Вилусой с юга и востока) в Хаттусе, хеттскому царю (скорее всего, тому же Муватталису), говорится, что ожидаемый враг «пришел и войско страны Хатти привел… назад л страну Вилуса биться пошли». Весь этот эпизод хеттологи трактуют следующим образом: упрочив положение Алаксандуса на престоле Вилусы и сделав его своим вассалом, хетты, видимо, изменили прежнее положение вещей, при котором Вилуса была вассалом неведомого «врага»; этот противник не потерпел ослабления своих позиций и вторгся в страну, пытаясь восстановить прежнее положение; хетты тотчас отреагировали присылкой своих войск. Кто же этот неведомый противник, с которым хетты воюют из-за Вилусы? Хайнхольд-Крамер высказала предположение, что им могла быть Ахиява. На первый взгляд кажется, что это совершенно безосновательное предположение, но анализ последующих документов показывает, что оно вполне правдоподобно. Главным из этих документов является так называемое «Письмо о Тавакалавасе». Сопоставление его с другими хеттскими текстами, где упоминаются некоторые из лиц, указанных в «Письме», позволяет отнести события, излагаемые в письме, ко временам наследников Муватталиса — царя Мурсилиса Третьего (1296–1289), а скорее даже — его преемника и дяди, Хаттусилиса Третьего (1289–1265). Этот царь известен (из документов) своей политикой умиротворения противников, проводимой с большим дипломатическим искусством (впрочем, войну с Египтом при Кадеше он этим не предотвратил), а в «Письме о Тавакалавасе» обнаруживаются все приметы такой политики. История, стоящая за письмом, такова: некий Пиямарадус (судя по дальнейшему, мелкий властитель на западном побережье Малой Азии) восстал против хеттов на побережье, а когда хетты пришли навести порядок, этот «враг» бежал в Ахииву вместе с братом ахиявского царя Тавакалавасом, до того находившимся в Милаванде (как мы уже говорили выше, хеттская Милаванда — это главный ахейский, т. е. микенский, форпост в Малой Азии, город Милет, а имя Тавакалавас некоторые хеттологи отождествляют с греческим «Этеоклес», или «Этеокл», считая этого царевича Этеокла микенским наместником в Милете). И вот теперь хеттский царь пишет царю Ахиявы, именуя его «другом и братом», что он-де никаких враждебных замыслов против Ахиявы не имеет, Милаванду и трогать не намерен и просит лишь выдать ему мятежника Пиямарадуса, причем готов даже простить его, если царь Ахиявы будет на этом настаивать. Автор письма признает, что, возможно, обидел царя Ахиявы, и торопится заверить «друга и брата», что согласен на все его условия ради примирения с ним, а покамест посылает своего высокородного придворного в Ахияву в качестве «заложника мира». Подчеркнутая смиренность и миролюбивость текста выдает в авторе царя-миротворца Хатусилиса. Но самое интересное для нас таится в одной из второстепенных строк «Письма», где Хаттусилис вспоминает о прежних отношениях хеттов с Ахиявой. Он признает, что у царя Ахиявы могут быть обиды — ведь еще не так давно хетты воевали с ним из-за Вилусы, — но тут же оправдывается: во-первых, Ахиява ведь победила в той войне, а во-вторых, он, Хаттусилис, в ней вообще не виноват: «Я ведь юн был!» После чего восклицает с деланным недоумением: «Чего же еще?» Мол, какие еще могут быть претензии? Хаттусилис был «юн» во времена царствования своего брата Муватталиса, и это позволяет связать его слова о войне хеттов с Ахиявой из-за Вилусы с предыдущим сообщением царя Страны реки Сеха о вторжении неведомого врага в пределы Вилусы как раз во времена правления Муватталиса. В.таком случае предположение Хайнгольд-Крамер подтверждается: этим «неведомым врагом» действительно была Ахиява, цари которой не потерпели перехода Алаксандуса на сторону хеттов и сумели, по всей видимости, вернуть себе свои прежние позиции в Вилусе. Еще одно место из «Письма о Тавакалавасе» делает эту трактовку событий почти несомненной — здесь автор «Письма» вкладывает в уста своего адресата (царя Ахиявы) такое заявление: «Мы, царь страны Хатти и я, из-за этой страны Вилуса во вражде были мы… и он меня в отношении ее умиротворил и мы заключили договор». Иными словами, после кратковременной попытки Муватталиса повернуть Вилусу против Ахиявы и решительного военного ответа последней статус-кво был восстановлен и в отношениях, между хеттами и Ахиявой снова наступила идиллия. Но времена менялись. И в дипломатических текстах, относящихся к правлению следующего хеттского царя, воинственного Тудхиялиса Четвертого (1265–1235 гг. до н. э.), царь Ахиявы уже перестает быть «братом и другом». Причем перестает им быть весьма эффектно. В перечислении великих царей, содержащемся в одном из тогдашних документов, знак титулатуры «Его Величество», поставленный писцом перед словами «царь Ахиявы», стерт с таблички с таким усердием, словно была допущена грубая политическая ошибка. И в другом тексте, повествующем о победоносном походе хеттов на Аласию-Кипр, где в то время, — археологам это доподлинно известно — было много ахейских городов, никакого упоминания о «великой Ахияве» тоже нет, она в этом тексте не присутствует вообще. И то же самое — в третьем тексте, в «Письме в Милаванду», где этот давний и главный ахейский форпост в Малой Азии запросто, словно так и должно быть, словно так всегда и было, именуется хеттским владением — нет Ахиявы! Что, микенская держава распалась, исчезла под натиском каких-то врагов? Нет, она существует, это известно из других — греческих — источников, но хетты уже с ней не считаются, теперь она для них — побежденный и поверженный противник. Когда и как это произошло? Возможный ответ на это содержит документ, относящийся, по всей видимости, к началу царствования Тудхалияса Четвертого и представляющий собой очередное сообщение о военных столкновениях на западном побережье: «(Царь или народ) Страны реки Сеха снова дважды согрешил… вел войну. И царь страны Ахиявы отступил назад… отступил назад, а я, Великий Царь, пришел». Судя по этому тексту, сам царь Ахиявы вторгся в хеттские владения в районе реки Сеха, но потерпел сокрушительное поражение и был отброшен назад. Кажущееся незначительным и рядовым, событие это давно уже привлекло внимание хеттологов своим сходством с другим событием того же (если верить греческой традиции) времени, происходившем в том же (если верить традиции) месте. Речь идет об упоминаемом множеством древнегреческих авторов неудачном «первом» походе царя Микен Агамемнона и его спутников на Трою. У Гомера об этом событии глухо говорит Елена Прекрасная в своем плаче по Гектору, в самом конце «Илиады»: «Ныне двадцатый год круговратных времен протекает с оной поры, как пришла в Илион я, отечество бросив». Кажется странным, что Елена насчитывает уже 20 лет со времени своего побега с Парисом в Трою — ведь осада Трои, по Гомеру, продолжалась всего 10 лет! Но поэмы упоминавшегося нами в первых главах (и предшествовавшего Гомеру) «Эпического цикла», прежде всего — «Киприя», пересказ которой сохранился у автора V века до н. э. Прокла, рассказывают, что походов на Трою на самом деле было два, и во время первого ахейцы, «выйдя в море, причалили к Тевтрании и начали ее грабить, как будто Илион; Телеф же (местный царь) поспешил на помощь». Аналогично у другого автора V века — Аполлодора: «Не зная морского пути в Трою, пристали к Мисии (Тевтрании) и стали ее разорять, думая, что это Троя; Телеф же, царствовавший над мисийцами, погнал эллинов к кораблям и убил многих». После этого ахейцы целых 10 лет не могли оправиться от позорного поражения и лишь затем снова собрались с силами для второго похода, который и стал знаменитой Троянской войной; Елена, стало быть, была права, говоря о двадцати годах своего пребывания в Трое: десять лет перерыва между первым и вторым походами и десять — осады. Мисия, или Тевтрания, согласно греческой традиции, — это страна между реками Каик и Меандр, что к югу от Трои; об этом говорит историк II века Павсаний («У отправившихся в Трою с Агамемноном случилась ошибка во время плавания, результатом чего была битва в Мисии, и как напоминание об этом входящему в долину Каика служит камень в городе Элее…») — но у хеттов эти же места назывались Страной реки Сеха, и именно здесь, если верить документу тудхалиясовских времен, был с позором разгромлен «царь Ахиявы». И поскольку все прочие документы из анналов того же Тудхалияса Четвертого «великую Ахияву» больше не упоминают, надо полагать, что это незадачливое вторжение ахейцев произошло в самом начале правления Тудхалияса, т. е. близко к 1265 году до н. э. Если вся эта трактовка верна (а многие хеттологи на ней настаивают), то мы наконец-то можем с истинно гоголевским удовлетворением воскликнуть: «Отыскался след Троянского похода!» И ведь действительно вроде бы отыскался — пусть не второго, главного, а первого, неудачного, что из того? Куда важнее, что Гомер говорил правду: Троянская война — была! Гиндин и Цымбурский привлекают в этом месте внимание специалистов к еще одному замечательному документу, который представляет собой письмо царя хеттов к царю Ахиявы (именуемому без титула пренебрежительным «господин»). Пробиваясь сквозь путаницу фраз: «(ты)… написал… какие твои (страны) в запустении (были), их мне во владения отдал Бог Грозы. Царь страны Ассува… Акагамнус, дед отца, связал. А нынче Тудхалияс… его низвергнул», авторы делают смелое предположение, что речь идет о давней попытке прадеда нынешнего царя Ахиявы, некого «Акагамнуса», выступавшего под покровительством Бога Грозы, оттягать себе хеттские земли, пользуясь каким-то их «опустошением» — например, в результате землетрясения: известно ведь, что Троя-6 была разрушена мощным землетрясением примерно за 50 лет до того, как ее осадил и взял Агамемнон. Предположение смелое, потому что авторы, по сути, хотят одним махом решить загадку Троянской войны, объявив указанный документ ее «хеттским отголоском». В самом деле, если, вслед за авторами, видеть в «Акагамнусе» хеттское произношение имени «Агамемнон», в Боге Грозы — Громовержца Зевса, а в самом нашествии «ахиявцев» — взятие ахейцами Трои через 20 лет после их неудачной высадки на реке Каик, в начале царствования Тудхалияса Четвертого, то событие это следует отнести к середине или даже к концу этого царствования — скажем, к 1245–1240 годам до н. э., что, вообще говоря, совпадает с датой Троянской войны, предложенной К. Блегеном. Но эта гипотеза немедленно наталкивается на очевидные трудности. К каким временам относится рассматриваемое письмо, коль скоро его писал правнук «Акагамнуса»? Ведь даже приняв дистанцию между правнуком и прадедом всего в 60 лет, мы оказываемся в 1180 году до н. э., а в это время хеттская империя была уже сокрушена, и никаких царей, к которым могло быть. обращено такое послание, в Хаттусе уже не было, потому что и самой Хаттусы не было — сожжен он был и разрушен. И когда же, задумаемся, успел Тудхалияс Четвертый «низвергнуть» надменного этого «Акагамнуса»-Агамемнона после его победы над Троей, если всех лет царствования этому хеттскому царю осталось в лучшем случае четыре-пять? Нет, предположение Гиндина — Цымбурского загадку Троянской войны не решает, и потому нам придется сделать еще одно — впрочем, на сей раз действительно последнее, — усилие и попытаться найти в хеттских текстах иное, более убедительное свидетельство ее реальности. Или даже доказательство, если повезет. Повезет ли? >ГЛАВА 12 ИСТОРИЯ ТРЕХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ Подсчитаем наши бесспорные достижения. Мы убедились, что хеттские документы подтверждают реальное существование могучей микенской державы ахейцев, о которой говорит Гомер, — у хеттов это Ахиява. Мы увидели, что хеттские тексты засвидетельствовали реальное существование сильного и геополитически важного Троянского царства; у хеттов это царство Вилуса, расположенное на северо-западе малоазийского полуострова — именно там, где Шлиман нашел великую Трою. Мы обнаружили даже следы одного из царевичей Трои, названных велитсим Гомером, — усыновленного Париса-Александра, виновника Троянской войны; похоже, что у хеттов это Алаксандус, усыновленный царем Вилусы и поддержанный на троне властителем хеттской империи Муватталисом. Описанная в поэмах догомеровского «Эпического цикла» ошибочная высадка экспедиции Агамемнона у реки Каик и ее позорный разгром и бегство описаны также и хеттами — в виде незадачливого вторжения царя Ахиявы в Страну реки Сеха; даже географическое положение мест почти совпадает. Этих перекрестных совпадений так много, что постепенно они складываются в плотную сеть взаимосвязанных прочтений, каждое из которых подкрепляет предыдущее и подсказывает последующее, как во внезапно полностью раскрывающемся кроссворде. В целом можно сказать, что мы нашли еще одно подтверждение реальности микенской цивилизации — Шлимана — на сей раз в документах хеттов. Но наш поиск еще не закончен. Мы еще не нашли пока в этих документах никакого упоминания о том ахиявском триумфе в Вилусе, который греческая традиция описывает как осаду и взятие великой Трои ахейцами, как победное завершение Троянской войны. Чтобы приблизиться к этой цели, нам придется двинуться несколько обходным, на первый взгляд, путем — вернуться в Троаду-Вилусу и ее великую столицу. Великая Троя… Раскопки Шлимана лишь обнаружили ее истинное расположение; Дорпфельд углубился чуть дальше в ее прошлое, но только многолетние труды Карла Блегена позволили наконец выявить главные даты в биографии могучей крепости на равнине Скамандра и со всей несомненностью установить, что ее начало, первые следы поселения людей на Гиссарлыке, восходит к поистине баснословной древности — примерно 3600 лет до н. э.! До своего окончательного исчезновения, скажем, в XV веке нашей эры, Троя, следовательно, прожила свыше пяти тысячелетий, всего на пару тысяч лет меньше, чем Йерихо, этот древнейший город на Земле. В том культурном слое, который Шлиман, открыв его во время своего второго цикла раскопок, считал «древнейшим», поселение было заложено около 2500 года до н. э., то есть через целую тысячу лет после основания городища на холме. Знаменитая шлимаиовская Троя-2, которую он поначалу считал современницей Троянской войны — «Приамовой Троей», возникла в действительности за две тысячи лет до нашей эры, а это значит — как минимум за шесть столетий до предполагаемой даты этой войны. Судя по найденным там Шлиманом развалинам дворца и многочисленным золотым украшениям (пресловутая «диадема Елены»), Троя уже в то время была центром какого-то небольшого царства, властители которого, надо полагать, обогащались за счет выгодного стратегического положения своего города вблизи Дарданелл. Видимо, уже и тогда эти «таможенные поборы» троянцев вызывали чье-то сильное недовольство, ибо Троя-2 погибла в результате штурма: об этом свидетельствуют следы пожара и разрушений, а также тот факт, что «диадема Елены» вместе с прочим золотишком были брошены просто на землю, словно жителям, торопливо бежавшим из города, было уже и не до золота. Можно думать, однако, что это же «проклятие» Трои было одновременно и ее «благословением», ибо местоположение города у Дарданелл побуждало людей снова и снова возвращаться в эти края и основывать здесь поселение или даже крепость, — уже через сто лет после разрушения Трои-2 на ее развалинах (поверх них) возник очередной город — Троя-3, а еще через сто лет — на развалинах этого города — следующий, Троя-4. Проходит еще столетие, и его сменяет Троя-5 — по предположениям историков, именно тогда в здешние места пришли новые, индоевропейские племена, умевшие приручать и использовать лошадей (вспомним, что Гомер в «Илиаде» тоже говорит о «троянских конях», да и хетты тоже, как полагают, вывели свое название всего западного побережья Малой Азии, «Ассува», из слова, означавшего у них коня). Некоторые историки полагают, что племена, пришедшие тогда в Трою, составляли часть огромного воинства, основная масса которого осталась на противоположном берегу Дарданелл, на севере Балкан, и много позже стала называться фракийцами; они видят подтверждение этой гипотезы в совпадении множества названий околотроянских мест и народностей с фракийскими топонимами и этнонимами. Лишь позднее, говорят они, Троя обособилась, стала отдельным царством, и ее жители стали называть себя «троянцами» или «дарданцами». Что ж, возможно; возможно даже, что из тех же протофракийских племен, что троянцы, вышли (и двинулись на юг) и будущие греки; это могло бы объяснить их последующую, роковую, многовековую тягу к Троаде — неосознанное родство, почти по Фрейду. Впрочем, оставим. Несколько позже, на грани 1600–1500 годов до н. э., в культурных слоях Трои-5 обнаруживается микенская посуда, то есть следы прямых контактов между Троей и Микенами. Эти следы сохраняются до 1200 года до н. э., но за это время совершаются четыре важнейших события в истории Трои: возникает Троя-6 с ее крепостными стенами и бастионами, дворцом и аристократическими зданиями, напоминающими описания Гомера; происходит землетрясение, разрушающее этот город; окрестные жители возвращаются на развалины и строят там убогие, тесные и скученные лачуги — Трою-7а; и спустя 50 лет после своей предшественницы Троя-7а гибнет, как и та, только уже от рук людей — в огне и разрушениях, военного штурма. Последнее событие Блеген помещает между 1270–1250 годами до н. э. Снова проходит каких-нибудь полвека, и над развалинами Трои-7а возникает новый, тоже небольшой город — Троя-7б. Ее остатки тоже свидетельствуют о насильственном разрушении, но не таком полном, как раньше, — следы жизни переходят в следующий культурный слой непрерывно, как если бы часть жителей осталась на месте и продолжала поддерживать существование, города; более того, останки посуды свидетельствуют о смешении этих коренных троянцев с какими-то пришельцами из-за Дарданелл, возможно — опять из той же Фракии. Такая же посуда обнаруживается несколько выше по течению Скамандра, в Бурунбаши, — видимо, часть троянцев переселилась туда, так что недаром в новое время кое-кто считал, что Троя находилась именно в Бурунбаши, а не на Гиссарлыке. Однако примерно к 1000 году до н. э. последние следы жизни и там, и там исчезают древняя Троя окончательно уходит в прошлое. Но место «свято», и оно не опустевает: еще 200–300 лет спустя в Троаду (или, как она еще называлась, Илион, а у хеттов — Вилуса) приходят поселенцы с соседнего греческого острова Лесбос и основывают здесь «Эллинскую Трою» — «маленький торговый городок», как сообщают первые древнегреческие историки. Возможно, именно здесь побывал когда-то Гомер; возможно, в этих местах еще сохранялись тогда следы Древней Трои и, кто знает, даже легенды о героическом прошлом этого города. Как бы то ни было, с этого момента Троя вступает в период письменно зафиксированной истории: «Новый Илион» сменяется городом Александрова полководца Лизимаха, «Александрией Троянской», потом римской колонией Новый Илион, это уже Троя-9, по датировке Блегена; ее сменяет центр христианского епископата — «Византийская Троя», но к 1000 году нашей эры это поселение тоже угасает, и спустя еще 500 лет тут возникает последнее на Гиссарлыке поселение — деревня Гиплак, позднее покинутая жителями; останки ее поросли диким кустарником, не гнущимся даже под здешними ветрами. Очертим границы нашего поиска: весь наш предшествующий рассказ сосредоточен практически в пределах одного-полутора столетий — от гибели многовековой Трои-6 до гибели скоротечной Трои-7б. Как мы помним, поначалу Дорпфельд решил, что «Приамовой» («гомеровской») является именно могучая Троя-6. Но затем Блеген объявил, что этот богатый и укрепленный царский город был на самом деле разрушен мощным землетрясением, зато следы пожара, убийств и разрушений, которые могла причинить только война, присущи жалкой, «лачужной» Трое-7а, находившейся в полуразрушенных стенах предыдущей крепости. На первый взгляд, такая последовательность событий соответствует греческой мифо-эпической традиции. Эта традиция утверждает, что задолго до Агамемнона великий Геракл уже предпринял поход против троянского царя Лаомедонта, которому помогал бог моря Посейдон. Естественно Геракл победил: он захватил и разрушил Трою и посадил в ней нового царя — Приама, но предварительно ему пришлось схватиться врукопашную с неким «Посейдоновым чудищем», которое бог послал на защиту любимого города. Остается вспомнить, что греки считали Посейдона «сотрясателем земли», т. е. приписывали ему причину землетрясений, и тогда в эпизоде сражения Геракла с «Посейдоновым чудищем» легко усмотреть подернутое мифопоэтическим туманом воспоминание о реальном землетрясении, некогда разрушившем город Лаомедонта. Поскольку, по Блегену, землетрясение разрушило именно Трою-6, то именно ее он и объявил «Лаомедонтовой». По его расчетам, это «первое взятие Трои» (Гераклом) произошло примерно в 1300 году до н. э. (Заметим, что такая дата хорошо согласуется с описанной в «Письме о Тавакалавасе» распрей хеттов с Ахиявой за Вилусу, при царе Муватталисе.) Здесь уместно объяснить, на чем основывались эти расчеты. Подобно всем другим археологам до и после него, Блеген руководствовался в определении дат типом посуды, или, точнее, типом обработки керамической посуды, обнаруживаемой в том или ином культурном слое. В истории микенской керамики (которая сама датируется по египетским памятникам и, в свою очередь, позволяет датировать те раскопки, где она обнаруживается) существует очень важная и отчетливо прослеживаемая граница — примерно 1240–1190 годы до н. э., скорее, ближе к последней дате: до этого перелома керамика принадлежит к типу 3В (или еще более ранней 3А), после него — к типу 3С (более примитивному и грубому, который еще иногда называют «варварским»). Считается, что упрощение способов обработки керамики связано с общим падением ремесел в микенской Греции, а оно — с распадом и крахом микенской цивилизации в целом, павшей под натиском неведомых пришельцев с севера. Об этих загадочных пришельцах, разрушивших не только Микенский союз древнегреческих царств, но заодно и Хеттскую империю, и вообще радикально переменивших лицо древнего Средиземноморья, мы уже однажды упоминали, обещая поговорить о них в конце нашего рассказа; и нам действительно придется сейчас о них говорить. Но пока вернемся к Блегену и его расчетам. Раскапывая Трою-7а, Блеген не нашел в ее слоях признаков керамики типа ЗС и потому заключил, что этот город погиб раньше роковой даты варварского вторжения, т. е. раньше 1240 года до н. э.; поэтому он отнес дату взятия Трои-7а на 1270–1260 годы. Мы следовали этой схеме, когда в одной из предыдущих глав закончили рассказ о раскопках Трои выводом, что «Приамовой Троей» оказалась блегеновская Троя-7а. Теперь я вынужден с огорчением сказать, что нам придется изменить этот вывод. Дело в том что через несколько десятилетий после Блегена, в серии работ 1970–1980 годов самый авторитетный в мире специалист по микенской керамике Фурумарк сообщил, что повторное изучение некоторых керамических обломков, найденных Блегеном в Трое-7а, заставляет отнести их к типу 3С. Но керамика этого типа могла появиться в городе только после 1240–1230 годов до н. э. как минимум. Значит, Троя-7а существовала после этой переломной даты. Однако в ту пору Микенский «союз греческих героев» уже никак не мог осадить, захватить и разрушить Трою-7а, ибо сам был к тому времени подорван, а то и вовсе разрушен пришельцами с севера. Стало быть, блегеновская Троя-7а никак не могла быть той «Приамовой» Троей, которую осаждал и захватил Агамемнон. Прямым следствием этих сенсационных выводов Фурумарка было то, что археологи и историки. в подавляющем своем большинстве отвергли схему Блегена, и последние годы основная часть специалист тов снова вернулась к мнению Дорпфельда, признав «Приамовой» (гомеровской) могучую Трою-6. Английский историк Майкл Вуд сформулировал это новое представление следующим категорическим образом: «Если Троянская война была столь величественной, как описано у Гомера, она могла быть только войной против Трои-6». В поддержку этого утверждения сегодня приводится ряд новых фактов. Как показали археологические открытия последних лет, Трою-6 действительно постигло мощное землетрясение, и в этом Блеген был прав, но окончательное разрушение ее дворцов и аристократических зданий (на месте которых возникли позднее лачуги и времянки Трои-7а) было все же делом рук человеческих, а точнее — греческих, микенских: археологи нашли в слоях Трои-6 многочисленные останки микенского оружия, следы пожара, возникшего при захвате и разграблении города, и некоторые признаки нарочитого разрушения крепостных стен. Этот бесславный конец могучей Трои-6, просуществовавшей несколько столетий, сегодня датируется 1270–1260 годами до н. э. Новая датировка обоснована надежнее блегеновской, потому что базируется на более точном и детальном анализе типа керамики, но фактически она совпадает с датировкой Блегена. «А что же Троя-7а?» — немедленно спросите вы. Если поход Агамемнона («Троянская война») имел целью захват и разрушение Трои-6, то кто же и когда разрушил следующую по счету Трою, возникшую на развалинах предыдущей? И что означали найденные Блегеном в этом следующем городе признаки подготовки его жителей к осаде — скученность жилищ, врытые в землю кувшины с запасами продовольствия и т. п.? Упомянутое «большинство специалистов» располагает ответами и на эти-заковыристые вопросы. Они утверждают, что Троя-7а просуществовала вплоть до начала XII века до н. э., примерно до 1190–1180 годов. Но надо иметь в виду, что вся вторая половина XIII и начало XII веков до н. э. были эпохой нашествия северных варваров, которые накатывались на Средиземноморье несколькими последовательными волнами. То были времена всеобщего разрушения, хаоса и неустойчивости, и поэтому можно думать, что особенности жизни в Трое-7а попросту отражали общую неуверенность тогдашних людей в завтрашнем дне, их постоянную настороженность в предчувствии возможного набега бродивших повсюду варварских отрядов. «Не исключено, — говорит тот же М. Вуд, — что именно один из таких отрядов и разрушил Трою-7а, ведь она была слишком бедна и слаба, чтобы долго защищаться даже против небольшой группы захватчиков; не исключено также, что в числе этих захватчиков были и примкнувшие к варварам микенские ахейцы; но в любом случае то не были уже дружины Агамемнона и других греческих героев — времена героев давно прошли; скорее то была жалкая кучка искателей приключений и легкой наживы». Так выглядит новая схема «троянских событий», сложившаяся в самые последние десятилетия и принятая, как уже сказано, большинством современных исследователей. А как выглядит в свете этой схемы наш поиск отголосков Троянской войны в хеттских документах? Всмотримся снова в даты, и мы поймем, что искать в этих документах следы грабительского набега варваров на Трою-7а попросту безнадежно: в то время, к которому Вуд и другие относят это событие, в 1190–1180 годах до н. э., Хаттуса уже лежала в развалинах, ибо хеттская империя и сама уже рухнула под натиском тех же варваров. Но поход Агамемнона (если он вообще реален) происходил по этой схеме в 1270–1260 годах до н. э., а в это время хеттская империя еще существовала. По нашей «хронологии хеттских царей», это годы правления воинственного Тудхалияса Четвертого, того самого, при котором произошло вторжение «царя Ахиявы» в Страну реки Сеха (точности ради заметим, что сторонники новой схемы пользуются несколько иной хронологией и потому считают, что в это время в Хаттусе еще правил Хаттусилис Третий). Об этом вторжении упоминается в одном из хеттских документов, связанных с Ахиявой, — в письме правителя Страны реки Сеха к хеттскому царю. Так вот, говорят современные историки, это упоминание и есть искомый «хеттский отголосок» Троянского похода микенского царя Агамемнона, если угодно — прямое подтверждение реальности этого похода. Если принять это толкование, то наши поиски становятся излишними: мы, оказывается, давно нашли то, что искали; мы только не опознали найденное. Разумеется, такое разочаровывающе будничное завершение долгих поисков напоминает скорее сырое шипенье намокшего заряда, чем тот эффектный громовой взрыв, который от него ожидался, но что делать, если авторитетные специалисты думают именно так? Только развести руками. Хорошо еще, что мы выбрали в качестве представителя мнения большинства цитату из Майкла Вуда, который все-таки верит в реальность Троянской войны; много более авторитетный Шахермайр, к примеру, в это не верил и в свете новых данных считал, что Троянской войны не было вообще: «Илиада» — это переработка мифа о походе Геракла, а Троянский конь — это преобразованное воображением Гомера «Посейдоново чудище». Есть, однако, еще и мнение меньшинства, которое не согласно ни с Вудом, ни, тем более, с Шахермайром. Это меньшинство предлагает совершенно иное решение загадки Троянской войны, и этому меньшинству мы и предоставим сейчас, как давно обещали, последнее слово в нашем историческом расследовании. >ГЛАВА 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. НАРОДЫ МОРЯ Мы обещали в заключение предоставить слово тому меньшинству среди современных историков и лингвистов, занимающихся загадкой Троянской войны, которое энергично отстаивает свой особый взгляд на эту проблему. Судить об их правоте или неправоте мы, конечно, не сможем, но несомненную увлекательность возникающей из их рассуждений картины наверняка сумеем оценить. Начать хотя бы с того, что первые, кто во весь рост появляется на этой картине, — это те самые загадочные «северные варвары», о которых мы уже несколько раз говорили. Теперь мы, наконец, узнаем, кто они такие. Это — «народы моря», разгадке происхождения которых посвящены сотни исследований и десятки толстых научных книг. Их название восходит к двум египетским документам времен фараонов Мернепты и Рамзеса Третьего, один из которых правил в, 30-е годы XIII века до н. э., а второй — лет на сорок позже. Как сообщает рассказ Мернепты (точнее, его писца), на 5-й год правления этого фараона «пришли с моря народы» — лувийцы, шардана, ахейцы, турша, сикелы и многие другие — и пытались ворваться в Египет. Мернепта дал им бой и разгромил. На поле битвы осталось около двух с половиной тысяч пришельцев. Египтяне разделили убитых на два класса: обрезанных, как и они, — у этих они для счета отрубали одну руку, и необрезанных, у которых для счета отрубался пенис. Все эти руки и половые члены были свалены в кучу у ног фараона-победителя, как немецкие флаги некогда на Красной площади, и отсюда мы знаем, что необрезанных лувийцев и прочих было тысячи полторы, а все остальные были ахейцы (которые в ту пору, представьте, практиковали обряд обрезания). Благодаря историкам мы знаем также, что означают некоторые из упомянутых выше этнонимов: «шардана» — это балканский народ, который впоследствии заселил остров Сардиния, «турша» — это тирсены, поначалу северо-балканское племя, позднее переселившееся на юг Троады (о нем упоминает Гомер), после распада первой коалиции «народов моря» они мигрировали в Италию, где, по-видимому, дали начало этрускам; «сикелы» — будущие сицилийцы; ахейцы же нам знакомы — это микенские греки. Вся эта огромная масса племен, по мнению историков, двигалась с севера, из нынешней Фракии, сметая на своем пути прежние государства, в том числе Микены и Хатти, вынуждая к бегству одни народы (в это время началось великое переселение греков на периферию своего мира), обращая в рабство другие и увлекая за собой третьи. В документах из древнего ближневосточного города-государства Угарит сохранились письма от царя хеттов, который панически просит прислать ему на помощь угаритский флот, чтобы отбить нашествие варваров; известно (из египетских источников), что Мернепта послал царю Хатти пшеницу, чтобы прокормить население, оставшееся среди растоптанных полей; дипломатическая, переписка великих держав того времени запечатлела ощущение страха и судорожные попытки организовать совместный, отпор чудовищному потоку диких воинов на конях, повозках и идущих пешком. Попытки эти не увенчались успехом. Новое вторжение удалось лишь оттянуть — лет на тридцать, — но не предотвратить. На 5-й год правления Рамзеса Третьего, сообщает его стела, «народы моря» пришли вновь. На сей раз они окончательно сокрушили Хатти (впрочем, считается, что этому немало помогли внутренние распри), Арцаву, Аласию (Кипр), Угарит, полностью разорили микенскую Грецию и Крит, угрожали самому существованию Египта. Свою победу над ними Рамзес Третий считал главным достижением своей жизни. Он утверждал, что их вторжение было опасней гиксосского. В этот раз основу пришельцев составляли тевкры (из протофракийских племен, родственных троянцам) и пелашти; отброшенные Рамзесом от границ Египта, эти пелашти осели на восточном берегу Средиземного моря, дав название своей стране — Палестина, а сами стали теми «филистимлянами», что так хорошо известны Библии (там они называются «плиштим»); их культура (керамика, захоронения, обычаи) была во многом микенской, заимствованной по дороге; их предыстория связывает наш рассказ с предысторией евреев в Земле обетованной, но мы не будем сейчас отвлекаться в эту интереснейшую сторону (желающие могут обратиться, например, к книге копавших древнюю Филистию израильских археологов Моше Дотана и его жены Труды «Народы моря в поисках филистимлян», Нью-Йорк, 1993). Сейчас нам важнее узнать, что, оказывается, греческая традиция хранит некие смутные воспоминания о том, что когда-то в незапамятные времена ахейцы действительно вторгались в Египет и что это вторжение напрямую связано с Троянской войной! В поэмах догомеровского «Эпического цикла» рассказывается, что греки, взяв Трою, рассорились: Менелай обиделся на Агамемнона, отделился от главного отряда, вернувшегося на родину, и двинулся со своей дружиной в Египет, где был, однако, разбит. Гомер в «Одиссее» (песни 3 и 4), переиначивая тот же мотив, говорит, что на обратном пути из Трои буря занесла корабли Менелая в Египет, где он скитался целых 10 лет. В той же поэме, в песнях 13 и.14, Одиссей (уже на Итаке) рассказывает, будто во время своих скитаний пытался вторгнуться со своей дружиной в Египет, но был отогнан. И много позже Геродот собирает, повторяет и дополняет своими вымыслами все эти истории. По расчетам археологов, вторжение «северных варваров» в Грецию произошло примерно в 1240–1230 годах до н. э. — именно к этому времени относится появление керамики «варварского» стиля. Согласно египетской хронологии (она допускает несколько толкований, но здесь берется самая ранняя дата), первое вторжение «народов моря» произошло примерно в 1230 году. Главной ударной силой этого вторжения были ахейцы, видимо, примкнувшие к северным варварам, и жители южной Троады — турша, или тирсены. Что свело их вместе? Не могло ли быть так, осторожно спрашивают Гиндин и Цымбурский («Гомер и история восточного Средиземноморья»), что они объединились в Троаде, куда ахейцы вместе с другими северными варварами пришли для захвата Трои? Именно там, взяв город, разграбив и разрушив его, обретя дополнительных сильных союзников и гонимые мечтой о новых грабежах и новой добыче, ахейцы могли повернуть дальше на юг и, пройдя страну Хатти, ворваться в Египет фараона Мернепты. Если дело действительно обстояло так, то нельзя ли предположить, продолжают наши авторы, что это и был тот поход ахейцев, который много позже разросся в воображении потомков до размеров Троянской войны и последующей вооруженной высадки Менелая и Одиссея на египетских берегах? В таком случае придется признать, что Троянская война происходила не на взлете Микенского царства, а на его излете, когда оно уже рушилось под натиском северных варваров. Не случайно царствовавший именно в те времена Тудхалияс Четвертый велел вычеркнуть Ахияву из списка великих держав. И не случайно и Гомер, и народная традиция греков утверждают, что конец Троянского похода совпал с гибелью его царственных героев, распадом их царств и концом «героического века». Суммируя эти факты и предположения, сторонники новой гипотезы рисуют следующую, уже третью по счету, возможную картину событий (она третья, если первой считать блегеновскую трактовку Троянской войны как «похода на Трою-7а», а второй — новейшую трактовку этой же войны как «похода на Трою-6а»). В этой третьей трактовке никакой «великой» Троянской войны не было; а было вот что — где-то около 1240 года до н. э. Греция пережила первое нашествие северных варваров, резко ослабивших ее царства, но после их возвращения на Балканы предприняла попытку восстановить свои прежние позиции. Именно тогда царь Микен (Ахиявы) послал хеттскому царю Тудхалиясу Четвертому письмо с напоминанием договора о Вилусе; царь Хатти, однако, игнорировал это напоминание, и микенцы решили силой отвоевать Вилусу-Трою, но, увы, по ошибке высадились в Стране реки Сеха (Каик) и потерпели поражение. С этого момента начинаются их беспрестанные попытки расквитаться за позор, поэтому неудачную высадку у Сехи можно считать началом Троянской войны. В таких мелких попытках проходит почти 20 лет, но потом ахейцы все же добиваются своего благодаря помощи вновь пришедших в Грецию северных варваров, «народов моря». Объединившись с ними, они наконец захватывают Трою (по датам это Троя-7а, так как дело происходит примерно в 1230–1220 годах до н. э.), после чего движутся на Египет, где терпят поражение, откатываются и рассеиваются по берегам Средиземного моря. Этот уход из Греции множества ее самых отчаянных, предприимчивых молодых воинов (не забудем — только в бою с Мернептой их погибло свыше тысячи двухсот — огромное по тем временам число) окончательно ослабляет страну, и в образовавшийся вакуум вскоре вторгается новое северное племя, на сей раз родственное грекам, — дорийцы. Наступают «темные века» греческой истории. В отличие от двух первых гипотез, базирующихся в основном на археологических фактах, эта третья опирается преимущественно на факты лингвистические. Но нельзя не видеть, что и в этой схеме есть множество хронологических и прочих натяжек. В целом выводы из всего сказанного представляются, скорее, неутешительными. То, что во времена Шлимана казалось таким ясным и определенным, сегодня снова подернулось туманом зыбкой неопределенности. Хотя новейшая «археологическая гипотеза» объявляет «Троянской войной» поход ахейцев против Трои-6, она не исключает возможность их второго, крайне незначительного, похода против Трои-7а совместно с варварми. Со своей стороны, новейшая «лингвистическая гипотеза» считает подлинной «Троянской войной» именно этот поход (с ее точки зрения, единственный). А в схеме стоящего особняком Шахермайра никакого Троянского похода, как мы видели, не было вообще. Так что нам, скорее всего, так и не удастся до конца решить загадку этой воспетой Гомером войны — была она в действительности или нет? И если была, то когда? Пройдя по текстам Гомера, через данные археологических раскопок, тексты линейного письма Б хеттские клинописные документы, мы нигде не отыскали совершенно однозначных свидетельств «за» или «против» ее реальности. Каков же итог? Скорее всего, правы Гиндин и Цымбурский, когда заключают: «Видимо, слияние некого многовекового лейтмотива (прежних походов — Геракла или хеттской «Ахиявы» — на Трою. — Р.Н.) с порывом «бегства за моря», охватившим массы ахейцев после первого нашествия северных варваров и придавшим новому походу на Илион общеахейский размах, и породило тот грандиозный облик, какой обрела в памяти греков Троянская война». Та «Троянская война», что была, добавим, последней. Больше уже, если верить названию пьесы Жана Жироду, «Троянской войны не будет»… >Комментарии id="c_1">1 Самыми последними из этих книг по времени уже в наши дни стали многочисленные произведения, посвященные т. н. «теории разумного дизайна» («Intelligent Design», или ID). Этими словами ее создатели сокращенно называют утверждение, будто сложность живых существ и обнаруженное астрономией точное соответствие космических параметров всем требованиям возникновения разумной жизни якобы свидетельствуют о том, что космос был «сконструирован» (причем именно для появления жизни и человека) неким высшим Разумом, или Разумным Конструктором. С благословения сочувствующих этому тезису американских политиков-республиканцев, в том числе и самого президента Буша, эта теория, по сути возрождающая креационизм в новом обличье, сейчас внедряется в американские школы в качестве «научной» альтернативы теории эволюции. id="c_2">2 В еврейской системе летосчисления, изложенной в летописи «Седер Олам Рабба» и ведущей счет годам от Сотворения Мира, «баhарад» — сокращенное название для новолуния первого месяца от начала мироздания; это первое новолуние называется также «новолунием хаоса» (молад ТОРУ). id="c_3">3 Цепочка рава Элиягу Залмана замечательна и другими своими особенностями. Например, между «мэм» в слове «мишнэ» и «тав» в слове «тора» пропущено ровно 613 букв, что равно числу мицвот (заповедей) в Торе; первые буквы последних четырех слов стиха 11:9 — это «рэйш», «мэм», «бет» и «мэм», что складывается в «Рамбам»; один из стихов той же главы содержит дату «четырнадцатое нисана», что является днем рождения Рамбама; и, наконец, 49 — это священное для евреев число — количество дней Омер между праздниками Песах и Шавуот. Между прочим, рав Вейсмандель тоже обратил внимание на тот факт, что его буквенные цепочки «т-о-р-а» имеют пропуск в 49 букв. Правда, в последней цепочке пропуск на одну букву меньше, но рав Вейсмандель объяснил это тем, что последняя книга, «Дварим», рассказывает о смерти Моисея, а Моисей однажды согрешил перед Всевышним самовольным чудотворством, и за это перед ним была закрыта одна из дверей мудрости Торы. id="c_4">4 Первая (еврейская) буква этого слова — «хэй», что может означать «ha» — это определенный артикль. Вообще-то слово «ханука» (название еврейского религиозного праздника) пишется без такого артикля, но мы пока отложим разговор о том, почему оно в данном случае написано именно так. id="c_5">5 «Хашмонай» — представитель знаменитого в еврейской истории рода Хасмонеев, которые во II в. до н. э. возглавляли борьбу евреев за религиозную независимость; праздник Ханука был учрежден как раз в честь победы в этой войне. Отметим важный факт — то, что буквы второго слова («Хашмонай») не образовали вертикальный столбик, а идут по диагонали, связано с тем, что пропуск между ними другой: им нужна чуть более длинная окружность оборота нити, чтобы улечься друг под другом. Но если бы мы выбрали цилиндр с чуть большей окружностью, то не легли бы друг под другом буквы слова «hа-ханука». Два слова стали бы столбиками только при одной и той же длине оборота, т. е. если бы интервалы между буквами обоих слов были одинаковыми. id="c_6">6 Под наименованиями понимаются сокращенные прозвища, аббревиатуры или акронимы, с которыми те или иные еврейские мудрецы вошли в историю, — например, Рамбам или Маймонид (рав Моше бен Маймон), «Бейт-Исраэль» или просто «Бейт-Йуд» (так назвали рава Йосефа Каро по заглавию его важнейшей книги) и т. п. У некоторых мудрецов есть по 3–4 таких наименования. id="c_7">7 Например, одна и та же дата может быть словами записана как «шени бэ нисан», «бэ шени бэ нисан» и т. п. id="c_8">8 Сухие определения — такой-то век до н. э. — вряд ли способны создать правильное ощущение времени. Та «классическая эпоха» греческой истории, которую мы знаем из школьных учебников истории, — война греков с персами, Афины, Перикл, Парфенон, война Афин со Спартой — очень близка к нам, это V век до н. э. Гомер жил за 300–400 лет до возвышения Афин, а описанная им «героическая эпоха» имела место в совсем уж глубоком прошлом — за 800 лет до Перикла! Это лет на сто раньше еврейского Исхода из Египта и на 2000 лет раньше Киевской Руси. id="c_9">9 Сокровищам, которые Шлиман нашел в Микенах, повезло больше: они сохранились полностью, и сегодня каждый желающий может увидеть поразительной, красоты золотую маску Агамемнона в афинском музее. Стоит, однако, предупредить, что маска эта по мнению современных ученых, на несколько столетий старше гомеровского Агамемнона, даже если последний действительно существовал. Современный американский специалист проф. Калдер примерно 30 лет назад поставил вопрос, не является ли и эта находка Шлимана его фальсификацией: это вызвало продолжающуюся по сей день оживленную дискуссию; отчет о которой можно найти в журнале Archeology (т. 52. 4, 1999). id="c_10">10 Впоследствии ему и это лыко поставили в строку; в мае 1995-го тот же журнал «Археология» сообщил, что потомки Кальверта решили потребовать возвращения принадлежащих им по праву наследования двух золотых мечей, найденных Шлиманом на восточной оконечности холма Гиссарлык, принадлежавшей Франку Кальверту (он купил ее у оттоманских властей). В момент публикации сообщения мечи эти находились в Пушкинском музее. Чем кончилось дело, мне неизвестно. id="c_11">11 Много позже, в ходе раскопок 1930 года, золотые предметы были найдены и во многих других местах второго слоя, словно жители того давнего города бежали из него в панике, теряя на бегу драгоценности и пожитки: это, кстати, доказывает, что Шлимана, видимо, зря обвиняли в фальсификации сокровищ. id="c_12">12 Самое интересное во всей этой истории то, что спустя семьдесят с лишним лет греческие археологи обнаружили второй такой же круг гробниц, но уже вне стен крепости, снаружи от Львиных ворот — там, где некогда простирался древний город (внутри крепостных стен находились в древности лишь дворцовые постройки). Скорее всего, именно этот круг и был тем, который когда-то видел Павсаний. Так что в итоге оказалось, что Шлиман неправильно понял Павсания, но как раз эта ошибка и принесла ему сказочную удачу. id="c_13">13 Принятая сегодня хронология различает три главные эпохи греческой предыстории: ранний бронзовый век, 2800–1900 гг. до н. э.; средний бронзовый век, 1900–1600 гг. до н. э.; и поздний бронзовый век, 1600–1100 гг. до н. э.; далее начинается век железный. Эти абсолютные даты базируются на синхронности определенных критских и греческих находок с аналогичными находками в Древнем Египте и наоборот; египетская же хронология благодаря сохранившимся надписям известна с достаточной точностью. id="c_14">14 Уже в наши дни некоторые ученые выдвинули предположение, что причиной этой катастрофы могло быть знаменитое извержение вулкана на близлежащем острове Санторин, он же Тера (эта же катастрофа, по их мнению, положила начало мифу об утонувшей Атлантиде). Имеются, однако, убедительные основания считать, что это извержение произошло почти на столетие раньше. id="c_15">15 Любопытно, что следов микенской посуды почему-то почти нет на северо-западе, если не считать раскопанной Трои: здесь, видимо, не было других крупных городов, или же местные жители, будучи более воинственны, успешно отражали попытки ахейского проникновения. id="c_16">16 Некоторые хеттологи видят в «Аттариссии» прародителя микенских царей Дтрея, но, как указывают другие, такое отождествление противоречит законам хеттской и греческой фонетики. Л. Гиндин и В. Цымбурский отмечают, однако, что эти противоречия можно обойти, если принять, вслед за О. Семереньи, что хеттское «Аттарисий» не столько тождественно греческому «Атреус» по фонетическому звучанию, сколько передает тот же смысл («бесстрашный»), только на хеттский лад, поскольку восходит к анатолийскому корню «a-trs-io», имеющему значение «не знающий страха». ЧАСТЬ 4 БИБЛИЯ И НАУКА >ГЛАВА 1 БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Название этой «интерлюдии» я заимствовал у одного из любимых мною фантастов Джеймса Морроу, а номер поставил свой — потому что он продолжает начатый в предыдущей главе разговор об авторстве ТАНАХа, точнее — Торы. Как мы теперь уже знаем, критическое исследование библейского текста началось уже давно, и к сегодняшнему дню установлено, что авторов у Торы было по меньшей мере четыре. Первый и самый древний из них, написавший основную часть книг Бытия, Исхода и Чисел, обозначается буквой J, так как в его рассказе Б-г всегда именуется Jahweh (в славянской традиции — Ягве); последующие именуются, соответственно, E (поскольку он называет Божественное существо словом Elohim (Элогим); рассказ этого автора содержится в тех же книгах и переплетается в них с рассказом J; далее — P (от английского Priest, что значит «жрец»; считается, что он написал почти всю книгу Левит); и, наконец, D (автор «Второзакония», или, по-гречески, Deuteronomos, откуда английское Deuteronomy). Подозревают, что был еще R, или «Редактор» (который произвел окончательную ревизию всего текста в целом после возвращения евреев из вавилонского плена), а также, возможно, многочисленные другие авторы более мелких разделов текста, но это уже частности, и мы не будем о них говорить. Исследование ТАНАХа все еще не закончено и, наверное, не закончится никогда, потому что книга эта таит в себе бесчисленное множество исторических, литературных и чисто смысловых загадок. Вот буквально на днях в израильской газете «Гаарец» была опубликована беседа с профессором Еврейского университета Менахемом Хараном, который предложил еще одну, совершенно новую гипотезу о том, как возник ТАНАХ в целом. Эта гипотеза основана на десятилетней продолжительности исследования, которое привело Харана к выводу, полностью опровергающему предыдущие толкования. Профессор Харан утверждает, что в еврейский канон (то есть в Тору) были включены не какие-то специально отобранные (из большого множества сохранившихся) книги, а, напротив, буквально все, какие только и сохранились, других якобы попросту не было. «Собиратели канона поистине замели с пола последние крошки, — говорит Харан. — Они включили в канон даже такие крохотки, как книгу пророка Овадии, которая занимает в нем всего одну страничку. После них не осталось ничего, что народная традиция предыдущих столетий считала бы Боговдохновенным». Харан доложил свою гипотезу на недавнем конгрессе библеистов в Лондоне. Он не говорит, как ее там приняли. Он ограничивается туманным: «Во всяком случае, ТАКОГО они никогда не слышали». И это показывает, что в области исследования ТАНАХа еще существует поле для самых смелых гипотез. Об одной из них я как раз и хочу рассказать. Она связана с самым интересным для исследователей (потому что самым древним) текстом канона — текстом J — и с самой интересной для них (потому что самой запутанной) загадкой о времени и месте его написания. Впрочем, эта загадка частично уже решена: среди специалистов царит согласие, что этот текст был написан в X веке до новой эры в Иерусалиме, при дворе царя Соломона. Но, как мы уже поняли из слов профессора Харана, в библеистике всегда есть место другим гипотезам. И та, о которой я намерен сейчас рассказать, идет вразрез с устоявшимся мнением и предлагает совершенно иную трактовку как истории, так и содержания текста J. Нам это особенно интересно, потому что попутно авторы предлагают весьма оригинальное и смелое прочтение древнейшей еврейской истории, способное серьезно поколебать все наши представления. И точно так же они разрушают все наши сложившиеся представления о смысле важнейших эпизодов Торы. Я не хочу этим сказать, что все, что они пишут, истина в последней инстанции; это, конечно, только научная гипотеза. Но очень уж необычная. Авторы этой незаурядной книги — американский историк-библеист Роберт Кут и священник Дэвид Орт. Они сделали следующее: вычленили из общего текста Торы текст, принадлежащий J, заново перевели его на современный английский язык и снабдили пространным комментарием. Тут и появляются неожиданности. Они подстерегают нас с самого начала. С чего вообще начинается Тора? С рассказа о шести днях творения. Так вот, в тексте J этого рассказа не было. Он начинался иначе (я перевожу авторов, а они — вторую главу книги Бытия, стихи 4–7): «В то время, когда Ягве, Господь, создал небо и землю — и прежде, чем появилось хотя бы первое плодовое дерево, и даже злаков еще не было на полях, потому что Ягве, Господь, еще не создал дождь на земле, и не было человека, чтобы обрабатывать эту землю, хотя ручьи уже вышли из земли той и увлажнили всю почву ее, в то время Ягве, Господь (обратите внимание, как старательно автор каждый раз подчеркивает, что Ягве — это Господь, то есть Бог; это нам еще понадобится. — Р.Н.), создал человека из праха земного, вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек превратился в живое существо». Далее следует знакомый рассказ о том, как Господь сотворил всех животных и привел их к Адаму, чтобы он дал им имя, но Адам не нашел среди них «помощника, подобного себе», и тогда Господь сотворил из его ребра Еву и назвал ее «иша» (женщина), потому что она плоть от плоти «иш» (мужчины). Текст продолжается до изгнания из рая: «И сказал Ягве, Господь: человек стал, как один из нас, /…/ и изгнал его из Эдема, чтобы возделывать, землю, из которой он взят». О чем же эта история, спрашивают авторы. И тут же огорошивают нас ответом: «Рассказ J — это, в первую очередь, повествование, призванное разъяснить царское понимание необходимости труда всех его подданных. Этот рассказ является центральным во всем тексте J, и не случайно кульминацией этого текста (в книге Исхода) является определение «Израиля» как всех тех, кто был освобожден из египетского рабства «мощной рукой» Ягве, Господа, — Бога еврейского царства». Это немного напоминает кое-какие знакомые вульгарно-материалистические трактовки религиозных текстов в советской атеистической литературе, не правда ли? Не торопитесь; если бы речь шла об очередном атеистическом произведении, я бы не стал занимать им ваше внимание. Авторы действительно хотят вернуть библейский текст на историческую почву, но идут серьезным научным путем. Свое утверждение они немедленно обосновывают сопоставлением этого текста J с другими, еще более древними ближневосточными сочинениями того же рода. И тут перед нами открывается совершенно нам неизвестный, пожалуй, и поразительно увлекательный (и поучительный) мир ближневосточной мифологии. Оказывается, уже за несколько столетий до текста J (напомним — считается, что он был создан в X веке до н. э.) в Вавилоне уже были записаны два грандиозных, основополагающих мифологических рассказа: «Энума Элиш», легенда о сотворении человека богом Мардуком, и «Атра-Хасис» — сказание о Потопе. За последующие несколько столетий они настолько широко распространились по всему Ближнему Востоку, и пользовались такой огромной популярностью, что наверняка были хорошо знакомы и самому J. Теперь обратим внимание на крайне интересные детали этих рассказов. В «Энума Элиш» описывается, как бог Эа победил восставших богов Апсу и Тиамат и, «познав» свою жену Дамкину, родил бога Мардука. К этому-то Мардуку и являются «боги-рабочйе», которые жалуются на свою трудную работу и тяжкую жизнь; тогда Мардук придумывает создать «луллу» (людей), которые трудились бы вместо богов, причем создать их из того бога, который подстрекал Апсу и Тиамат (помните: «Вот, Адам стал, как один из нас»? Немудрено, если он сделан из той же плоти!). Иными словами, люди созданы из плоти руководителя восстания; поэтому их обязанность работать — это не что иное, как наказание покаранному богу в лице его «потомков». Примерно такую же историю рассказывает «Атра-Хасис»: здесь жалующиеся на тяжкую работу боги приходят к Энлилю, и тот решает сделать людей («шупшикку», или корзину грязи) из глины, а также — опять! — из мяса и крови руководителя жалобщиков. «И пусть в этом мясе останется дух, и пусть скажут ему перед казнью о его судьбе, и дабы он не забыл, пусть дух его останется в них». Иначе говоря, дух покаранного бунтовщика будет напоминать людям о бесплодности всякой попытки отказа от труда; и чем больше будет их труд, и чем сильнее будет в результате «говорить» в них этот дух (то есть стучать от напряжения сердце), тем меньше будет у них соблазн бунтовать и жаловаться. Тот же Энлиль является героем другого рассказа, в котором он, после создания неба и земли, создает соху, а в добавление к ней — человека, ибо «кто-то должен же обрабатывать эту землю этой сохой». А в древнем египетском тексте под любопытным названием «Созданы ли люди так, что они обладают равными возможностями?» (утверждается, кстати, что да) объясняется, что люди созданы со страхом смерти, «дабы не забывали трудиться во имя богов». Здесь, как и во всех других перечисленных выше текстах, в этих «богах», вместо которых должны трудиться простые смертные, легко угадываются правители и знать соответствующих земель. Ведь именно они считались земными воплощениями божества, и построенные ими храмы считались творениями Мардука, Энлиля или Баала. Поэтому и первая же заповедь Ягве, Господа, сообщенная Ною, — «Плодитесь и размножайтесь» (и повторенная затем Аврааму в виде обетования сделать его потомство многочисленным, «как песок морской») — имеет еще и тот практический смысл, что для труда «вместо богов» нужно много людей. Есть, однако, труд и — труд. Из дальнейшего текста J (уже в книге Исхода, в рассказе о египетском рабстве) становится очевидно, что Ягве, Господь (то есть Бог Израиля), категорически выступает только против одного особого вида труда, а именно — «египетского», то есть рабского труда, или барщины, которым — наподобие вавилонских богов — наказали людей боги Египта. Но Ягве, Господь, отнюдь не против труда вообще, напротив: уже в сцене изгнания из райского сада он приговаривает людей к пожизненному труду. Но к какому? К труду свободных земледельцев, а не рабов фараона. Таким образом, Ягве, Господь, оказывается уникальным богом: он расходится со всеми остальными богами региона в определении характера обязательного труда. Поэтому он стоит особняком в региональном пантеоне и вынужден бороться с другими богами за признание, вынужден отвоевывать у них «свой» народ, который будет жить по «Его» и только Его заповедям. В сущности, вся история препирательств Моисея с фараоном и насланных Ягве на египтян «казней египетских» — это и есть история такой войны Ягве, Бога Израиля (о котором фараон презрительно говорит, что «не знает такого бога»), с богами Египта — и его конечного торжества над ними (в виде торжества над фараоном, которому они покровительствуют). Почему же Ягве отвергает рабство и барщину? Потому что в его «понимании» (то есть в понимании еврейских царей, торопливо добавляют авторы) обязательный труд должен быть только таким; каким он сложился в Палестине, а не в каком-нибудь Египте, иными словами — трудом царских земледельцев, которые отдают десятину Б-гу, положенное — царю, а остальным распоряжаются сами. А почему то был именно такой, а не иной труд? Да просто потому, объясняют авторы, что именно такова была в те древние времена структура труда (и общества) на Палестинском нагорье, где и сложилось первое еврейское царство, признавшее Ягве, Господа, своим Б-гом, выведшим народ из рабства «рукою мощною, мышцей простертого». (Кстати, в этой характеристике победоносного Ягве есть и свой насмешливый аспект: обычно обладателями «мощной руки», «сильной руки», «руки, способной пустить сразу десять стрел из одного лука», неизменно именовали себя на своих стелах египетские фараоны, возвеличивая тем самым своих богов; но вот — мышца Ягве оказалась сильнее!) Таким образом, рассказ об Исходе — это страстное возвеличение Ягве, который мощнее всех других богов (прежде всего египетских), и одновременно — это возвеличение силы того царя (и народа), которому покровительствует такой Бог; и одновременно — это идеологическое обоснование власти этого царя и его законов (которые объявляются «заповедями Ягве»), а также обоснование необходимости труда (земледельческого, а не рабского) на этого правителя. Неудивительно, что Кут и Орт (как и еврейская традиция вообще, кстати) считают рассказ об Исходе центральным узлом всех основных мотивов текста J. Удивительней другое — что тотчас после такого признания они объявляют этот «центральный узел» полностью вымышленным! И это ведет нас прямиком к исторической части их гипотезы, не менее оригинальной и дерзкой, чем изложенная выше религиозная. Итак, Кут и Орт призывают нас принять как факт, что рассказ об Исходе в тексте J — вымышленная история. Не было Исхода, не было Моисея, не было завоевания Ханаана и не было двенадцати колен, между которыми была разделена завоеванная земля. Так и хочется спросить: а были ли сами евреи? На это авторы твердо отвечают: были. Но история евреев выглядела иначе, не так, как она излагается в тексте J, столь хорошо знакомом нам по ТАНАХу. Этот текст, говорят Кут и Орт, нужно перечитать под углом зрения того, что известно современной исторической науке. Что же ей известно? Отбирая лишь то, что они считают «надежно установленными фактами» и «разумными гипотезами», авторы рисуют следующую картину. Незадолго до 1000 г. до н. э. на Палестинском нагорье (то есть в нынешних Самарии и Иудее) располагались многочисленные деревни свободных еврейских земледельцев. Между деревнями высились отдельные города (разумеется, города в древнем понимании этого слова, то есть небольшие крепости, окруженные более или менее мощными стенами; Иерусалим принадлежал к их числу). Кстати, многие из этих городов, упоминаемые в истории завоевания Ханаана армиями Йегошуа Бин-Нуна — как, например, Иерихон, — к тому времени уже не были населенными: они, по данным археологии, к тому времени уже были заброшены и безлюдны, так что «завоевать» их евреи никак не могли — там нечего было завоевывать (что, в частности, является одним из аргументов в пользу фантастичности рассказа об Исходе из Египта в Ханаан). Так вот, существовавшие в то время города нагорья были заняты египетскими гарнизонами, поскольку Египет — в ту пору сильнейшая держава Ближнего Востока — контролировал всю Палестину. И, разумеется, нещадно эксплуатировал местное население (что и отразилось в рассказе о «египетском рабстве»). Возможно, имели место народные волнения (истории об этом ничего не известно, но этого нельзя исключить), и можно думать, что в таком случае египтяне очередной раз вторгались в страну, наводили порядок и затем хвастливо запечатлевали сей победный факт на стелах очередного фараона (именно так, по всей видимости, появилось и единственное сохранившееся упоминание такого рода — о побежденном «народе Израиль» на стеле фараона Мернептаха, примерно в 1200 г. до н. э.). Не удивительно, что Египет воспринимался как злейший и сильнейший враг, как постоянная опасность; неудивительно, что «антиегипетский мотив» пронизывает весь текст J, в котором постоянно повторяется-одна и та же сказочная схема: вымышленные еврейские герои (Иосиф, Моисей) побеждают египтян не числом, а уменьем, не силой, а хитростью. (Кстати, не исключено, добавляют авторы, что в рассказе о службе Иосифа у Потифара отразилась реальная история какого-нибудь местного еврейского аристократа, сотрудничавшего с египетским наместником в Палестине.) Была и еще одна группа палестинского населения, которая видела в египтянах постоянную угрозу. То были «бедуинские» (по существу, те же еврейские) пастушеские племена, чьи владения сплошным кольцом окружали нагорье. Собственно, и евреи-земледельцы, утверждают авторы, первоначально были пастухами, а их легендарный «праотец» Авраам — обычным «бедуинским» шейхов, такими же шейхами были и его потомки. Имена типа Авраам, Ицхак, Яаков, — говорят авторы, еще долго сохранялись среди тогдашних пастушеских племен, напоминая об общем происхождении евреев-земледельцев и евреев-пастухов. Постепенно среди тех и других сложилась традиция, возводящая это происхождение к общему предку Аврааму, что и было (полтысячелетия спустя) использовано в тексте J. Автор этого текста, выдающийся писатель-идеолог, искусно соединил земледельческие и пастушеские мифы об Аврааме и его потомках с идеей Ягве — Бога, покровительствующего авраамову роду в его борьбе с Египтом. Кут и Орт приводят ряд примеров такого соединения, из которых я для краткости выберу самый эффектный (он характеризует заодно и текстологические методы этих авторов). Речь идет о посещении Авраама «тремя ангелами», которых тот принимал и угощал под Мамрийским дубом (Бытие, 18:1-15) и «один из которых сказал: Я опять буду у тебя в это же время (в будущем году), и будет сын у Сарры, жены твоей». Эта фраза вызвала у престарелой Сары «внутренний смех», на что «ангел» (то есть Ягве) обиженно вопросил: «Есть ли что трудное для Господа?» Смех Сары, объясняют нам авторы, вызван был тем, что в этот миг она ощутила сексуальное наслаждение, род оргазма, ибо именно в этот миг Ягве «вошел» в нее, и она засмеялась от счастья. Когда же она выразила сомнение, что понесет, Ягве оскорбился: «Что, для Меня это такое чудо, что ли?» В сущности, здесь (куда живее и ярче, чем в Евангелиях) рассказана история непорочного зачатия с добавлением существенной детали: поскольку своим поступком в отношении Сары Ягве нарушил законы бедуинского гостеприимства, он тотчас объявил, что сделал это ради великого дела размножения (не это ли он первым делом заповедал Ною?), а в качестве «компенсации» обещал хозяину произвести от него «великий народ». Такое соединение народных мифов с прославлением Ягве как гаранта величия народа, говорят авторы, позволило J сделать свой текст, а заодно и монотеистическую идею самого Ягве, приемлемым для простого народа и тем самым достичь своей главной идеологической цели. Ибо, по мнению авторов, главная цель J состояла в том, чтобы утвердить в народе культ Ягве, чтобы с помощью этого освятить царскую власть, ее законы и необходимость крестьянского труда на царя и городскую знать. Ибо авторы убеждены, что текст J, хоть и предназначался для «народа», создан был при царском дворе, выражал потребности царя и знати и отражал так называемую «высокую» традицию (этим словом историки обозначают традиции, сформировавшиеся в придворной среде грамотеев-писцов и жрецов-священников в противоположность «низкой» традиции, то есть легендам и сказаниям народных слоев). Текст J, утверждают авторы, — это «высокая традиция» высших слоев, отражающая историю, какой ее видят эти слои, освящающая («сакрализующая») эту историю с помощью ссылок на Божественное покровительство и навязывающая себя простому народу посредством искусного и намеренного включения в состав своей традиции элементов традиции «низкой», знакомой этому народу. Поскольку этот текст, продолжают авторы, сложился спустя добрых 500 лет после описываемых в нем легендарных событий начальной истории народа, трудно думать, что он отражает какие-либо реальные исторические факты. Следовательно, такие древнейшие эпизоды текста, как история Авраама и его потомков, египетское рабство, Исход и завоевание Ханаана правильнее рассматривать не как отражение сохранившейся в народной памяти «истинной» древней истории еврейского народа (что мог помнить неграмотный народ о своей истории спустя 500 лет? Что, к примеру, помнили — и что знали — европейские крестьяне X века о событиях времен падения Римской империи, отдаленных от них на те же 500 лет?), а как аллегорическое отражение каких-то важных для автора, для его целей (то есть, в конечном счете, для царского двора) и действительно реальных событий совсем недавнего прошлого. Иными словами, авторы полагают, что J — под видом истории Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше и Йегошуа Бин-Нуна — на самом деле излагает (в доступной «народу» мифологической форме, используя образы знакомых легендарных героев) историю царствующего правителя, создавшего еврейское государство. Кто же этот царь, кто истинный герой основного библейского текста, этой «книги J»? Иными словами, когда и где эта книга была написана? Это возвращает нас к прерванному историческому рассказу. Кут и Орт развивают свою гипотезу следующим образом. К 1000 г. до н. э., говорят они, власть Египта над Ханааном резко ослабла. (Это действительно подтверждается документами того времени — перепиской египетских наместников в Сирии с фараонами, найденной при раскопках городища Эль-Амарна.) Причиной такого ослабления были, видимо, внутренние трудности Египта. Как бы то ни было, египетские гарнизоны в Палестине оказались отрезанными от своей страны. И тогда, надо думать, крестьянское население Палестинского нагорья воспряло духом. Пастушеские племена Южной Палестины и Синая тоже почувствовали вкус свободы. В сущности, произошло примерно то же, что в нашем веке на Ближнем Востоке, когда отсюда ушли великие державы, — регион впервые за долгие века оказался предоставлен сам себе. Открылось окошко «благоприятных возможностей», и можно думать, что освободившиеся народы не преминули им воспользоваться. Именно поэтому, утверждают авторы, в тогдашней Палестине и смогли произойти два важных события: население нагорья объединилось под властью единого царя (каковым оказался Саул), а среди евреев-пастухов появился свой собственный вождь-объединитель (каковым стал Давид — соперник Саула, бежавший к пастухам от преследований царя). В этой части своей гипотезы Кут и Орт не одиноки и не оригинальны. Другие современные историки тоже признают историчность библейского рассказа о возникновении первого еврейского царства на Палестинском нагорье. Но каждый из них объясняет становление этого царства по-своему. Одни считают, что объединение нагорья произошло насильственным путем — в результате какого-то внешнего завоевания (может быть, тем же Саулом). Другие полагают, что это было результатом уже упоминавшегося крестьянского восстания против местных (и к тому времени ослабленных) египетских гарнизонов (причем кое-кто из сторонников данной гипотезы добавляет, что подняла крестьян на это восстание группа религиозных египетских еретиков-монотеистов, бежавшая из Египта в Палестину). Наконец, третьи утверждают, что царство возникло в результате проникновения в Нагорье кочевников-пастухов из близлежащих степей Негева и Синая. Оригинальность гипотезы Кута и Орта состоит в том, что она сочетает в себе непротиворечивые элементы всех трех вышеупомянутых теорий. Во-первых, она признает факт крестьянских волнений — по мнению авторов, это отразилось в рассказе о том, как «старейшины Израиля» потребовали себе царя (Саула). Во-вторых, она сохраняет и возможность участия каких-то пришельцев-монотеистов в этом воцарении: может быть, говорят Кут и Орт, пророк Самуил, так неохотно помазавший на царство Саула вопреки воле Ягве, и был одним из этих пришлецов, принесших в Палестину культ единого Бога. Но главное в этой этой гипотезе — предположение о том, что решающую роль в объединении всей (и земледельческой, нагорной, и пастушеской, степной) Палестины сыграло именно вторжение пастушеских племен с равнины в горную часть страны, до того управлявшуюся Саулом. Давид, утверждают авторы, как раз и был руководителем этого союза пастушеских племен; библейский же рассказ о «завоевании Ханаана» армиями Йегошуа Бин-Нуна — это всего лишь отражение этого реального завоевания нагорья армией Давида. Таким образом, центральную роль в гипотезе Кута и Орта играет Давид. По их убеждению, этот искусный стратег и прирожденный политик первым осознал и сумел использовать историческое «окошко возможностей», открывшееся в результате ослабления Египта. Потерпев поначалу поражение в борьбе с Саулом за власть над нагорьем, он бежал в южные степи и — посредством серии хитроумных военных и политических маневров — сплотил тамошние пастушеские племена в единый союз, своего рода племенную федерацию — сначала для организации коллективного заслона против возможного возвращения египетских армий (в этом он нашел поддержку филистимлян, осевших к тому времени на побережье), а затем — для вторжения в нагорье и овладения им. Сколотив такую федерацию, Давид возглавил ее и сделал своей столицей Хеврон — главный центр тогдашней пастушеской части Палестины. Здесь он, как следует из танахического рассказа, провел целых семь лет, все это время готовясь к вторжению в нагорье. Достаточно усилившись (и попутно разгромив те пастушеские племена, которые не примкнули к созданной им федерации), Давид, наконец, вторгся в нагорную Палестину, захватил Иерусалим, перенес туда свою столицу и провозгласил себя царем. Земледельцы Палестины были обложены налогом, но зато получили право на свободный труд (которого были лишены под властью египетских наместников в «египетском рабстве») и гарантии защиты от египетских притязаний. А пастушеские племена в благодарность за поддержку получили право беспрепятственного пользования пастбищами нагорья: оно было разделено на 12 районов, каждый из которых был закреплен за тем или иным племенем. Отсюда, говорят авторы, и пошла история «двенадцати колен»: по их мнению, она была придумана задним числом, чтобы оправдать такой «раздел» Палестины. Что же до названий этих уделов — «удел Дана», «удел Иегуды» и так далее, — то они, говорят Кут и Орт, попросту отражают имена тогдашних пастушеских вождей — союзников Давида: ведь и они были такими же евреями, как земледельцы нагорья; поэтому среди них были распространены те же имена. Такова в самых общих чертах та историческая гипотеза, которую предлагают Кут и Орт в своей книге «Первый текст Библии». Гипотеза, надо признать, довольно революционная. Ведь, если вдуматься, авторы утверждают не более, не менее, что вся танахическая история евреев, все ее события, от прихода Авраама в Ханаан и до Моисея и Йегошуа, впервые зафиксированные в тексте J, есть на самом деле не что иное, как продуманная и сознательная аллегория. По глубокому убеждению авторов, неведомый (и, несомненно, гениальный) J попросту описал в своем тексте историю воцарения Давида, спроецировав ее в легендарное еврейское прошлое и «поделив» между легендарными героями. Но отсюда следует, что не правы были все те историки, которые много десятилетий подряд считали, что текст J был создан при дворе Соломона. На самом деле, говорят авторы, он был создан именно при дворе Давида, который первым сумел использовать предоставленную историей короткую передышку для объединения всех еврейских племен — как земледельческих, так и пастушеских — в единое царство (Саул еще правил только в нагорье). Именно Давиду и понадобилась собственная «придворная» история, которая прославила бы его деяния и утвердила бы его власть в сознании подданных. Передышка эта продолжалась всего 60 лет: как мы знаем, к концу царствования Соломона первое объединенное еврейское царство распалось на Иудею и Израиль. Авторы полагают, что это было вызвано тем, что к тому времени Египет снова укрепился, и его «агентура» в Палестине спровоцировала этот раскол, чтобы ослабить и подчинить евреев. Но в эпоху Давида, заключают авторы, евреи успели получить не только собственное национальное государство, но также собственный национальный миф и собственную национальную идеологию — как раз в виде текста J, этой первой версии ТАНАХа, навеки сплотившего евреев если не территориально, то духовно. Этот текст, по мнению Кута и Орта, был создан с осознанной целью укрепления новорожденной монархии и освящения ее родословной и ее претензий посредством культа Ягве. Неслучайно культ этот в тексте J — подчеркнуто «пастушеский», «палаточный», не знающий никакого Храма; во времена Соломона, строителя Ирусалимского Храма, такой пастушеский культ был бы уже немыслим. Текст J сделал главными героями еврейской истории не земледельческих, а пастушеских вождей, этих подлинных хозяев нового государства и его аристократию. Он приписал им задним числом сакральную историю и легендарную генеалогию, возведя их к Аврааму, Ицхаку и Яакову. Традиционные хождения этих пастухов в Египет, их периодическое порабощение египтянами, временные союзы их вождей (Йосефа?) с египетскими наместниками палестинских городов — все это было использовано для создания величественной мифологической эпопеи Исхода. Фигура Давида — законодателя нового царства и создателя новой нации превратилась под пером J в грандиозный образ законодателя Моисея. История завоевания пастухами-кочевниками Палестинского нагорья легла в основу рассказа о завоевании Ханаана кочевыми армиями Йегошуа Бин-Нуна. Раздел между пастушескими вождями пастбищ нагорья стал историей «двенадцати колен». И так далее. Так, говорят авторы, и был создан национальный эпос, национальный миф и национальная религия. И подлинным их создателем был неведомый гениальный писатель давидова двора, именуемый сегодня J. Возможно, поначалу текст J замышлялся в виде всего лишь обычной хвалебной песни, этакого гомеровского эпоса, исполняемого перед лицом тщеславного царя и угодливой знати. Но соединение в этом тексте всех национальных сказаний и легенд, в которых нашла воплощение недавняя и хорошо знакомая тогдашним евреям реальная история становления их первого государства, привело к тому, что этот эпос глубоко запал в народную память и стал «священной книгой» новой нации. Заново и глубоко переосмысленные (как изначально направлявшиеся Господом Ягве) истории еврейских праотцев и «египетского рабства», Моисея и Исхода, скитаний в пустыне и «дарования законов», завоевания Ханаана и «двенадцати колен» — все это стало основой новой веры и содержанием уже не племенной, а национальной истории. И эта основа уцелела даже после распада государства. Так заканчивают свое объяснение происхождения, смысла и судьбы первого текста ТАНАХа американские авторы. Добавим уже от себя: этот эпос вобрал в себя и самые замечательные, чарующие воображение, самые распространенные на всем Ближнем Востоке легенды — о создании человека «по образу и подобию богов», о райском саде и потопе, о Вавилонской башне и т. п. Положенные на этот баснословный, но благодаря давности и распространенности почти достоверный фон, все прочие рассказы J тоже могли быть восприняты как почти достоверные. Поэтому религиозная идея и светская идеология (частично заимствованные из вавилонских и угаритских предисточников), искусно переплетенные с мифом, могли действительно стать в таких условиях общенародными. С другой стороны, все это могло происходить, конечно, и совершенно иначе: текст J мог не иметь таких «скрытых намерений»; он мог действительно отражать пусть и легендарное, но имевшее реальную фактическую основу еврейское прошлое; становление монотеистической религии могло начаться задолго до создания этого текста, а в нем найти лишь свое гениальное воплощение — и так далее; вы можете все это продолжить вместо меня. И тогда гипотезу Кута — Орта придется признать неверной; Но я полагаю, что с ней стоило познакомиться. Уж очень она радикальна и увлекательна. Одно лишь следует помнить, взвешивая степень ее достоверности: она относится именно к тексту J, то есть только к тому, что является содержанием первых книг ТАНАХа. В Торе есть и отдельный рассказ о Сауле и Давиде — это Первая и Вторая книги Царств; но они написаны другими авторами; как считается — уже после Соломона. В тексте же самого J никаких прямых упоминаний о Сауле, Давиде и Соломоне нет, и все, что в него «вложили» Кут и Орт, — это их самостоятельная историческая реконструкция. Таких реконструкций в последние годы появилось немало. Гипотеза Кута и Орта затрагивает небольшой отрезок истории — какое-нибудь столетие. Куда более масштабной — и волнуюшей воображение — является, например, та реконструкция (впрочем, уже в основном, постбиблейских событий), которую предложил недавно Грэм Хэнхок в своей книге «Знак и печать». Впрочем, эта смелая реконструкция заслуживает отдельного рассказа. >ЧАСТЬ 5 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ >ГЛАВА 1 ВЕЛИКИЙ ИЕРИХОН Опустевшая синагога в Иерихоне находится теперь на территории палестинского автономного анклава. Доступ евреям в город временно, запрещен. В один день древний Иерихон, некогда взятый еврейскими войсками, перед которыми, по преданию, пали его стены, превратился в палестинский административный центр. Что называется — росчерком пера. Предание о стенах, павших от рева еврейских военных труб, увековечило имя Иерихона в человеческой памяти. Но для историков это название звучит еще весомее. Иерихон — одна из важнейших вех на пути человечества из древнего каменного века в век бронзовый. Это один из древнейших, а может быть — и самый древний город на Земле. В сокровищнице исторических ценностей, которыми столь богата Земля Израиля, Иерихон — одна из ценнейших. Самому древнему из сохранившихся народов западной цивилизации вполне приличествовал самый древний ее город. Это не говоря уже о собственно еврейских памятниках Иерихона. Хотя бы о тех же Иродовых дворцах. По странной случайности совпало так, что одновременно с этой утратой вышел в свет специальный номер журнала «Сайентифик америкэн», под обложкой которого были собраны все ранее опубликованные в журнале статьи, посвященные древним городам мира. И конечно, открывала этот сборник статья, рассказывающая о раскопках в Иерихоне. Принадлежала она перу Кэтлин Кеньон, дочери бывшего директора Британского музея и знаменитой исследовательнице, которая в середине нашего века впервые открыла миру долгую и славную историю древнего Иерихона. Листая эту по существу мемориальную статью, вглядываясь в фотографии раскопок и найденных предметов, вчитываясь в рассказ автора, невольно ощущаешь, как ты все глубже и глубже опускаешься по ступеням веков в прошлое. Вот уже скрылись из виду гигантские метрополии современности, пустыннее стала Земля, все меньше на ней людей и людских поселений, в сотнях и тысячах километров находятся они друг от друга, разделенные безлюдными и дикими пространствами; вот уже одни только охотничьи племена с их каменными орудиями остались на поверхности планеты, и именно тут, в этой дали туманного прошлого, взгляд натыкается на нечто неожиданное и явно искусственное: мощные каменные стены, взметнувшиеся к небу из пустыни. Иерихон… Человечество не сразу перешло к оседлому образу жизни. Этот переход произошел лишь с окончанием последнего ледникового периода, «каких-нибудь» десять тысяч лет назад, в конце каменного века. Именно тогда в Западной Азии возникли первые оседлые поселения — то, что впоследствии стало называться городами. Значение их в истории цивилизации огромно — недаром англичане подчеркивают, что слово «city» одного корня со словом «цивилизация». Город — это нервный узел любой цивилизации, средоточие ее административных, религиозных, культурных и всех прочих функций, символ ее непрерывности и преемственности. Сегодня две трети человечества живет в городах. Но так было не всегда. Первые деревни сосредоточивали в себе каких-нибудь несколько сот, а то и всего несколько десятков жителей. Первым городом на Земле стало место, население которого впервые в истории перевалило за тысячу. Это и был Иерихон. На приведенной в журнале исторической шкале, протянувшейся от 8000 года до новой эры к 1000 году после ее начала, длинной цепочкой вытянулись самые древние города Земли. Открывает этот список Иерихон. За ним с разрывом в полтысячи лет следует Тель-Абу-Хурейра, что в Сирии. Проходят еще полторы тысячи лет, и появляются Чатал Хююк в Анатолии (современная Турция) и Мергар в нынешнем Пакистане. Только за пять с половиной тысяч лет до нашей эры возникли первые города Месопотамии — знаменитые Ур, Урук и другие, а за ними, с разрывом еще в три с половиной тысячи лет — Иерусалим и Кноссос (в русском написании Кнос) на Крите. Большинство этих городов ныне занесены песками, а Кноссос — вулканическим пеплом. И только в Иерихоне и Иерусалиме все эти нескончаемые тысячи лет-непрерывно продолжают жить люди — до наших дней. Что уж тут говорить о Помпеях или Петре, а тем более о первом русском городе Новгороде, возникшем практически уже в «наши» исторические времена, где-то на рубеже первого тысячелетия новой эры! Младенцы… Как ни странно, еще несколько десятков лет назад такой список немыслимо было себе представить. Историки знали, конечно, что Иерихон существовал еще во времена завоевания евреями Ханаана, но никогда не думали, что его стены уходят в такую седую древность. Да и стен этих давно уже не было. Первых археологов привела в Иерихон вовсе не эта древность (о которой никто не догадывался), а жгучее желание проверить библейскую легенду. Поиски рухнувших от «иерихонского рева» стен начал британский археолог Джон Гарстанг, который прибыл сюда в 1930 году. Именно он первым обратил внимание на древний холм неподалеку от города и пришел к выводу, что именно под этим холмом должны скрываться остатки библейского Иерихона. Холм (или курган) в семитских языках — «тель» — созвучен английскому «teil», что означает также «рассказывать». И раскопанный Гарстангом тель Иерихо действительно рассказал о прошлом города. Нет, археолог не нашел подтверждения библейской легенды. Зато он нашел кое-что куда более важное для исторической науки. Глубоко в раскопе его сотрудники обнаружили бесспорные свидетельства того, что люди жили в этих местах уже в конце каменного века. Иерихон стал сенсацией в мировой археологии. Не удивительно, что вслед за Гарстангом сюда пожаловала следующая археологическая экспедиция, которую возглавляла Кэтлин Кеньон. К тому времени она уже прославилась своим участием в раскопках в Родезии и Англии. В январе 1952 года ее сотрудники первый раз вонзили свои лопаты в землю Иерихонского теля и стали слой за слоем снимать его покровы. Основы современной археологии заложил еще в прошлом веке английский ученый Флиндерс Петри. Он указал, что датировка прошлого может производиться с помощью оставшихся от этого прошлого предметов, т. н. артефактов. В особенности красноречива в этом смысле глиняная посуда. Петри показал, что. каждой стадии истории Востока соответствовала своя особая посуда, виды которой можно классифицировать по эпохам и сопоставить с клинописными и иероглифическими надписями Египта и Месопотамии. Это позволяет в конечном счете датировать все такие эпохи, а с ними и те слои, в которых были обнаружены «говорящие артефакты». Важно только снимать эти слои один за другим, тщательно и терпеливо отделяя эпоху от эпохи. Разумеется, это не очень удобный, а главное — не очень точный метод. Отдельные слои порой идут под наклоном, углубляясь в землю и пересекаясь там с другими слоями. Черепки нередко перемешиваются временем и человеческой рукой. Впоследствии методы Петри были усовершенствованы и дополнены приемами радиографического (радиоуглеродного) определения дат, которые оказались несравненно более точными. Именно с их помощью удалось доказать, что даже Кеньон ошиблась в своей датировке иерихонских руин. Она определила возраст города в 7000 лет, тогда как радиографические методы показали, что он на добрую тысячу лет старше. Ошиблась Кеньон и во многом другом. Тем не менее ей принадлежит несомненная заслуга: она извлекла из небытия доселе практически неведомый древний город и показала его человечеству. Процесс раскопок — это нечто вроде послойной вивисекции прошлого. Снимая слой за слоем, археологи уходят в глубь истории, порой на десятки метров, если в данном месте, как в раскопанной Шлиманом Трое, каждое следующее поселение строилось на развалинах предыдущего. В Иерихоне глубина культурного слоя оказалась чудовищной — до 70 метров! Уже одно это говорило о глубочайшей древности и непрерывной преемственности жизни в этих местах. Оно и не удивительно. В раскаленной Иудейской пустыне первобытные охотники, первыми сменившие кочевой образ жизни на оседлый, могли поселиться только там, где есть вода и подходящая для земледелия почва. Иерихон — оазис среди пустыни, это видно еще и сегодня, когда спускаешься с Иудейских гор и едешь в сторону Мертвого моря. Зеленый пальмовый остров Иерихон кажется маревом среди окружающей каменистой пустыни. Оазис обязан своим существованием многочисленным подземным источникам, среди которых еще в древности выделялся т. н. «Фонтан Элиши». Экспедиция Гарстанга вскрыла неолитические слои только на самом крайнем, северо-западном углу холма. Да и то пришлось для этого рыть глубокую шахту. Кеньон сразу же обнаружила, что артефакты каменного века находятся и на западной оконечности холма, где древние слои подходят намного ближе к поверхности земли и залегают на глубине всего четырех метров. Первое поразительное открытие не заставило себя ждать: оказалось, что площадь поселения уже в каменный век была куда больше, чем думалось. По размеру оно явно превосходило примитивные поселения той эпохи (вроде Чатал-Хююка), которые археологи время от времени раскапывали на Ближнем Востоке. Это означало, что и по количеству жителей Иерихон уже в те времена значительно превосходил обычную деревню. Кеньон оценила его первоначальное население примерно в 2000 человек. Произвести эту оценку ей позволило второе крупное открытие. Доведя раскопки до скального слоя, то есть до максимальной глубины, сотрудники экспедиции вскрыли в этом первом, самом раннем слое остатки глиняных сооружений — те грубые хижины, в которых жили основатели Иерихона. Эти хижины напоминали собой глийяные подобия круглых шатров кочевых охотников. Но эта фаза иерихонских построек оказалась довольно короткой. Уже следующий период (следующий слой) продемонстрировал исследователям огромный прогресс в строительстве и архитектуре. Дома (а их уже можно было без преувеличения назвать не хижинами, а настоящими домами) приобрели прямоугольную форму, стены стали толще и солиднее, в них появились четко прорезанные входы, а внутреннее пространство жилья было разбито на отдельные комнаты, тесно группировавшиеся вокруг общего двора. Но самым интересным было то, что во многих таких домах стены и полы хранили следы штукатурки, что придавало им законченный, даже отчасти современный вид. Это уже были жилища прочно устоявшейся, сложившейся общины. К тому же общины весьма организованной, судя по тому, что все поселение было, по-видимому, обнесено массивной каменной стеной. У иерихонцев каменного века еще не было посуды, и этот вроде бы малозначительный факт показывает, как глубоко ушли археологи в глубь времен, к самому началу оседлой жизни человечества: ведь горшки и миски — это одно из первых изобретений оседлых людей. Несомненно, причиной, по которой бывшие охотники облюбовали и решили укрепить это место, была прежде всего его пригодность для земледельческой жизни. Обилие воды и тропический климат оазиса делали необычайно плодородной его землю, и пришельцы могли рассчитывать, что сумеют добыть себе здесь пропитание. Судя по тому, как расцвел и продолжал расти Иерихон впоследствии, они не обманулись в этих ожиданиях. Но прогресс этих первых поселенцев не ограничивался только областью материальной культуры. Одно из самых поразительных открытий, совершенных экспедицией Кеньон, состояло в обнаружении среди руин каменного века особого помещения, явно служившего ритуальным, то есть религиозным целям. В глубине небольшой комнаты археологи нашли нишу, где возвышался грубо обработанный каменный пьедестал, а рядом с ним — тщательно обработанный кусок вулканического камня, который, судя по виду и месту обнаружения, когда-то был предметом неизвестного нам религиозного культа. Окружавшие камень глиняные фигурки животных свидетельствовали о том, что религия первых иерихонских поселенцев скорее всего представляла собой культ плодородия. По сути, эта находка в Иерихоне позволила историкам воочию увидеть, как зарождались древнейшие религии оседлого человечества и как возникали их первые храмы. Но что еще более поразительно — оказалось, что культура древнейших земледельцев каменного века не исчерпывалась одним лишь культовым поклонением богам плодородия. Кеньон нашла целую галерею портретных масок! Их было семь, и каждая представляла собой высохший череп, на который какой-то неведомый древний художник наложил слой глины, грубо изобразив на нем черты человеческого лица. До сих пор историки искусства знали только о раскрашенных человеческих портретах из знаменитого Фаюмского оазиса в Египте. Теперь перед ними предстали, на несколько тысячелетий более древние, возможно первые в мире, изображения людей, к тому же — людей каменного века. Археологи увидели не просто глиняные или каменные фигурки божков и богинь — перед ними были лица реальных людей, живших семь — восемь тысяч лет назад! Иерихон оказался настоящей «машиной времени». Кто же были эти люди? Почему они удостоились такой почести? Не исключено, что это были портреты почитаемых в поселении предков-основателей вроде римских Ромула и Рема. Но если это так, то значит, искусство живого портрета (а не просто схематического изображения оленей и охотников, как во французских пещерах) возникло уже в седой древности. Уже тогда первобытный Рембрандт вглядывался в лица своих соплеменников, чтобы запечатлеть их для вечности. И видимо, отдавал себе отчет в том, что он творит… Говорят, что искусство особенно расцветает в суровые и опасные эпохи. Судя по толщине каменных стен первого города, иерихонский Рембрандт жил именно в такую эпоху: стены не воздвигаются для защиты от друзей. Иерихонцы одними из первых на Земле перешли к оседлому земледелию; вокруг еще бродили дикие охотничьи племена, и врагов у горожан, надо думать, было предостаточно. Тем не менее первый город просуществовал на удивление долго — об этом свидетельствует толщина культурного слоя, в пределах которого техника изготовления изделий практически не меняется. Жизнь людей в ту пору была короткой, умирали (или погибали) в среднем в возрасте тридцати лет. В городе успело смениться не одно поколение: сложились традиции, устоялись обычаи, проглядывалась в смутной дали непонятного времени какая-то своя легендарная история, о которой рассказывали детям и внукам. Всему этому пришел внезапный конец где-то в начале раннего бронзового века. Палестина, как ее станут в будущем называть, стала тогда местом бурного городского строительства. Как грибы после теплого дождя поднимались вокруг поселения, защищенные стенами, воздвигались дома и жилища, строились храмы и капища; там, где раньше на всю огромную пустынную округу был один Иерихон, слухи о котором наверняка уже обросли сказками и легендами, теперь появилось множество конкурентов. А где города, там цивилизация, а где цивилизация, там войны. К тому времени неолитический Иерихон уже высоко поднимался на своем холме — ведь столько поколений оставляли здесь следы своего пребывания на Земле. Примерно к 3000 году до новой эры (когда настоящие города на всей планете еще можно было пересчитать на пальцах) стены Иерихона окружал холм 20-метровой высоты. Из ворот города в разные стороны разбегались торговые дороги. Об этом можно судить по тому факту, что в слоях этой эпохи уже обнаруживается не только местная посуда, на и черепки глиняных изделий из других мест, подальше к северу, западу и востоку. Сотрудники Кэтлин Кеньон нашли в раскопках и другие признаки цветущей и широкой торговли. Город еще более расширился — видимо, разбогател. Надо полагать, что окрестное население массами тянулось под прикрытие иерихонских стен: ведь город защищал вход в Ханаан со стороны южных и восточных пустынь, откуда непрестанно рвались к этим плодородным землям племена кочевых охотников. С каждым разом они все ближе подступали к городу, а порой даже нападали на него. Судя по раскопкам Кеньон, стены Иерихона разрушались не менее 17 раз! И далёко не всегда виной этому были землетрясения. В 2100 году до н. э. стены были разрушены полностью и до основания. На сей раз виновники известны точно — это были воинственные племена амореев, именно в ту пору захватившие большую часть здешних земель. Они не только разрушили стены Иерихона — они еще вдобавок сожгли город дотла. После слоев с обожженными пламенем остатками стен пошли «пустые» слои — видно, жители бежали из города или были уведены в рабство. Почти двести лет угрюмые и безлюдные руины Иерихона одиноко высились в пустыне. Другие города, помоложе, став жертвой такой катастрофы, уходят в небытие, заносятся песками. Но не таков этот древнейший город. Уже на рубеже 2000 года до н. э. в археологических слоях снова стали появляться остатки жилищ. И опять, как в начале заселения, это грубые, примитивные постройки. Их явно создавали пришельцы, не знавшие навыков городской жизни, ее архитектуры и методов строительства. Видимо, на развалины Иерихона пришли жители других мест, привлеченные древней славой города и его плодородными землями. А к 1900 году до н. э. появляются новые крепостные стены и добротные, просторные дома. В развалинах этих построек археологи нашли бронзовое оружие и украшения из бронзы. Это позволило установить, что новые поселенцы пришли откуда-то с севера, несколькими волнами, причем каждая следующая волна несла с собой всё более высокую культуру бронзового века. Не удивительно, что город стремительно разрастался, и уже через несколько сотен лет периметр городских стен охватил огромную по тем временам площадь — самую большую, которую когда-либо занимал Иерихон. Сами стены тоже были построены по новой системе — вдоль основания их был насыпан вал, для того, видимо, чтобы воспрепятствовать приближению боевых колесниц. Культуру новых жителей Иерихона сохранили их гробницы. Археологи раскопали десятки таких гробниц с уцелевшими в них остатками изделий из дерева, текстиля, плетеных корзин и даже пищи. И снова Иерихон оказался непохожим на других: во всех остальных местах здешней земли такие артефакты давно истлели, а здесь время их совершенно не тронуло. Благодарить за это следует сухой и жаркий климат Иорданской долины. Он — и только он — позволил историкам узнать, как жили люди в Святой Земле в эпоху прихода сюда праотца Авраама. Каждая гробница содержала богатый набор вещей и провизии. Можно думать, что люди того времени верили в загробную жизнь и старались снабдить покойников всем необходимым для продолжения существования на том свете. Предполагалось даже, что они будут есть, сидя за столами, и поэтому в гробницах были обнаружены целые комплекты тогдашней мебели — деревянные столы, стулья и кровати, отделанные с немалым искусством. Деревянные и глиняные горшки и кувшины содержали запасы пищи, а большие, с четырьмя ручками сосуды — питье. На полах были расстелены плетеные матрацы, в деревянных чашках или алебастровых сосудах были приготовлены туалетные принадлежности, в плетеных корзинах навалом лежали деревянные и металлические гребни вперемежку с одеждой. Разумеется, все это сохранилось лишь фрагментарно, но и в таком виде позволяет увидеть, что люди в Иерихоне жили зажиточно. То была уже настоящая и довольно высокая по тем временам цивилизация. Конец ее наступил вместе с концом среднего бронзового века, с началом становления и расширения великих ближневосточных империй. Лежавший на скрещении путей Ханаан оказался, как и сейчас, предметом внимания и интереса великих держав. Около 1560 года до н. э. (Иерусалим уже был тогда столицей племени иевуситов) в страну вторглись египтяне. Иерихон был захвачен, разграблен и сожжен; С этого момента культурный слой снова становится стерильным. Предшественник Кэтлин Кеньон, уже упоминавшийся выше Гарстанг, нашел, правда, на краю иерихонского холма какие-то жалкие остатки невысоких стен и временных жилищ, которые он датировал 1350 годом до новой эры, но можно с почти полной уверенностью утверждать, что к концу этого столетия, то есть ко времени, которым большинство современных историков датирует завоевание Ханаана евреями, не высился вблизи Мертвого моря богатый и сильный город и не было тех стен, которые мог бы сокрушить рев еврейских боевых труб. Предание о рухнувших от трубного гласа стенах Иерихона — всего лишь красивая легенда. Йегошуа бин-Нун не был ни первым, ни последним среди тех полководцев, кто слегка преувеличил свои боевые заслуги, — достаточно глянуть на победные стелы египетских фараонов и ассирийских царей того времени. Впрочем, у бин-Нуна были вполне реальные причины гордиться взятием Иерихона — вступив в этот древний город, он вместе со своим народом вступил в историю. С этого времени первый город на планете продолжил свою жизнь уже как еврейский город. Пока в наши дни не стал палестинским. >ГЛАВА 2 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ А вот еще кое-что о древних строителях, хотя, скорее, из области забавного. Как многим, наверно, известно, по всей территории Британского королевства рассеяно множество древних каменных монументов, состоящих из ряда вертикальных подпорок, поддерживающих поперечную. Они получили название «хедж». Самый знаменитый и интересный из них, Стоунхедж, расположен на равнине Солсбери, что на юго-западе Англии. Историки полагают, что его строительство заняло примерно четыреста лет и закончилось 4800 лет назад. Комплекс Стоунхеджа состоит из наружного кольца П-образных каменных сооружений из песчаника — это вертикально стоящие камни высотой около 4,5 м, которые поддерживают горизонтальные каменные «перекладины». Кроме того, имеется также внутреннее кольцо из камней пониже, которое повторяет форму наружного. Множество разнообразных гипотез высказывалось по поводу назначения этого монумента. Многие ученые считают, что это был храм, в котором в период неолита происходили культовые процессии священников и мистические празднества, а вокруг, в открытом поле, располагались зрители. Возможно также, что это было место для некультовых зрелищных представлений. Так вот, недавно была выдвинута новая, весьма забавная гипотеза, согласно которой дизайн Стоунхеджа основан на женской сексуальной анатомии. Автор гипотезы — доктор Антони Перке, отставной профессор гинекологии и акушерства университета Британской Колумбии в Ванкувере и врач университетской женской больницы. Внимательно рассматривая камни Стоунхеджа, он заметил, что некоторые из них тщательно отполированы, а другие остались необработанными. Это навело его на мысль о связи отполированных камней с профессионально хорошо знакомыми ему особенностями женской кожи. Гладкость женской кожи по сравнению с мужской давно известна и связана с женским гормоном эстрогеном. «Каких же гигантских усилий стоило древним людям шлифовать камни вручную», — подумал доктор Перке и решил проанализировать весь монумент в анатомических терминах женского полового аппарата. Он увидел, что камни внутреннего кольца расположены скорее по эллиптической, яйцеобразной кривой, нежели по кругу. Сравнение ее формы с формой женских половых органов показало неожиданный параллелизм. Дальнейшее изучение монумента выявило другие интересные детали, и в результате у Перкса родилась законченная и оригинальная гипотеза. Согласно, этой гипотезе, наружный каменный круг и невысокий холм в его центре, возможно, имитируют т. н. большие срамные губы (две покрытые волосами кожные складки, которые окаймляют отверстие влагалища и сзади от него срастаются вместе) и лобок, тогда как внутренний круг изображает малые срамные губы (две другие складки, не покрытые волосами, вокруг женского влагалища, у передней точки соединения которых находится клитор). Тогда камень алтаря (или жертвенника) должен соответствовать самому клитору, а пустой геометрический центр, очерченный камнями малого круга, — символ детородного канала. При всей своей кажущейся забавности гипотеза Перкса содержит некое здравое научное зерно. Перкс обращает внимание на тот факт, что, в отличие от других холмов на просторах Англии, в холмах, окружающих Стоунхедж, найдено очень мало захоронений. Он трактует это как подтверждение своей гипотезы: «Я думаю, что это место было символом жизни, а не смерти». По мнению Перкса, комплекс Стоунхеджа был посвящен богине Матери-Земле. Поклонение этой богине было распространено среди ранних кельтов и людей других европейских неолитических культур. В Европе найдены сотни статуэток, так или иначе выражающих идею богини-Матери. Они были созданы в те времена, когда роды сопровождались высочайшей смертностью младенцев, и поэтому вполне возможно, что богине-Матери молились также о выживании новорожденных и вообще о плодородии. Поэтому Стоунхедж, по мнению Перкса, мог служить для таких «церемоний плодородия», которые связывали рождение и выживание человека с рождением и выживанием растений и животных, от которых зависели тогдашние люди. Любопытно, что почти одновременно с Перксом проблемой Стоунхеджа занялся другой ученый, голландский профессор философии Джон Давид Норт. Он выдвинул совершенно иное (и более консервативное) предположение, заявив, что камни Стоунхеджа расположены так, что образуют точную проекцию определенных звезд, а потому следует думать, что Стоунхендж служил астрономической обсерваторией и картой звездного неба. Доктор Перке признает, что монумент, возможно, был связан и со звездным небом, но видит это в ином свете. «В Стоунхедже мы видим на открытой равнине Солсбери небесный свод вместе с Землей. Как будто бы Отец-Солнце встречается с Матерью-Землей на середине пути, в месте, обращенном к будущему». Так что правило «Шерше ля фам», то бишь «Ищите женщину», иногда, как видим, помогает и в поисках разгадок доисторических тайн. Если и не очень убедительных, то весьма увлекательных разгадок. Не оглянуться ли и нам на иные наши древности? >ГЛАВА 3 СЕКСУАЛЬНЫЕ РАБЫ ИШТАР В гипотезе доктора Перке есть и другое рациональное зерно. Древние люди действительно много размышляли о женщинах. Оно и понятно — женщины рожали детей, т. е. были залогом будущего. Может быть, потому и секс играл огромную роль в древней культуре — чему доказательством нижеследующая занимательная история. Она начинается словами (кое-где попорченной) вавилонской рукописи:
Эта пространная эротическая поэма, лишь небольшой отрывок из которой приведен выше, описывает длинную череду сексуальных сношений вавилонской женщины по имени Иштар со 120 юношами ее города. Сей примечательный текст, в котором то и дело повторяется припев: «Вот так милуются девки с парнями в нашем городе!», был обнаружен в собрании клинописных текстов религиозного толка в развалинах главного центра вавилонской религии, города Ниппур, который историки иногда называют «Ватиканом Ново-Вавилонского царства». Глиняная табличка с текстом поэмы была найдена во время раскопок древнего Вавилона в 1880 году одним из пионеров современной археологии Германом Хильпрехтом. Судя по всему, поэма была написана во время царствования знаменитого Хаммурапи, но найденный Хильпрехтом текст, представлял собой более позднюю копию, что свидетельствует о большой популярности данного произведения. Сорок лет царствования Хаммурапи (XVIII век до н. э.) были временем расцвета Вавилонии. В те времена царство это было религиозным, культурным и научным центром всего Ближнего Востока. Именно тогда было создано первое в истории собрание законов, известное под названием «кодекса Хаммурапи». И одновременно то была эпоха бурного расцвета литературного творчества. «Тексты, описывающие сексуальные отношения вавилонян, представляют собой органическую часть этой богатой литературной традиции, — говорит профессор израильского Беэр-Шевского университета Авигдор Гурвиц, посвятивший этому гимну древнего распутства статью в вышедшем недавно в США сборнике «Разгадывая загадки и распутывая узлы». — Секс был такой же законной темой искусства, как в наши дни, когда, например, в кинофильме, не имеющем никакого отношения к порнографии, можно встретить постельные сцены. Так же и в знаменитой вавилонской поэме «Деяния Гильгамеша» имеется эпизод, в котором дикое лесное существо Энкиду семь суток подряд совокупляется с блудницей». По словам проф. Гурвица, вавилонское общество было значительно более терпимым и открытым в отношении секса, чем еврейское или христианское, и вавилоняне свободно обсуждали любые сексуальные проблемы. Секс был также и куда более доступен. Так, например, в городе Ашшур (на территории нынешнего Ирака) существовал храм богини любви Иштар, в развалинах которого были найдены медальоны с изображениями храмовых проституток мужского и женского пола; как полагают исследователи, сношения с ними считались своего рода магическим ритуалом. «Напротив, в еврейских источниках, — продолжает Авигдор Гурвиц, — о сексе, как правило, говорится весьма сдержанно, и всякое описание сексуальных отношений, выходившее за рамки общепринятого, считалось предосудительным». Так, в известном рассказе Книги Судей о Яэли и Сисаре так и не сказано напрямую, сопровождалась ли их встреча половым актом. Впрочем, согласно талмудическому комментарию рава Йоханана, стих «Между ног ее встал на колени, опустился и лежал, между ног ее встал на колени и опустился, там, где встал на колени, лежал, убитый» следует понимать в том смысле, что Сисара успел семь раз овладеть Яэлью, прежде чем она его убила. Подобно древним еврейским авторам, современные ассириологи относятся к проблеме секса весьма консервативно, и, например, в одном из известнейших английских переводов «Деяний Гильгамеша» переводчик Александр Хейдель предпочел перевести слишком скабрезную сцену… по-латински! Возможно, по тем же причинам и эротические гимны, повествующие о вавилонском разврате, оставались неизвестными в течение многих лет (с самого момента их обнаружения), и лишь в самое последнее время они нашли своих переводчиков. Немецкий ассириолог Вольфрам фон Зоден перевел их на немецкий, но при этом ограничился обсуждением лишь грамматических особенностей текста. Тем не менее даже на основании этого анализа фон Зоден пришел к выводу, что найденная глиняная табличка, по всей видимости, представляет собой отрывок более обширного текста — возможно, культового или ритуального характера. Исследование Авигдора Гурвица основывается на переводе фон Зодена, но, в отличие от труда немецкого исследователя, представляет собой первый в ассириологии чисто литературный анализ поэмы. По мнению Гурвица, «этот текст представляет собой одно из древнейших порнографических произведений вавилонской письменности. А то, что текст этот написан по-аккадски — на древнем языке богослужения, — не более чем прием. В поэме масса юмористических моментов и остроумной словесной игры, что свидетельствует об определенной литературной изощренности автора». В процитированном отрывке речь идет о женщине по имени Иштар (судя по всему, вполне обычной, живой женщине, а не одноименной богине), с которой хотят совокупиться юноши города. Один из них предлагает, ей усладить себя. Его товарищ, видимо, сочтя, что это вежливое предложение не будет оценено по достоинству, добавляет перца и предлагает Иштар нечто более грубо-откровенное. Ответ Иштар превосходит все ожидания юношей: она предлагает себя не только им, но и всему городу, и приглашает городских юношей «в тень стены». Речь идет, по-видимому, о том районе, который в древности служил эквивалентом современных «кварталов красных фонарей», ибо и о блуднице Рахав в Библии сказано, что «дом ее вблизи стены и у стены она живет». 120 юношей решают воспользоваться соблазнительным предложением Иштар, и каждый из них совокупляется с ней по «семь раз спереди и семи раз сзади». Но даже эти сотни половых актов не удовлетворяют женского сластолюбия. Юноши изнемогли, но Иштар требует еще. Рассказ кончается тем, что изнуренные юноши все же удовлетворяют ее желание. «Все мужчины хотят послужить этой женщине, но Иштар оказывается сильнее и выносливей своих сексуальных рабов», — отмечает проф. Гурвиц. По его мнению, автор поэмы выражает здесь — быть может, впервые в истории — феминистскую позицию: «Иштар — это высшее воплощение сексуального объекта; она предлагает всем свое тело, но на самом деле никому не подчиняется и никому не принадлежит. Женщина здесь изображена существом высшего ранга, а мужчины — низшими существами, которые служат ей и подчиняются ее воле». Вместе с тем профессор Гурвиц признает, что поскольку мы имеем дело с литературой, всегда существует опасность переноса наших нынешних представлений на древний текст со всеми его очевидными и неизбежными неопределенностями. Что, может быть, и так. >ГЛАВА 4 ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ В АККАДЕ Поскольку мы уже упомянули об аккадском языке, поговорим об Аккаде. Катастрофы, как известно, происходят не только в природе. Вопросительными знаками загадочных катастроф кончаются также страницы человеческой истории, посвященные взлету и упадку многих великих империй прошлого. И эта история — как раз об одной такой загадке, связанной с древним Аккадским царством великого Саргана, и о новейшей гипотезе, предлагающей ее объяснение. Одна из самых популярных книг об истории Древнего Ближнего Востока называется решительно и кратко — «История начинается в Шумере». В пику этому — и со значительно большим правом — наш рассказ можно назвать «История начинается в Аккаде», ибо если Шумер и был самой процветающей частью древней Месопотамии, то все же первыми объединили все города Двуречья, включая шумерские Ур, Лагаш, Урук и другие, именно цари Аккада. Давайте, однако, для начала поставим, как говорится, текст в контекст. Набросаем общие историко-географические контуры происходящего. Итак, место действия — Месопотамия, или Двуречье (долина Тигра и Евфрата); время действия — 3-е тысячелетие до новой эры. Еще должны пройти добрые полтысячи лет, прежде чем древние евреи переселятся в Египет, и почти тысячелетие до того, как они совершат Исход оттуда. Но уже и в. середине 3-го тысячелетия в Египте существует могущественное государство, именуемое сегодня Древним царством; в нынешней Палестине и Сирии там и сям возникают торговые города и земледельческие поселения; на Крите и Эгейских островах развивается культура раннего бронзового века. Свой островок цивилизации существует и в Двуречье. Южная часть страны, или Шумер, с ее Уром, Уруком, Лагашем и другими городами пересечена ирригационными каналами — благодаря им речные воды оплодотворяг ют пахотные земли, на которых дважды в год ячмень приносит 50-кратные урожаи; северная часть, Аккад, славится бескрайними пшеничными полями, среди которых высятся города-государства Вавилон, Киш, Сиппар, Кута, Акшак. В сущности, все это — территория нынешнего Ирака, пограничная с нынешним Ираном, и вот здесь-то и начинается в те времена трехтысячелетняя история великих империй Древнего Ближнего Востока. Перечислим их в порядке появления и смены друг друга: Аккадское царство; Вавилонское царство; Ассирийское царство; Нововавилонское царство; Персидская империя; империя Александра Македонского. На этом фоне со 2-го тысячелетия до н. э. развивается и более знакомая нам история древних евреев. А началось все, как уже было сказано, в Аккаде. В 2360 году до н. э. царь аккадских земель Сарган (позднее прозванный Великим) завоевал не только все города шумеров, но и раздвинул границы созданного этими завоеваниями государства на восток далеко за Персидский залив, в земли Элама; на запад — до берегов Средиземного моря (так что в пределах этих границ оказались Сирия, Ливан и Палестина); на юг — до нынешнего Омана; и на север — до равнин. Анатолии, что в сердце нынешней Турции. Поистине грандиозная получилась империя, территориально, вероятно, самая большая в мире по тем временам. Историкам известно (из надписей и раскопок), что при сыновьях и внуках Саргана (сам он умер в 2305 году до н. э.) созданное им государство процветало и укреплялось. Вдоль северных границ, откуда то и дело пытались прорваться воинственные племена горцев, были воздвигнуты многочисленные могучие крепости; на юге расширялась и совершенствовалась система оросительных каналов; повсюду строились ступенчатые храмы-зиккураты и величественные дворцы для придворной аристократии и бюрократической элиты. Так продолжалось ещё около ста лет после смерти Саргона, а затем произошло что-то непонятное: почти внезапно и одновременно все эти цветущие города, могучие крепости и плодородные поля были заброшены и отданы во власть свирепым песчаным ветрам; люди, населявшие северную часть Аккада, покинули свои жилища и бежали на юг, словно гонимые каким-то непонятным страхом; великое царство в одночасье развалилось и стало добычей варваров, спустившихся с гор. Крушение Аккадского царства было таким основательным, что больше оно уже не возродилось, а первые робкие признаки возрождения Двуречья появились лишь спустя 300 лет, в 1900 году до н. э.! И понадобилось еще целое столетие, прежде чем земли Двуречья снова объединил (на сей раз уже в виде Вавилонского царства) великий завоеватель и законодатель Хаммурапи. Вот это и есть та загадка, которой посвящен наш рассказ. Что вызвало бегство горожан и крестьян Аккада на юг? Что вообще вызвало этот неожиданный, ничем вроде бы не предвещавшийся крах Аккадского царства? И почему все это произошло не просто «очень быстро», а буквально «в одночасье», в течение нескольких считанных лет (сегодня это событие датируется вполне точно — оно произошло около 2200 года до н. э.)? Первая мысль — вторжение каких-нибудь пришлых завоевателей. Но нет, исторические памятники и данные раскопок не подтверждают такой гипотезы. Вторжение с гор действительно произошло, только не до, а после развала империи; иными словами, оно было не причиной этого развала, а его следствием. Мысль вторая — какой-нибудь гигантский природный катаклизм вроде того, который, как сегодня все более уверенно считается, 65 миллионов лет назад уничтожил динозавров. Но нет, не сохранились в истории следы такого катаклизма, а должны были бы обязательно сохраниться, если бы он был столь грандиозных масштабов — ведь Аккадское царство охватывало практически весь Ближний Восток. Надо заметить, что большинство историков — «древнеближневосточников» долгие десятилетия весьма единодушно игнорировали все эти вопросы. Более того — они вообще не видели здесь загадки. По их мнению, развитие Аккада следовало обычному закону развития всех древних империй: они оказывались не способны интегрировать завоеванные ими отдельные города-государства в рамки единого государственного целого; в результате в их основах рано, или поздно обнаруживалась «имперская слабость» и они становились легкой добычей очередных, вторгавшихся извне варваров. В случае Аккада эта схема была сформулирована авторитетнейшим ассириологом Норманом Иоффе из Мичиганского университета, который даже не потрудился хоть как-то ее конкретизировать, заявив без всякого стремления к оригинальности: «Неспособность включить традиционную знать городов-государств в процесс расширения империи усилила центробежные тенденции и тем самым сделала фланги империи чересчур уязвимыми». Понятно, что подобные теории могли держаться лишь до тех пор, пока датировка Аккадской катастрофы была расплывчатой и туманной. Но постепенно в археологии Ближнего Востока стали накапливаться данные, свидетельствовавшие о том, что эта катастрофа была исторически «внезапной» и явно связанной с какими-то природными причинами… На такие причины издавна указывала народная традиция — например, знаменитая древняя поэма «Аккадское проклятие», приписывавшая падение Аккада гневу бога Энлиля, храм которого якобы разрушил последний из аккадских царей, в наказание за что, Энлиль-де наслал на Аккад засуху, голод и вторжение варваров. Разумеется, поэма, да еще древняя, не очень серьезное свидетельство, согласимся. Однако в конце 40-х — начале 50-х годов с аналогичными «стихийно-природными» объяснениями Аккадской катастрофы выступили некоторые серьезные ученые. Например, французский археолог Шеффер высказал предположение, что эта катастрофа была вызвана повсеместными землетрясениями, а британский археолог Мелларт выдвинул гипотезу, что ее основной причиной были затяжные засухи. Однако в те времена большинство специалистов сочли эти объяснения чересчур «фантастическими». Ученые, подобные Иоффе, продолжали считать причиной катастрофы постепенное накопление неблагоприятных социально-политических факторов; другие, как израильский археолог Арлена Розен из университета имени Бен-Гуриона, признавая возможную «частичную роль» экологических причин, тем не менее, основную вину возлагали на «негибкость древних властителей», не сумевших-де «приспособиться к изменившимся условиям»; наконец, третьи, как американский археолог Бутцер, соглашаясь признать за экологическими причинами «весьма значительную» роль, все же объявляли их чем-то вроде последней соломинки, сломавшей спину уже до того перегруженного «имперского верблюда». А меж тем ни одна из этих групп ученых не могла объяснить тот важнейший, к тому времени неоспоримо установленный факт, что в 2200 году до н. э. «что-то» произошло не только в Аккаде, но одновременно чуть ли не на всей территории тогдашнего средиземноморского мира. И раскопки с применением более точных методов датировки, и углубленное изучение новонайденных памятников действительно показали, что практически одновременно с крахом Аккадского царства в Месопотамии произошло и падение Древнего царства в Египте, и массовое и повсеместное обезлюдение городов и поселений Сирии и Палестины, и почти внезапное крушение раннебронзовой крито-эгейской культуры. Тут уже «центростремительными процессами» и «уязвимостью имперских флангов» ничего не объяснишь. Налицо была серия несомненных и весьма масштабных исторических катастроф, практическая одновременность которых требовала каких-то иных, столь же крупномасштабных объяснений. Может быть, историки и археологи по-прежнему продолжали бы держаться за свои излюбленные социально-политические концепции постепенно нараставшего «имперского кризиса», но к этому времени в науке произошло еще одно существенное изменение: стал ощутимо меняться характер представлений о ходе исторических процессов в целом. Прежние представления о постепенном, медленном, «градуальном» характере биологической и исторической эволюции стали все более уступать место новым теориям, подчеркивавшим чрезвычайно важную, порой, возможно, решающую роль «точечных», «одномоментных» событий катастрофического характера. Короче, в науку стал возвращаться «катастрофизм», сформулированный в Начале XIX века Жоржем Кювье, а после Дарвина изгнанный из научного обихода. Важнейшей вехой этого поворота стала выдвинутая в 1980 году отцом и сыном Альварецами гипотеза о столкновении Земли с астероидом (или крупным метеоритом) как главной причине внезапной, массовой и практически одновременной гибели динозавров. Поначалу высмеянная чуть ли не всеми специалистами, эта гипотеза спустя десять лет была блестяще подтверждена обнаружением вполне реальных следов такого столкновения, сохранившихся во многих местах планеты (в частности, следов иридия метеоритного происхождения), а затем и остатков соответствующего кратера на дне Мексиканского залива. Успех Альварецов вдохновил тех молодых историков и археологов, которым давно не давала покоя загадка Аккадской катастрофы и которых не удовлетворяли ее традиционные объяснения, и в 1993 году группа этих ученых (американец Харви Вейсс, француженка Мари-Агнес Курти и другие) выступила в журнале «Сайенс» с оригинальной гипотезой, основанной на совокупности множества новых фактических данных и предлагавшей новое решение давней исторической проблемы Аккада. Те фактические данные, которые легли в основу этой нашумевшей (и открывшей длящийся по сей день яростный спор историков), статьи, были собраны ее авторами в течение почти 15 лет раскопок на холме Тель-Лейлан в Северной Сирии. Здесь, под многовековыми песками, были обнаружены остатки древнего города, который в свое время был одним из торговых и политических центров Аккадского царства. Результаты раскопок Тель-Лейлана во многом перевернули прежние представления специалистов о развитии цивилизации Двуречья. Раньше считалось, что хотя объединителями здешних земель были цари Аккада, но подлинную культуру — земледелия, строительства и т. д. — привнесли; в Аккадское царство жители юга — шумеры (отсюда. и упомянутое в начале этого рассказа название — «История начинается в Шумере»). Теперь выяснилось, что в действительности развитие севера и юга Месопотамии происходило практически одновременно и параллельно. Тель-Лейлан начал стремительно расширяться и застраиваться уже в 2600 году до н. э., задолго до объединения страны под властью Саргона Великого и появления на севере шумеров. К 2400 году до н. э. город увеличился в шесть раз, заняв общую площадь в 20 гектаров. Его жилые кварталы были тщательно распланированы, прямые улицы — пересечены дренажными каналами, в центре высился величественный акрополь. При Саргоне, его детях и внуках этот рост продолжался за счет переселения в Тель-Лейлан жителей окрестных городов. Судя по найденным документам, такие переселения одновременно происходили и в других местах царства; переселенцы направлялись затем на государственные работы по освоению новых земель и прокладку торговых дорог, что способствовало дальнейшему росту процветания страны. Иными словами, вплоть до 2200 года до н. э. ни раскопки, ни документы не содержат и намека на какой бы то ни было «подспудный кризис империи», который якобы стал причиной ее последующего краха. Второе обстоятельство, неопровержимо установленное раскопками в Тель-Лейлане, — несомненная историческая «внезапность» этого краха. Вот только что (в 2250 году до н. э.) были воздвигнуты новые, мощные крепостные стены и переселены в город окрестные жители, а спустя каких-нибудь 40–50 лет Тель-Лейлан уже покинут и занесен песком! Исследователи обнаружили, что песчаные слои, покрывающие рухнувшие городские строения, не содержат ни малейших признаков человеческой деятельности на протяжении всех последующих 300 лет — только около 1900 года до н. э. в этих слоях вновь появляются следы пепла, бытового мусора, а затем и развалины новой имперской крепости. Любопытно также, что первыми на руины аккадского Тель-Лейлана легли слои песка, смешанного с вулканической пылью. Откуда она взялась в этих местах, где уже сотни тысяч лет не было никаких вулканов, непонятно, но еще интереснее, что та же картина была обнаружена и во многих других местах, где молодые исследователи подняли древние песчаные слои. Развалины Тель-Тайя, Хагар-Базара, Тель эль-Хавы и других древних аккадских крепостей тоже оказались засыпаны смесью песка и вулканической пыли, а затем — безжизненными слоями чистого песка толщиной около 20 см. Применяя методы радиоактивной датировки, исследователи установили, что начальный слой песка во всех этих местах относится к 2200-у, а последний — к 1900 году до н. э. Иными словами, все данные свидетельствовали о том, что равнины Северной Месопотамии были покинуты их жителями на целых 300 лет, начиная с 2200 года до н. э. Те же методы датировки, примененные другими археологами к развалинам других великих культур Средиземноморья (в Египте, на Крите и т. д.), показали, что и там крах первых цивилизаций произошел в то же самое время. Более того, обнаружены следы «разрыва исторической непрерывности», а проще говоря — некой загадочной исторической катастрофы, причем в столь отдаленных от Средиземноморья местах, как долина Инда и равнины Кении. И опять в то же самое время — около 2200 года до н. э. Добавим к этому, что результаты недавнего (1996 год) исследования отложений на дне Оманского залива обнаружили и там следы того же катаклизма: слой этих отложений, относящийся к 2300–2200 годам до н. э., оказался впятеро более богат осадками, чем все предыдущие и последующие, и к тому же насыщен все той же вездесущей вулканической пылью. Таким образом, картина катаклизма 2200 года до н. э., первые штрихи которой были прочерчены загадочной «Аккадской катастрофой», постепенно расширилась, охватив почти все известные тогда очаги человеческой цивилизации. Аккадская катастрофа оказалась не только вполне реальным историческим событием, но и одним из многих аналогичных катастрофических событий того же времени. Толчок, полученный исторической мыслью в результате новых исследований молодых западных археологов в покинутых городах Аккада, постепенно привел к становлению совершенно неожиданной концепции крупномасштабного катаклизма, одновременно затронувшего весьма отдаленные друг от друга регионы земного шара. И в этом смысле можно лишь повторить, что вся эта история, действительно, началась в Аккаде. Но что же все-таки было причиной данного катаклизма? Несомненно, главную, так сказать, непосредственную роль в нем сыграло наступление длительного периода устойчивых песчаных бурь и засух, растянувшихся на долгие десятилетия и сделавших невозможной жизнь в городах Северной Месопотамии. Бегство тамошних жителей на юг было, видимо, прямым следствием этих экологических бедствий. Можно думать, что какие-то аналогичные причины привели к произошедшим в те же времена изменениям в течениях Нила и Инда. Все это, вместе взятое, ознаменовало наступление длительного, почти трехвекового периода засух и холодов на огромном пространстве Азии, Северной Африки и Южной Европы. Но исходной причиной катаклизма были, надо думать, еще более масштабные события. Некоторые указания на их возможный характер дают последние результаты, полученные при исследовании отложений на дне Атлантического океана между Гренландией и Исландией. В этих отложениях обнаружены слои того же времени, особенности которых свидетельствуют о резком изменении климата всего северного полушария. Некоторые климатологи высказывают на этом основании гипотезу о связи этого похолодания с неким длительным и устойчивым «эффектом Эль-Ниньо». Ведь и в наше время этот эффект, вызываемый изменениями океанских течений, оказывает существенное влияние на погоду в общепланетарном масштабе. Однако окончательного ответа на вопрос о причинах катаклизма 2200 года до н. э. пока еще нет, и, как выразился один из исследователей, тот, кто этот убедительный и однозначный ответ найдет, может наверняка рассчитывать на Нобелевскую премию. Так что загадка «Аккадской катастрофы» все еще ждет своего решения. >ГЛАВА 5 ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПОТОПУ Перефразируя начало предыдущей истории, можно сказать: катастрофы происходят не только в человеческой истории, куда чаще они происходят в природе. О многих мы знаем, другие остаются предположительными. Об одной из таких «предположительных катастроф» шла речь на конференции Археологического института Соединенных Штатов, состоявшейся в городе Сан-Диего. Главным событием конференции была встреча американских археологов и историков с геологами Вильямом Райаном и Уолтером Питманом — авторами нашумевшей книги «Ноев потоп, или новые научные открытия, связанные с событием, которое изменило мир». Чем же прославились эти геологи, что с ними захотели встретиться специалисты совсем другой профессии, казалось бы, от геологии весьма далекой? Десять лет назад, в 1996 году, Райан и Питман, специалисты по геологии морей, выдвинули дерзкую гипотезу, согласно которой Ноев потоп действительно происходил — только не на всей Земле, а лишь в определенной ее части, в Черном море. Опираясь на результаты своих многолетних исследований подводной периферии этого моря и древних осадков вдоль нее, Райан и Питман пришли к выводу, что примерно 7600 лет тому назад (то есть около 5600 года до н. э.) Черное море весьма быстро и резко изменило свою акваторию. Найденные авторами факты указывали, что площадь моря за какие-нибудь считанные месяцы (максимум — за два года) увеличилась почти на 30 процентов, залив при этом свыше 150 тысяч квадратных километров прибрежных земель. По мнению Райана и Питмана, это произошло в результате внезапного прорыва скалистого перешейка, который до того отделял Черное море от Средиземного. В образовавшийся пролив (ныне мы его называем Босфорским) хлынули средиземноморские воды. Обрушиваясь в более низко лежавший черноморский бассейн, они создали гигантский водопад, по мощности превышавший двадцать Ниагарских водопадов, который в короткое время изменил не только облик самого Черного моря, но и всю культурную географию региона. Спасаясь от быстро наступавшей воды, прибрежные жители вынуждены были покинуть давно освоенные и обжитые берега и в панике рассеяться кто куда. Райан и Питман высказали убеждение, что именно это «великое бегство народов» привело к тому, что-навыки сельского хозяйства, впервые выработанные людьми как раз у берегов благодатного Черного моря, были перенесены, с одной стороны, в Центральную и Западную Европу, а с другой — на Ближний Восток и в Месопотамию. Такое огромное бедствие, такой гигантский природный катаклизм не мог не запечатлеться в памяти перенесших его людей, и вот сказание о потопе, содержащееся как в библейском рассказе о Ноевом ковчеге, так и в предшествовавшем ему месопотамском мифе о Гильгамеше (там роль Ноя играет бессмертный Утнапиштим) как раз и является, по словам авторов, отражением и косвенным свидетельством реальности «черноморского потопа». Впечатляющая гипотеза Райана и Питмана не могла не вызвать споров и дискуссий, и таковые не замедлили последовать. Геологи, ознакомившиеся с доводами коллег, нашли их достаточно убедительными. С гипотезой согласились и некоторые археологи и историки. Так, Альберт Аммерман из университета Колгэйт заметил, что первое появление оседлых поселений и признаков сельского хозяйства в современной Венгрии датируется временем, на 200 лет более поздним по сравнению с предполагаемым «потопом», что вполне согласуется с гипотезой об «исходе» носителей оседлости и агрикультуры с берегов Черного моря. Сами авторы гипотезы, продолжая свои изыскания, обнаружили в донном иле у берегов Черного моря раковины, принадлежащие мелким морским животным, характерным именно для Средиземного моря, причем, судя по радиоактивной датировке, животные эти погибли как раз 7600 лет тому назад. Еще более интересное и отчасти загадочное открытие Райан и Питман сделали вблизи пролива Босфор, в Мраморном море. Они нашли здесь на морском дне странное подводное образование, имеющее характер длинной (почти полукилометровой) дамбы, постепенно поднимающейся на высоту пятиэтажного дома. Если дальнейшее изучение покажет, что дамба имеет искусственный характер, это может быть еще одним свидетельством того, что в древние времена на месте Мраморного моря была обжитая суша, разделявшая Черное и Средиземное моря. Но самые любопытные доказательства в пользу справедливости гипотезы «черноморского потопа» нашел пенсильванский археолог Фредрик Хиберт, в течение нескольких лет изучавший подводное побережье Черного моря вблизи турецкого города Сйноп. В ходе своих исследований он применял подводные эхолокаторы и другие средства дистанционного фотографирования. Недавно на телеэкранах был показан сенсационный научно-документальный фильм, сделанный Хибертом с помощью этих методов. На снимках отчетливо видны наполовину ушедшие в донный ил остатки обработанных камней, образующих нечто вроде древнего жилища, и другие приметы явно существовавшего здесь в древности и позже затопленного поднявшимся морем оседлого человеческого поселения. Ободренные всеми этими доказательствами справедливости своей гипотезы, Райан и Питман собрали их в книгу под вышеупомянутым заглавием. Именно эта книга и послужила предметом споров, развернувшихся вокруг гипотезы «черноморского потопа» на конференции Национального археологического института в Сан-Диего. Дело в том, что, в отличие от немногочисленных энтузиастов вроде Хиберта, большинство историков и археологов и прежде не соглашалось с далеко идущими выводами Райана и Питмана; теперь же, после выхода в свет их обобщающего труда с «новыми научными доказательствами», это большинство и вовсе восприняло идею в штыки. Надо, однако, заметить справедливости ради, что главные возражения историков и археологов вызывает не столько геологическая сторона аргументации авторов, сколько их культурно-исторические выводы. Выступая на конференции в Сан-Диего, английский историк Стефани Далли из Оксфорда указала, что намеченные Райаном и Питманом параллели между их описанием «потопа» и его описанием в ближневосточных мифах крайне сомнительны. Как в истории Гильгамеша, так и в рассказе о Ное говорится, что потоп был вызван дождём, который шел непрерывно в течение длительного времени, так что покрыл «всю землю»; между тем в случае постепенного, пусть даже быстрого подъема уровня моря суша все время должна была быть видна. Весьма странно также, что память о потопе сохранилась почему-то лишь в ближневосточных мифах: если бы он происходил так, как описано у Райана и Питмана, воспоминания о нем должны были отразиться и в легендах Центральной Европы, куда, если верить авторам, ушла значительная часть «беженцев». Но в европейской мифологии следы «потопа» начисто отсутствуют. Поэтому куда более вероятно, что ближневосточные мифы о потопе были все-таки порождены не «черноморским потопом» Райана — Питмана, а теми катастрофическими наводнениями, которые в древности периодически происходили на месопотамских землях в устье Тигра и Евфрата. А если это так, то следует признать, что культурное влияние «черноморского потопа» (предположим, что он имел место) было куда менее значительным, чем это утверждают авторы гипотезы. И, скорее всего, появление сельского хозяйства в Европе вызвано другими миграциями и более сложными культурными процессами. Мнение осторожного большинства подытожил на конференции в Сан-Диего ее председатель, археолог Эндрю Мур, заявив, что «преувеличенные заявления, связывающие затопление Черного моря и Ноев потоп, не нашли поддержки в исторических и культурных фактах». Но энтузиасты не согласились с. этим приговором. По их мнению, проблема потопа по-прежнему остается актуальной. >ГЛАВА 6 ЕЩЕ ОДНА АТЛАНТИДА Актуальной, судя по всему, остается и загадка знаменитой Атлантиды. С тех пор как более 25 веков назад великий Платон в своем диалоге «Тимей» рассказал о затонувшей стране Атлантиде, поиски местонахождения этой легендарной страны никогда не прекращались. Хотя многие ученые считали рассказ Платона попросту отголоском древних мифов, энтузиасты продолжали (и, как мы сейчас увидим, продолжают) выдвигать различные догадки о том, где могла находиться затонувшая держава атлантов. Атлантиду помещали вблизи острова Куба, у побережья Великобритании, на месте нынешних Азорских островов и т. п. Впрочем, сам Платон указал это место вполне однозначно: «Остров, находившийся впереди Геркулесовых Столбов», если пользоваться терминологией Платона (сегодня они называются Гибралтарскими) т. е. западней нынешнего Гибралтарского пролива, в Атлантическом океане. Но так как одновременно он утверждал, что остров этот был «больше Ливии и Азии, вместе взятых, и с него можно было перейти к другим островам и по ним проделать весь путь к противоположному континенту, а с них перебраться», то речь могла идти лишь об обширном архипелаге или даже целом континенте. Однако никакие глубоководные поиски в восточной части Атлантики не показали там наличия архипелага или затонувшего материка. И хотя Атлантиду так и не находили, она постепенно стала для многих своего рода исчезнувшей утопией — страной высочайшей культуры и цивилизации, которой кое-кто приписывал все культурные и технические достижения древнего человечества. В подтверждение ее существования привлекались различные аргументы — от смутных указаний древних источников до общности определенных скал, растений и животных по обе стороны Атлантического океана. Что касается этой общности, то сегодня после утверждения в науке теории дрейфа континентов уже ясно, что общность геологического и животно-растительного мира двух отдаленных материков может объясняться просто тем, что в давние времена Северная Америка и Евразия составляли единый сухопутный массив. Однако в последнее время в качестве доказательства реальности Атлантиды были выдвинуты новые аргументы. Французский историк Жак Коллина-Жерар обратил внимание на тот факт, что, согласно некоторым археологическим данным, во время последнего ледникового периода, около 19 тысяч лет назад, имела место значительная миграция населения тогдашней Европы в Северную Африку — часть древних людей бежала на юг от наступающих на Европу ледников. Такая заметная миграция, по мнению Коллина-Жерара, могла происходить лишь в том случае, если между Европой и Северной Африкой в те времена существовал сухопутный мост, расположенный либо в Средиземном море, либо в прилегающем к нему районе Атлантики, то есть впереди Геркулесовых Столбов, если пользоваться терминологией Платона. Таким мостом могла быть как раз Платонова Атлантида. Эти соображения побудили ученого заняться новыми поисками, и на сей раз эти поиски как будто увенчались неожиданным успехом — вблизи Гибралтарского пролива Коллина-Жерар обнаружил место, подозрительно напоминающее искомую и доселе ускользавшую от внимания всех других исследователей «Атлантиду». Увы, не совсем такую, как описывал Платон, но все же… Место это — находящийся в самой близкой к Гибралтару части Атлантики грязевой остров Спартель, лежащий на глубине около 100 метров ниже уровня моря. К поискам именно в этой точке профессора Коллина-Жерара привели не только литературные источники, но и строго научные рассуждения. Он использовал геологические данные о наиболее вероятной скорости подъема воды в Атлантическом океане после таяния последних европейских ледников, наступившего 11 тысяч лет тому назад. Правда, оказалось, что эта скорость составляла всего два метра в столетие, так что погружение Атлантиды, если она находилась именно здесь, должно было растянуться на столетия, а не произойти в одночасье, в один день, как описывает Платон. Но зато совпадает другое важное обстоятельство. Платон, живший почти две с половиной тысячи лет назад, в рассказе о гибели Атлантиды указывает, что он говорит о событии, которое произошло за 9 тысяч лет до него. Это означает, что Платонова Атлантида затонула примерно 11 тысяч лет назад. А это как раз то время, когда начали подниматься атлантические воды, отмечает Коллина-Жерар. К профессору Коллина-Жерару с энтузиазмом примкнули известные искатели «Титаника» Джордж Тулок и Поль-Анри Наржело. Они встретились с ним на археологической конференции, где профессор делал доклад о своей гипотезе, и были ею впечатлены. Незадолго до этого их подводная экспедиция к этому затонувшему кораблю, не менее легендарному, чем Атлантида, увенчалась триумфальным успехом — были найдены и подняты со дна многочисленные останки, переданные затем в специальный музей. И теперь, услышав о (вероятном) обнаружении Атлантиды, они сочли ее поиск таким же перспективным и стоящим делом, как поиск «Титаника», и предложили Коллина-Жерару свои услуги и свой двухместный батискаф. «Я слушал его на конференции, — рассказывает Наржело, — и, по-моему, я был его единственным слушателем. Но я тогда же подумал: «Это стоящая штука!» Ребенком я много читал об Атлантиде и, разумеется, был увлечен прочитанным, а то, что рассказывал Жак, открывало совершенно новый взгляд на вещи. Район, который он описывал, выглядел точно так, как его описывал Платон, — прямо за Геркулесовыми Столбами. Как только я это увидел, я подумал: «Это оно, Господи!» Я не мог поверить, что никто до сих пор не пришел к тому же выводу». В настоящее время остров Спартель представляет собой грязевую отмель длиной около 8 км и шириной 3,5 км, лежащую в Атлантике примерно в 100 км к западу от Гибралтара, и, как уже сказано, его максимальная глубина составляет около 100 метров ниже уровня океана. Исследователи намереваются в скором будущем произвести там двухнедельную разведку, главная цель которой — выявление каких-то следов древней жизни на острове. «Мы уже обнаружили место, которое могло быть гаванью острова; — утверждает Наржело, — и если это подтвердится, то там же должен был быть и населенный пункт, а может, и центр тамошней цивилизации». Он признает, что в истинной Атлантиде вряд ли существовали величественные храмы и дворцы — ведь речь идет о культуре раннего каменного века, — но собирается искать с помощью подводной фотосъемки пещеры и другие места, где могли бы жить древние люди 11 тысяч лет назад. «Если мы найдем их, то вернемся на более длительный срок для более подробного исследования». Деньги, необходимые для такой разведывательной экспедиции — порядка 250–500 тысяч долларов, — Наржело намерен собрать из частных пожертвований и научных грантов. Что ж, остается пожелать удачи этим искателям очередной Атлантиды. Их успех может принести много интересных сведений для науки. Если же они не обнаружат свою Атлантиду, нам тоже нечего беспокоиться — обязательно объявится следующая. >ГЛАВА 7 ТАК ВСЕ ЖЕ — КОЛОМБО ИЛИ КОЛОННО? Проплывем над (возможной) грязевой Атлантидой и направимся дальше, по пути Колумба. На этом пути тоже много занимательных загадок, и главная из них, конечно, связана с самим Колумбом. На протяжении столетий, прошедших с его смерти (в 1506 году в испанском городе Вальядолиде), сложилась и утвердилась легенда, будто этот великий мореплаватель и первооткрыватель Америки родился в итальянском городе Генуя, в ту пору — независимой и богатой морской державе, обладавшей многочисленными колониями в Средиземном море и спорившей за гегемонию в этом ареале с Венецианской республикой. Генуя охотно эксплуатировала эту легенду, щедро воздавая хвалу своему великому сыну и поминая его везде, где только возможно — от памятника в морской гавани до названия своего главного аэропорта. Туристам показывали увитый плющом «домик Колумба» в пригороде Порта Сопрана, где якобы прошло Колумбово детство, и рассказывали трогательные истории: о том, как он пристрастился к плаваниям, глядя на корабли, возвращавшиеся из дальних плаваний в генуэзскую гавань; как в возрасте 21 года впервые сам отправился в море; как три года спустя участвовал в морском сражении при мысе Сан-Винцент; как был ранен и спасся вплавь, держась за обломок бревна с утонувшего судна, и как чудесным образом был вынесен на побережье Португалии. Существовала, правда, небольшая деталь, которая слегка нарушала стройность и убедительность этого рассказа: в документах тогдашней Генуи практически отсутствовали какие бы то ни было упоминания о семействе «Коломбо» (как, согласно генуэзской легенде, назывался Колумб в Италии), не говоря уже о самом «Кристофоро Коломбо» (как, по той же легенде, должен был именоваться Колумб). Некоторых исследователей это наводило на малопочтительные (по отношению к легенде) предположения, вплоть до того, будто «Христофор Колумб был на самом деле Христофор Коломб, генуэзский еврей», как писал в эпиграфе к своему известному стихотворению Владимир Маяковский. Отсюда было рукой подать до совершенно уж непочтительных гипотез новейших русских авторов, которые вообще отрицают, будто Колумб куда-то плавал и что-то открыл (А. Бушков: «Россия, которой не было», стр. 36–44). Легко понять, до какой степени эти домыслы и предположения оскорбляли слух и вкус исследователей — уроженцев Иберийского полуострова, ревнивая национальная гордость которых уступает разве что их же титаническому национальному самоуважению. Здесь, в Иберии, давно уже считали, что Колумб всецело принадлежит Испании или, на худой конец, Испании и Португалии, месте взятым, что и составляет упомянутый полуостров. Считали, но доказать не могли. И вот сенсация. Профессор Альфонсо Энсенат де Вильялонга из департамента американских исследований в университете города Вальядолида (того самого, где умер наш герой) выступил в газетах с утверждением, что его многолетние исследования неопровержимо свидетельствуют, что Колумб был фактически испанцем. Историки ошиблись в отождествлении генуэзской семьи, к которой он якобы принадлежал. Он родился не в 1451-м, как всегда считали, а в 1446 году. И его семья эмигрировала из Генуи на Иберийский полуостров вскоре после этого, так что называть его итальянцем просто смешно. Он говорил только по-кастильски и по-португальски, а не по-итальянски, и никогда не возвращался в Италию. А как же корабли в генуэзской гавани, средиземноморские плавания, связи с пиратами, служба при дворе герцога Рене, сражение при мысе Сан-Винцент, ранение, чудесное спасение? А никак, говорит профессор Вильялонга. Всего этого просто не было. А если и было, то относилось к другому человеку — какому-то «Коломбо». А наш — испанский великий мореплаватель — должен по справедливости именоваться «Христофор Колон» — и в этом-то вся загвоздка! Как говорится, «Что в имени тебе моем?» А все в нем! И мы сейчас это увидим. Профессор Вильялонга, который последние 10 лет своей 71-летней жизни затратил на изучение ранней биографии Колумба, утверждает, что все прежние исследователи ошибались в своем предположении, будто Колумб родился Христофором Коломбо и только в Испании превратился в Кристобаля Колона. Коломбо, говорит профессор, не мог превратиться в Колона — для этого он должен был звучать по-итальянски Колонно или даже просто Колон. Не случайно многовековые поиски генуэзских документов, проливающих свет на детство и юность «Христофора Коломба», оказались безрезультатны. Нужно было искать документы о семье «Колонно» или что-то в этом роде. И действительно, стоило профессору заняться такими поисками, как он тут же-обнаружил, что в архивах Генуи, Мадрида и Барселоны сохранилось нетривиальное число документов о богатой генуэзской купеческой семье Колонне, проживавшей в Генуе XV века и имевшей тесные связи с правительством Генуэзской республики. Обнаружился также и документ о том, что некий разорившийся купец Доменико Скотто попросился под покровительство рода Колонне и в благодарность за оказанную ему милость изменил свою фамилию на Доменико Колонне. У этого-то Доменико был, как показывают другие документы, сын Христофоро, 1446 года рождения, вместе с которым Доменико и его жена Мария Спинола эмигрировали в 1451 году в Лиссабон, надеясь поправить свои дела в Португалии. Здесь Кристобаль Колон, как стали называть 5-летнего мальчика, был отправлен для изучения латыни в училище португальского (а не итальянского, как ошибочно считалось до сих пор) города Павия, а затем — в мореходную школу, некогда основанную португальским принцем Генрихом Мореплавателем. Свое образование он завершил кратким пребыванием во францисканском монастыре в религиозном португальском центре Эвора (чем, возможно, и объясняется то, почему на свою первую встречу с королевой Изабеллой и королем Фердинандом он явился в рясе францисканского монаха). Свои изыскания профессор Вильялонга изложил в подготовленной к печати книге «Жизнеописание Христофоро Колонне», которая должна, по его мнению, положить конец всем прежним легендам, развеять вековые предрассудки и вернуть Колонне-Колона в испано-португальское лоно. Что же до того, почему великого мореплавателя так долго называли Колумбом, то профессор Вильялонга объясняет, что в некоторых документах имя «Колон» было ошибочно записано как весьма созвучное «Колом», откуда уже было недалеко и до «Колумба». Можно думать, что следующим шагом испанских историков будет требование именовать первооткрывателя Америки только «Колоном» — и никаких «Колумбов». Не исключено, что некоторые пылкие головы потребуют и государство Колумбию переименовать в «Колонию»… Что же до нас, то мы позволим себе остаться при мнении, что историческая истина, конечно, важна, но не до такой же степени, как историческое деяние. Назовите хоть горшком, только в печку не сажайте. И не преувеличивайте значение родословных. Допустим, не был Христофор Колумб ни Христофором Коломбом, ни генуэзским евреем, ни даже итальянцем Христофоро Коломбо — ну так что? Америку все-таки открыл он, а не мы с вами… >ГЛАВА 8 ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ КИТАЙЦЫ Если вы думаете, что открытие профессора Вильялонга исчерпало все загадки, связанные с Колумбом, то глубоко заблуждаетесь. Как мы предупреждали выше, на колумбовом пути есть много проблем. К примеру, в осведомленных кругах давно уже поговаривают, что Америку вообще открыли задолго до Колумба. Одни грешат на исландских викингов, другие на островитян Тихого океана, этих «мореплавателей солнечного восхода», как красиво назвал их некогда некий писатель, третьи — на неведомых уроженцев Древней Африки. Кто бы это ни был, все они уходили на своих парусных кораблях, катамаранах или выдолбленных из бревна лодках в тысячекилометровые плавания и порой, гонимые ветрами и течениями, оказывались совсем не там, куда плыли. Все эти доколумбовы гипотезы одинаковы тем, что их авторы никаких достоверных доказательств представить не могут, так — одни лишь скудные исторические намеки да блеклые следы. Но чем меньше у них доказательств, тем больше свобода и полет их фантазий и тем более они волнуют и разжигают наше воображение. Да и вообще, разве рассказы о неведомых плаваниях неведомых корабелов в поисках неведомых земель в неведомые времена — не один из самых увлекательных жанров историко-географической беллетристики? У меня самого была когда-то замечательная книга, посвященная всем этим гипотетическим плаваниям, книга, которую я регулярно перечитывал, — она называлась «Неведомые земли», автор Хеннинг, четыре объемистых тома в сине-красном твердом переплете, — но я однажды, дурак, этаким широким жестом подарил все эти тома случайному гостю-коллекционеру с радиостанции «Свобода». Он так долго и нудно у меня их выпрашивал за деньги, что я не смог устоять от соблазна шикануть, о чем теперь мучительно жалею. Тем более что гость этот впоследствии оказался советским шпионом на «Свободе» — в прямом и переносном смысле. Недавно в этом замечательном жанре «историй мореплаваний» появилась очередная гипотеза. Автор ее — британский моряк, бывший командир подводной лодки, а также эксперт по навигации Гэйвен Мензис. Свои изыскания он проводил много лет и вот некоторое время назад доложил наконец о результатах этих исследований на очередном заседании Королевского географического общества Великобритании. Сам факт, что его заслушали в столь уважаемом и авторитетном кругу, включавшем ученых-географов и историков, специалистов по картографии, морских офицеров и дипломатов, свидетельствует, что к гипотезе Мензиса и нам стоит отнестись, по крайней мере, с благожелательным вниманием. Чем мы хуже дипломатов? Тем более что гипотеза и впрямь весьма любопытна. Подобно многим другим выступавшим на этом поле до него, Мензис говорит, что все началось со случайного обнаружения им такого факта: уже в 1428 году в распоряжении португальцев имелась карта, на которой (обратите внимание — за 70 лет до Колумба!) были показаны Африка, Австралия, Америка и множество островов — и все это в поразительно точных деталях. Например, на карте явственно виднелись мысы Доброй Надежды (оконечность Африканского материка) и Горна (оконечность Южной Америки), хотя, как известно, португальцы не проплывали там вплоть до конца XV века. По утверждению Мензиса, именно эта карта, попав каким-то образом в Венецию, а из Венеции, в 1428 году, в Португалию, стала предшественницей нескольких аналогичных ей карт, получивших хождение в Европе в конце XV — начале XVI века. На основании 14-летнего изучения вопроса Мензис утверждает, что первые европейские мореплаватели, включая Колумба и Магеллана, имели в своем распоряжении такие карты. По мнению Мензиса — и тут начинается самая интересная и оригинальная часть его гипотезы, — загадочную карту привез в Венецию богатый купец и путешественник, некий Николо де Конти, только что вернувшийся тогда в родной город из Китая. А в Китае, продолжает Мензис, де Конти, видимо, был знаком (не исключено, что в силу личного участия) с географическими открытиями, сделанными во время недавно закончившегося плавания адмирала Чэнг Хе. Дальше следует рассказ. В начале XV века, напоминает Мензис, Китай был крупной морской державой и располагал большим флотом. Командовал этим флотом ближайший доверенный человек императора, его евнух Чэнг Хе. Адмиралу было поручено двинуться во главе могучей эскадры из 100 с лишним судов в плавание на запад! чтобы проложить новые торговые (а возможно, и завоевательные) пути по Индийскому океану, омывающему земли Южного Китая. Корабли Чэнг Хе достигли восточных берегов Африки, говорит Мензис, но не вернулись на родину, а поплыли дальше, обогнули мыс Доброй Надежды и двинулись на запад через весь Атлантический океан. Они добрались до Карибских островов, которые Колумб открыл лишь 70 лет спустя, спустились оттуда вдоль берегов Южной Америки, обогнули мыс Горн, поднялись снова на север, вошли в нынешний Калифорнийский залив, оттуда опять спустились на юг и повернули на запад, в результате чего наткнулись на Австралию, открыв ее чуть ли не за 200 лет до европейцев, и лишь оттуда наконец двинулись на родину, обогнув тем самым весь земной шар почти за 100 лет до Магеллана. Это во всех отношениях выдающееся плавание состоялось, по расчетам Мензиса, с марта 1421 по октябрь 1423 года. В доказательство правильности проложенного им гипотетического маршрута экспедиции Чэнг Хе Мензис указывает на упомянутые выше особенности карт (очертания Южной Африки, Австралии и Калифорнийского залива, мысов Доброй Надежды и Горна, правильные определения широты и долготы этих пунктов земного шара), а также на остатки огромных старинных деревянных кораблей, найденные на берегах некоторых островов Карибского моря и в Австралии, й некоторые китайские предметы того времени, обнаруживаемые в весьма удаленных местах Америки и Африки. Он выражает предположение, что китайские навигаторы определяли свое положение в море, а также широту и долготу посещаемых ими мест как с помощью Полярной звезды (когда их путь проходил в Северном полушарии), так и руководствуясь звездой южного ночного неба — Канопусом. К этому выводу он пришел, реконструировав на своем домащнем компьютере возможную систему небесной навигации, которую могли применять китайские мореплаватели начала XV века. Судя по отчетам газет, сенсационное сообщение Мензиса (подкрепленное семнадцатью страницами документальных доказательств и обещанием привести все остальные доказательства в готовящейся к публикации книге) было встречено со смешанными чувствами. Историческая его часть не нашла оппонентов, географическая и собственно «корабельная» стороны тоже были признаны вполне правдоподобными. Больше всего сомнений вызвали его рассуждения о «секретных» китайских картах, якобы имевшихся у Колумба и Магеллана, а также сообщения о найденных им остатках девяти китайских судов на карибских берегах. Тамошние берега так хорошо обследованы, заявили некоторые оппоненты, что такие остатки были бы наверняка замечены много раньше. Но более всего против гипотезы Мензиса говорил тот факт, что ни одна современная история картографии не упоминает о том, будто Чэнг Хе посещал какие-либо иные земли, кроме берегов Восточной Африки. Стоит, однако, сказать, что, невзирая на эти скептические замечания, издатели, присутствовавшие на заседании, сразу же по окончании прений заторопились в зал, где был назначен аукцион на покупку прав для издания книги Мензиса. Их можно понять — мы ведь тоже живем сейчас в век великих географических открытий, не менее великих, чем во времена Колумба и Магеллана: то кто-то откроет местоположение Рая, то другой, прямо с самолета — остатки Ноева ковчега, то третий — гору Синай в Аравийской пустыне — и жадное до сенсаций человечество хочет обо всем этом узнать — и поскорее, чтобы потолковать на очередной «тусовке». И правильно. Ведь этого даже у Хеннинга не узнаешь… >ГЛАВА 9 ЗАГАДКИ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ Не только Королевское географическое общество интересуется всякими загадками прошлого (см. предыдущий рассказ) — Королевское астрономическое общество, оказывается, тоже их не чурается. Иллюстрацией этого является нижеследующая история, связанная не просто с какой-нибудь обычной загадкой прошлого, а с тайной самой Вифлеемской звезды. Евангелии, рассказывающие о жизни Иисуса Христа, утверждают, что его рождение сопровождалось появлением над Вифлеемом (тогдашним и нынешним Бейт-Лехемом) чудесной звезды. Вот как описывает это событие апостол Матфей: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться Ему… Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и, когда найдете, известите меня… Они, выслушав царя, пошли: и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец». Люди, убежденные в правдивости каждого слова Боговдохновенных книг, вроде Евангелий, разумеется, не нуждаются ни в каких объяснениях этого необычного феномена, поскольку знают, что в мире нет ничего необычного или «чудесного», ибо все в нем — одни только деяния Всевышнего — и ничего больше. Люди, совершенно не верящие во Всевышнего, не верят также в Боговдохновенность каких бы то ни было книг, и поэтому для них загадка Вифлеемской звезды — тоже не загадка, а просто «очередная выдумка мракобесов». Трудность возникает для тех, кто посредине и хотел бы согласовать каждое слово этих книг с представлениями современной науки, или, иначе говоря, дать этим словам некое «научное объяснение». Самую внушительную попытку такого рода предпринял не так давно сэр Патрик Мур, бывший британский королевский астроном, опубликовавший в сентябре 2001 года книгу «Вифлеемская звезда». В ней он последовательно проанализировал все возможные небесные явления, которые могли бы лежать в основании «мифа о Вифлеемской звезде»: вспышка сверхновой, совмещение нескольких планет, прохождение кометы и т. п. — и пришел к оригинальному заключению, что наиболее удачно удовлетворяет всем описанным в Евангелии обстоятельствам явление «падающих звезд», то есть потока метеоров, представляющихся земному наблюдателю вылетающими из одной точки неба, из одного созвездия. Еще до выхода в свет книги сэра Мура та же проблема была рассмотрена в двух других сочинениях. Британский астрофизик Марк Киджер опубликовал книгу «С точки зрения астронома» (1999), в которой предлагал свое объяснение Вифлеемской звезды как редкого сочетания двух явлений — вспышки сверхновой звезды и необычного совмещения планет. Киджер нашел такой момент в древней истории, когда два этих события произошли почти в одно и то же время. В 5-м году до н. э. на небосводе появилась вспыхнувшая новая звезда, а в 6-м и 7-м годах происходили неординарные совмещения нескольких планет. По убеждению Киджера, появление новой звезды сразу вслед за этими необычными совмещениями планет вполне могло показаться древним людям явным предзнаменованием чего-то незаурядного. Тем, кого насторожит кажущееся несовпадение дат, напомним, что, согласно современным представлениям, Христос родился не в нулевом году той эры, которую христиане называют его именем и отсчитывают со дня его рождения. В результате нескольких ошибок в календарных расчетах средневековых христианских богословов нулевой момент нынешнего календаря несколько сместился. Действительная дата рождения Христа приходится на 4-й или даже на 5-й год «до рождества Христова», так что в этом отношении гипотеза Киджера вполне совпадает с историей. Труднее представить себе, чтобы древние волхвы не бросились в Вифлеем уже по первому зову — совмещению планет — и ждали бы целый год, а то и два до появления новой звезды на небосводе. И вот не так давно в «Ежеквартальнике Королевского астрономического общества» (вот оно, это общество!) — в 36-м его томе, на 109-й странице — появляется вдруг статья американского астронома Майкла Мольнара, в которой утверждается, что хотя гипотеза Киджера абсолютно неверна, поскольку никакая новая звезда в то время на небосводе не появлялась, но Вифлеемская звезда все-таки существовала, причем именно в нужное время и в нужном месте. Только она была не совсем звезда, не совсем тогда, а главное — не совсем видима. Точнее — совсем невидима. Тем не менее нечто незаурядное — по крайней мере, с точки зрения тогдашних астрологов (они же — тогдашние астрономы), — несомненно, происходило. И вот это «невидимое» вполне могло породить рассказ о пресловутой «звезде». В таком описании гипотеза Мольнара выглядит, как попытка одной загадкой объяснить другую. На самом деле, однако, никакой новой загадки тут нет. Мольнар попросту произвел расчет движения видимых небесных тел с 10-го по 1-й годы до новой эры и показал, что во второй половине этого промежутка, а именно в марте — апреле 6 года, произошли два астрономических события, которые не могли не взволновать тогдашних астрологов, в просторечии — «волхвов» (то есть мудрецов). Этими событиями были два подряд затмения Юпитера Луной, причем оба раза в одном и том же месте — в юго-западной части неба, в созвездии Овна. Чтобы понять, почему это могло взволновать астрологов-волхвов, нужно иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, астрология, зародившаяся в Древней Вавилонии и распространившаяся оттуда по всей эллинистической, а позднее — Римской империи, была к тому времени весьма развитой областью знания, и тогдашние астрологи умели рассчитывать движения планет с точностью, которая поражает современных астрономов. Во-вторых, их расчеты всегда имели прикладное значение: они лежали в основе предсказаний, к которым и рядовые люди, и венценосные особы вроде римских императоров относились с глубоким уважением и полным доверием. Поскольку планеты, звезды и созвездия связывались с судьбами отдельных людей и даже целых стран, любые незаурядные астрономические события вроде затмений тотчас объявлялись предзнаменованиями или отражениями незаурядных, житейских и политических событий. Подтверждение последнего тезиса приносят не только сочинения древних авторов, но такие неожиданные, казалось бы, источники, как монеты. Римляне традиционно чеканили на монетах некие символы, отражающие те или иные важные события, и эти символы, как правило, были астрологическими. Например, во времена императора Нерона была выпущена монета с изображением барана (знак созвездия Овна), оглядывающегося на полумесяц и звезду. Это должно было напоминать о затмении Луной Венеры, произошедшем 25 апреля 51 года. Римский историк Светоний сохранил для нас предсказание тогдашних астрологов, которые связали это затмение с судьбой Нерона: они предсказали, что он будет свергнут в Риме, но воцарится вновь в Иерусалиме, потому что созвездие Овна считалось тогда астрологическим символом Иудеи (об этом говорится в сочинении александрийского астролога Клавдия Птолемея «Тетрабиблос» («Четверокнижие»): «Если что-нибудь важное должно произойти в Иудее, то знак этому должен появиться в созвездии Овна»). Мольнар, давний любитель древних монет, хорошо знал всю эту символику, и когда, рассматривая монеты 7 года новой эры, найденные в Антиохии (столице римской провинции Сирия), увидел на каждой из них изображение бога Юпитера, а на оборотной стороне — изображение овна, взирающего на звезду, то сразу же понял, что эти монеты должны были быть отчеканены в честь какого-то астрономического и политического события, связанного с Иудеей. Поскольку Юпитер считался у римлян символом императорской власти, событие, видимо, было связано с каким-то очередным достижением императорской политики. Перелистав исторические труды, он нашел, что в 6 году новой эры римляне сместили Иродова сына и наследника Архелая и присоединили Иудею к провинции Сирия. Монеты же, найденные в сирийской столице, датировались следующим годом, и, исследуя движение планет за этот год, Мольнар обнаружил, что в 7 году новой эры Юпитер сначала виднелся вблизи Меркурия, а затем почти рядом с Луной. Видимо, эти сближения и были сочтены небесными знамениями, свидетельствующими о том, что боги одобряют действия римлян в отношении Иудеи. В честь такого совпадения явно стоило отчеканить специальные монеты. Что же касается собственно «Вифлеемской звезды», то догадка о природе этого явления родилась у Мольнара из случайной находки. Он купил старинную римскую монету, относящуюся к 6-му году до н. э., на которой опять увидел изображение барана («овна»), глядящего, обернувшись через плечо, на звезду. Поскольку знак Овна в зодиаке покрывает период с 21 марта по 20 апреля и поскольку вблизи Луны в 6-м году до н. э. находился Юпитер, Мольнар, будучи астрономом, подумал, что стоило посмотреть, что было с Юпитером и Луной в марте — апреле того года. А посмотрев (т. е. рассчитав движение этих светил вспять), обнаружил, что как раз в те дни, 20 марта и повторно 17 апреля 6-го года до н. э. Юпитер претерпел — редкое совпадение! — два лунных затмения подряд — и притом именно тогда, когда был «на востоке», то есть в восточной части неба. Теперь мы уже можем понять ход дальнейших рассуждений американского астронома. Юпитер, как мы уже видели на примере Нерона, был, по представлениям астрологов, связан с судьбами императоров; не случайно римский астролог Фигулус, увидев знак Юпитера в гороскопе будущего императора Августа, предсказал сенату: «Ныне родился вождь мира». В Иудее же издревле существовало другое пророчество, процитированное апостолом Матфеем как раз в приведенном вначале отрывке о Вифлеемской звезде: «Ибо написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля». Всякий грамотный астролог, увидев такое совпадение, должен был немедленно понять, что у евреев родился (или должен вот-вот родиться) кто-то, кто затмит императоров и царей. Астрологов же в древнем мире хватало. И вера в астрологию была распространена невероятно. Как и сегодня, кстати. Но в наши дни эту веру труднее понять. Ведь людям сегодня прекрасно известно, что планет куда больше, чем думали создатели астрологических расчетов (уже после них были открыты Уран, Нептун и Плутон), так что уже хотя бы поэтому такие расчеты выглядят весьма сомнительно. Впрочем, кому хочется верить, тем ничто не помеха. А во времена, о которых идет речь, были — известны пять планет (не считая Земли), которые вместе с Солнцем и Луной образовывали «семь небес» и своим положением относительно «неподвижных» звезд давали астрологам указания на предстоящие события. Порой даже весьма детальные указания, как, например, то, которое приводит великий астроном древности Птолемей: «Если Венера совместится с Марсом и Юпитер будет виден в то же время, а Марс появится в лучах Солнца, то женщины начнут совокупляться со слугами и вообще всяким низкородным сбродом и даже с чужестранцами и бродягами». Так что уж на рождение «иудейского царя» астрологические книги наверняка могли указать. И потому «Волхвы», т. е. тогдашние мудрецы-астрологи, полагает Мольнар, могли истолковать эти незаурядные астрономические события в свойственном им духе. Вычислив предстоящее затмение Юпитера в созвездии Овна, они могли прийти к выводу, что и оно знаменует собой «рождение Вождя», только среди евреев, — того самого «вождя-спасителя», предсказанного еврейскими пророками. Взволнованные столь выдающимся событием, они явились ко двору Ирода, чтобы выяснить, где именно, по еврейскому пророчеству, оно должно произойти. Узнав, что в Вифлееме, они должны были еще больше взволноваться: ведь Вифлеем находится к юго-западу от Иерусалима, то есть как раз в той стороне, где происходили оба юпитерианских затмения. Судя по тому, что второе из этих затмений произошло, согласно Евангелию, как раз в тот момент, когда волхвы от Ирода направились в Вифлеем, их визит в царский дворец имел место именно 17 апреля 6 года до новой эры: говорит же Матфей, что «звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними». На самом деле, утверждает Мольнар, эта «звезда», то есть Юпитер, как раз и не была видна, но волхвы шли так уверенно, будто она их и в самом деле «вела», — ведь они ее «вычислили». А Матфей, не знавший тайн астрологии, конечно, не мог и помыслить, что волхвы шли согласно своим расчетам, и в простоте душевной записал, что их вела чудесная Вифлеемская звезда. Из гипотезы Мольнара вытекает чрезвычайно важное следствие: если Иисус действительно существовал, то родиться он должен был не в 1 году новой эры, названной его именем, а в день затмения Юпитера, то есть 17 апреля 6 года ДО новой эры (дату 20 марта Мольнар отверг, т. к. она чуть-чуть выходила за границы периода созвездия Овна). И этот свой вывод Мольнар подтверждает еще одним дополнительным совпадением: Ирод умер в 4 году до новой эры и незадолго до смерти приказал перебить «всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от ДВУХ лет и ниже, по времени, которое он выведал у волхвов». Почему «от двух лет», а не старше? Потому что «по времени, которое он выведал у волхвов» (то есть по времени вычисленного ими первого затмения Юпитера), Иисусу в 4-м году до новой эры как раз и должно было быть чуть меньше двух лет — но лишь в том случае, если он родился в 6-м году до н. э. Как говорилось выше, историки давно подозревали, что Иисус, если он существовал, родился раньше исчисленной Церковью даты, и вот сейчас Мольнар нашел дополнительное и независимое подтверждение правоты их сомнений. Все это, разумеется, не доказывает реальности существования Иисуса. Ведь, в сущности, Мольнар всего лишь показал, что в 6 году до новой эры произошли два астрономических события, которые МОГЛИ дать составителям Евангелий повод для создания рассказа о Вифлеемской звезде (которую на самом деле никто не видел, потому что попросту не мог увидеть). Но никаких доказательств связи этих астрономических событий с рождением «реального» Христа Мольнар привести не может. Более того, из его же рассуждений следует, что дело скорее всего обстояло с точностью до наоборот: сначала произошли указанные астрономические события а уже затем эти события в общем духе тогдашней астрологической символики и веры в фантастические «пророчества» были привязаны к рассказу о «рождении Спасителя». Так что достоверность этого главного евангелического рассказа по-прежнему остается под сомнением. Но Мольнар и не ставил своей задачей анализ достоверности евангелий. Он попросту хотел предложить вниманию ученых новую гипотезу, объясняющую миф о Вифлеемской звезде. И с этой задачей, следует признать, он справился весьма успешно. На этом, однако, эта занимательная история не закончилась. Гипотеза Мольнара подверглась критике. Сэр Патрик Мур указал, что затмение Луной Юпитера 17 апреля 6-го года до н. э. происходило средь бела дня и не могло быть увидено никем, даже волхвами. А специалисты по истории астрологии усомнились в том, что «волхвы» могли истолковать невидимое затмение как указание на «рождение царя». Мольнар, разумеется, не сдался, стал искать, как бы опровергнуть возражения критиков, и вот недавно объявил, что ему удалось наконец «решающее» подтверждение выдвинутой им гипотезы. По его словам, это подтверждение содержится в книге астролога Матернуса, написанной в 334 году н. э. По словам Мольнара, ему удалось разыскать творение Матернуса «Матесис», в котором черным по белому описано астрологическое явление, включающее затмение Юпитера Луной, и сказано, что это предвещает рождение великого царя. Правда, царь этот не назван по имени, хотя автор — христианин и книга написана спустя три столетия после рождения Иисуса, но, как говорит Мольнар, «в те времена все читатели книги прекрасно понимали, что это замечание относится именно к Иисусу, а указанное астрологическое событие — это знаменитая Вифлеемская звезда». Матернус, по мнению Мольнара, просто не хотел вовлекать христиан в астрологические дебаты, которые только смутили бы их умы и отвлекли от мыслей о самом Иисусе. И вполне возможно, что Мольнар в этом прав. Во всяком случае, одного человека ему уже удалось убедить — Овен (!) Гингрич, историк астрономии из Гарвардского университета, заявил, что гипотеза Мольнара кажется теперь «очень серьезной». Но вот переменил ли свое мнение сэр Патрик Мур, нам пока неизвестно. >ГЛАВА 10 ЕЩЕ ОДНА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ История, которую я намереваюсь рассказать, тоже связана с Евангелиями, но произошла сравнительно давно, в декабре 1993 года, в Иерусалиме. В научных кругах она тогда произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Сегодня, во времена поголовного увлечения «Кодом да Винчи», она звучит особенно актуально, показывая, что Ничего нового Браун не написал, он лишь добросовестно переписал то, что давно было известно, только слегка разбавил это детективной интригой — надо сказать, весьма примитивной. Итак, некий археолог по имени Леон Декур несколько месяцев вел бесплодные раскопки в одном из старинных уголков древней еврейской столицы. В тот декабрьский вечер 1993 года стояла обычная для израильской зимы пасмурная и пронизывающе холодная погода, и Декур отправил рабочих домой пораньше. Сам же он решил еще немного поковыряться в раскопе. Рассеянно разгребая груду земли в углу глубокой ямы, он вдруг заметил, что в пыли блеснуло что-то металлическое. Руки его заработали энергичнее и осмысленнее, бережно расчищая находку, и вот он уже увидел ее целиком. Можно представить себе его восторг: его глазам открылась старинная медная чаша с остатками какого-то темного вещества. В тусклом вечернем свете Декур не мог разобрать, что это за вещество и к какому времени относится чаша. Какое-то время он задумчиво смотрел на нее, и вдруг его пронзила ослепительная догадка. Нет, он не воскликнул, как когда-то Архимед: «Эврика!» Но он воскликнул нечто, не менее знаменитое: «Грааль!» И в этом месте я вынужден остановиться. Даже в наши времена поголовного увлечения романами Брауна далеко не все знают, что такое Грааль, и потому не все могут в полной мере оценить восклицание Декура. Слово «Грааль», или «святой Грааль», произошло от латинского «gradalis», которое, в свою очередь, восходит к древнегреческому «кратер» — сосуд для смешивания вина с водой. Но в старофранцузском сочетание «Святой Грааль» — «Сангреаль» — имеет еще и иной смысл: «истинная кровь». А древнеирландское cryo, из которого тоже выводят слово «Грааль», означает «корзину изобилия». Итак, «Грааль» — это сосуд для вина и одновременно — чаша со святой кровью, да еще и корзина изобилия. Почему у этого слова так много смыслов? А потому, что это непростое слово. Оно связано со старинной христианской легендой, даже с несколькими сразу. Согласно рассказам о жизни и смерти Иисуса Христа, составляющим содержание т. н. Евангелий (по-гречески — «Благая весть»), свой последний вечер перед арестом, судом и казнью Иисус провел в Гефсиманском саду, где вместе с учениками (апостолами) отмечал великий еврейский праздник Песах (христианской Пасхи тогда еще не было, поскольку Иисус был еще жив и до появления христианства было еще далеко). Евангелия утверждают, что, подняв чашу с пасхальным вином и кусочек мацы, Иисус произнес, указывая на вино: «Се кровь моя», а затем, указывая на мацу: «А се плоть моя». Закончив вечерю, он вышел в сад, где его вскоре и схватили римские легионеры. Выданный Пилатом Синедриону, Иисус был признан смутьяном и бунтовщиком и осужден на смертную казнь. В духе римских обычаев он был распят на кресте. Далее легенда утверждает, будто некто Иосиф Аримафейский снял его тело с этого креста и бережно собрал кровь Иисуса в ту самую чашу, из которой Иисус пил вино на своей «тайной вечере». Таким образом, пророчество Иисуса исполнилось: в чаше оказалась Христова кровь. А дальше, если верить легенде, было вот что. С этой святой кровью Иосиф Аримафейский отправился проповедовать христианство европейским варварам. Так чаша оказалась в Европе. Вскоре, повествует легенда, она обнаружила свои чудодейственные свойства. Чудеса сыпались из нее как из рога изобилия: слепые, прикоснувшись к чаше, становились зрячими, увечные — здоровыми, бесплодные женщины — беременными. Вся эта история и чудесные свойства чаши привели к тому, что она получила собственное имя — «Сангреаль», или попросту «Грааль» (говорят еще — чаша святого Грааля). Позже Грааль затерялся или был спрятан — в каком-то из монастырей, и это положило начало длительным поискам чаши, каковыми рыцари занимались все средние века — в свободное от крестовых походов время. История этих поисков легла в основу знаменитых средневековых романов — «Персиваль» Кретьена де Труа и «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, главным героем которых является один из рыцарей «Круглого стола» короля Артура по, имени Парсиваль (франц. Персиваль, нем. Парциваль или Парсифаль); в XIX веке еще один небезызвестный человек, по имени Рихард Вагаер, написал по мотивам этих романов оперы «Лоэнгрин» и «Парсифаль» (о сыне Парсифаля). Теперь, надеюсь, вы уже понимаете, что побудило Леона Декура издать свой восторженный возглас. Еще бы — ведь он нашел древнюю винную чашу именно в том городе, где происходила «тайная вечеря», и вдобавок неподалеку от того самого Гефсиманского сада, где она происходила! А кроме того, ко дну чаши прилипло темное вещество, которое весьма походило на засохшую человеческую кровь. Как было не предположить, что это именно та самая чаша святого Грааля, с которой связано столько легенд и столько веков бесплодных поисков?! А если это действительно так, то громадные последствия столь сенсационного открытия сразу становятся очевидны — ведь в результате в руках историков впервые в истории могло оказаться прямое доказательство реального существования Иисуса Христа! (Вопрос о том, каким образом чаша вернулась из Европы в Иерусалим, Декура почему-то не заинтересовал.) Какой-нибудь другой археолог, возможно, воздержался бы от столь скоропалительного вывода. Он бы поначалу исследовал находку, определил ее возраст и лишь потом вынес суждение. Но дело в том, что Декур давно, напряженно и страстно желал найти следы существования Иисуса. За 15 лет до этого он уже потряс однажды весь научный и околонаучный мир сообщением, будто ему удалось найти пергамент с «оригиналом» знаменитой «Нагорной проповеди» Христа — той самой, что начинается словами «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Декур действительно нашел тогда какую-то древнюю рукопись, свет в тот раз тоже был вечерний и тусклый, рукопись была в плохом состоянии, исследователь был необыкновенно возбужден находкой — ничего удивительного, что ему почудилось, будто он нашел именно то, что искал. Но в тот раз предположение Декура быстро опровергли: пергамент оказался намного моложе Иисусовых времен. И вот теперь, через 15 лет, в руках Декура оказалась загадочная чаша — как было не подумать первым делом о святом Граале? В кругах археологов Декур вообще-то считался хорошим ученым: его послужной список содержал всего лишь один случай излишней поспешности — тот самый, с «Нагорной проповедью». Поэтому его сообщение о небывалой находке было опубликовано в серьезном научном журнале. Разумеется, археологический мир отнесся к этой новой сенсации с должной осторожностью, но зато мир околонаучный был необычайно взволнован публикацией. Слухи о необычайной находке в Иерусалиме передавались из уст в уста. А вскоре последовала еще одна сенсация: анализ вещества, налипшего на дне найденной Декуром чаши, подтвердил, что это действительно остатки человеческой крови, к тому же самой универсальной группы, «ноль плюс», пригодной для переливания всем без исключения людям. Что дало Декуру повод в очередной раз воскликнуть: «А чего иного вы ожидали от крови Иисуса?!» Увы, больше о загадочной чаше мир ничего не услышал. То ли ее придирчивое изучение показало, что она тоже «не того времени», то ли обнаружилось еще что-то неприятное, но разговоры о ней прекратились. Ясно, что Декур опять поторопился со своей сенсационной гипотезой. Верно учит нас знаменитое правило, именуемое «бритвой Оккама», — не следует громоздить гипотезы без надлежащей надобности. Вся сенсация Декура была основана на том, что в какой-то старинной чаше были найдены остатки чьей-то крови. Стоит ли выдвигать для объяснения этой находки столь монументальные гипотезы, если те же факты могут быть объяснены куда более просто и прозаически? Мало ли чья это может быть чаша, мало ли чья кровь… Разумеется, верующие и склонные к мистике люди такими прозаическими объяснениями не удовлетворятся. И действительно — известие о находке «чаши святого Грааля» возбудило эти круги самым неимоверным образом. Некоторые из самых возбужденных — видимо, под впечатлением нашумевшей картины «Юрский парк», где рассказывается о «воскрешении» динозавров по остаткам их хромосом, — тут же предложили применить ту же (на самом деле — еще не существующую) «методику» для воскрешения… Иисуса Христа. Они призвали ученых выделить из остатков крови, найденной в декуровской чаше, «хромосомы Иисуса» и из них «вырастить», а затем «оживить» его тело. К чести самого Леона Декура, надо сказать, что даже на пике славы он категорически отверг всякую возможность, да и желательность искусственного воссоздания основоположника христианства. Тем не менее и он тоже какое-то время (пока сенсация не умерла) уговаривал биологов попытаться выделить из остатков найденной в чаше крови хромосомы ее древнего хозяина. Декура, как он заявил тогда, больше всего интересовало, будут ли эти хромосомы похожи на человеческие. Лично он был убежден, что они окажутся принципиально иными. А какими же? — наверняка удивитесь вы. Ясно, какими, отвечает Декур. Божественными. Иисус ведь, согласно Евангелиям, был «Сыном Божьим»! И родился он, как утверждают Евангелия, от «непорочного зачатия» Девы Марии. Как же должен современный человек понимать легенду о таком зачатии?. — спрашивал Декур. И сам себе отвечал: ее следует понимать как рассказ об искусственном оплодотворении девушки Мириам с помощью «Божественного сперматозоида». «Не может же, в самом деле, разумный человек поверить в россказни древних греков, будто боги совокуплялись с людьми в виде быков или лебедей», — убежденно заявлял Декур. Действительно, не может. Но и в «Божественный сперматозоид», доставленный в Мириамнино лоно в клювике усердного голубка, — тоже не может. На то он и современный человек, худо-бедно разбирающийся в технике искусственного оплодотворения. Почему же Леон Декур — тоже вполне современный человек — так энергично настаивал на проверке древней легенды? Наверно, хотел в модном сегодня духе сочетать науку с верой, — как Леду с лебедем. Но, как видите, не получилось. История, как видите, действительно интересна — уже хотя бы тем, что напомнила нам о знаменитой чаше Грааля. Ведь легенды, связанные с этой чашей, далеко не исчерпываются тем, что я вам по необходимости коротко здесь рассказал. С той же чашей связана, например, и еще одна сенсационная гипотеза: будто она на самом деле представляет собой не что иное, как исчезнувший Ковчег Завета! История Ковчега тоже окружена многочисленными легендами, на сей раз — еврейскими, и вот несколько лет назад английский журналист Грэм Хэнкок опубликовал толстую книгу под названием «Знак и печать», в которой заявил, что Ковчег и Грааль — это одно и то же, и вдобавок — что ему в результате многолетних поисков удалось наконец найти этот знаменитый Ковчег, но уже не в Иерусалиме, а… в Эфиопии. Поэтому я лучше продолжу еще одним очерком на библейскую тему. >ГЛАВА 11 БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ БИБЛЕЙСКИХ СЕНСАЦИЙ Перефразируя известный афоризм, можно сказать, что патриотизм — это не только прибежище негодяев, это еще и прибежище фальсификаторов. Желание подтвердить героический характер своей древней истории обуревает многих патриотов и зачастую толкает их к бессознательной и даже весьма сознательной фальсификации или к жадному потреблению такой фальсификации, сочиненной другими. Спрос, как известно, порождает предложение, и вот уже некто Петухов (фамилия и библиография хранятся в Интернете) сочиняет новую историю государства российского, начиная с появления славного народа россов, каковое состоялось 40 тысяч лет тому назад. Нет, вы не ослышались — 40 тысяч. И вот уже некто Фоменко сотоварищи (см. тот же Интернет) извещает «урби ет орби», что вся древняя, средневековая и новая история человечества, есть не что иное, как история великой империи россов, простиравшейся на всю индоевропейскую ойкумену. И вот уже некто Бушков… впрочем, несть числа этим лжеутешителям патриотических вожделений, этим отечественным баснописцам, этим лукавым и небескорыстным сказителям-исказителям, и многотомные подвиги их на ниве занимательного фальсификаторства еще долго будут развлекать наших детей и недорослей. Нельзя, однако, не признать, что все эти попытки создать узко отечественную присыпку от патриотического зуда, как правило, грубы и топорны. То ли дело — фальсификация библейско-евангельская, ставящая своей целью подтвердить реальное существование царя Соломона или Иисуса Христа! Такие сенсации не ограничиваются пределами отечества, для них воистину несть ни эллина, ни иудея, и захватывающе интересны они не для сотен тысяч или даже миллионов, а для сотен миллионов людей. Да что там «интересны»! С чудной, волнующей силой играют они на струнах глубочайших верований этих сотен миллионов. А за веру люди, как известно, шли и на костер. А посему человек, избравший профессией подделку такого рода древностей, в буквальном смысле играет с огнем. И бывает, что огонь его и лизнет. Как в случае, который побудил нас к написанию сего очерка. Мы имеем в виду суд над Одедом Голаном. Фальсификаторов всегда было достаточно — хотя бы потому, что всегда доставало недалеких патриотов всякого толка, готовых ухватиться за любую желанную подделку. Каждая эпоха знала своих знаменитых фальсификаторов, об их бесславных деяниях написаны увлекательные тома, и вполне может оказаться, что Одед Голан будет когда-нибудь причислен к их списку. Надо думать, израильская полиция, предъявившая ему не так давно свои обвинения, и израильское Управление древностей, давно точившее на Голана клык, именно такого мнения. Обвинительное заключение перечисляет несколько выдающихся подделок, которые Голан выбросил за последние годы на мировой рынок. Все они вызывали международную сенсацию, заставляя сердца вышеупомянутых сотен миллионов людей учащенно забиться в радостном предвкушении, а руки сотен специалистов — тотчас схватиться за перья. Да и как не схватиться? Ведь вот уже много лет историки и археологи сетуют, что у них нет или почти нет никаких документальных или археологических свидетельств существования сильного Иудейского царства с Соломоновым храмом в Иерусалиме, с развитой культурой и письменностью. И вдруг — пожалуйста: Одед Голан предлагает Израильскому музею обломок древней каменной плитки с вырезанной на ней надписью, в которой сообщается о перестройке иудейским царем Иоашем Соломонова храма в 812 году до н. э. И эта надпись разом снимает несколько дамокловых вопросительных знаков, томительно нависших над библейской историей: напрямую подтверждает существование первого храма; косвенно подтверждает историческую верность библейских списков иудейских царей и других спорных деталей библейских рассказов и попутно демонстрирует явное существование в Иудее ивритской письменности и письменных исторических источников уже в то древнее время, а также убеждает историков-специалистов во многом другом, в чем они сомневались, но не знали, у кого спросить. О таких подарках судьбы говорят, что если бы их не было, их надо было бы придумать. Подумать только — одним (несколькими) ударом (ударами) резца по камню решен многовековой спор об исторической достоверности библейского рассказа! Посрамлены скептики. Укреплены в вере патриоты. Обогащена наука. Так и хочется добавить: «Поднято ярости масс — 3». Тем более что поначалу несколько специалистов высказались в том смысле, что находка заслуживает самого серьезного отношения. В смысле — не фальсификация. Как минимум 50 % шансов, что нет. Лишь потом, задним числом, выяснилось, что правильные 50 % относятся к камню — вот он действительно был древний. А надпись, как вся контрабанда в Одессе, была изготовлена если не на Большой Арнаутской, то где-нибудь в таком же месте в сегодняшнем Иерусалиме. Не будем описывать детали этого разоблачения — надо думать, вскоре появятся книги, посвященные этой поистине детективной истории. В них будут и детали второго «подарка судьбы», изготовленного, Голаном. На этот раз его адресатом стали не евреи, а христиане. Хитроумно проведя за нос Управление древностей и высмеяв при этом тупую бюрократическую неповоротливость его правил (то-то оно наточило на него клык), Голан сумел переправить на Запад — причем на специальную выставку — некий древний ларец для хранения костей с очередной сенсационной надписью, извещавшей, что ларец этот был в свое время (а по времени он — первого века н. э.) предназначен для хранения костей «Якова, брата Иисуса». Сами понимаете. Некоторые западные христианские специалисты так ухватились за этот ларец (по-научному он называется оссуарий), что не хотят признать его фальшивость даже теперь, когда она доказана вне всяких сомнений. Оно и понятно: трудно расставаться — мелькнула высокая надежда и исчезла, как Жар-птица. Хотя, если вдуматься, разве вера требует «научных» доказательств? Это не оксюморон? Сказал же Тертуллиан: «Верую, потому что абсурдно». Вот это понятно. Настоящая вера не требует даже чудес. А если требует, то вот вам, пожалуйста, адрес — «Одед Голан и компания, Ltd, изготовление и продажа желанных подтверждений религиозных и исторических преданий». Ltd означает «ограниченная ответственность», но в данном случае это звучит насмешливо. Судя по всему, ответственность Голана не ограниченная, а полная. В конце минувшего года его группе (в которую входит еще пара израильских торговцев древностями и один палестинец) предъявлено в Иерусалимском окружном суде формальное обвинение в том, что эти несколько людей, вступив в преступный сговор, на протяжении двух десятилетий производили и успешно распространяли по всему миру сфальсифицированные артефакты (так называют в археологии материальные предметы, изготовленные в прошлом), заработав на этом миллионы долларов. За эти годы Голан (по его собственным словам) стал самым крупным в мире коллекционером израильско-иорданских древностей, а его коллеги — самыми крупными торговцами этими древностями. Разумеется, сами обвиняемые свою вину отрицают, их друзья, естественно, в нее не верят, наши патриоты, понятно, негодуют, а нам остается сказать, что в эти самые дни выяснилось (совпало!), что и знаменитый гранат из слоновой кости, гордость Израильского музея, крохотная древняя вещица, которая 16 лет. считалась единственным (до появления «надписи Иоаша») бесспорным подтверждением реальности Соломонова храма, — этот гранат тоже, увы, является подделкой. Конечно, это уже другая история, и к Голану она отношения не имеет. Но она имеет прямое отношение к тому, как бесславно рушатся одна за другой библейские сенсации. >ГЛАВА 12 РОНГО-РОНГО И ВСПЯТЬ К ШУМЕРАМ Существует множество фундаментальнейших для жизни вещей, о происхождении которых мы ничего или почти ничего не знаем. К ним относится лук, весло, лодка, таран (о котором некоторые историки думают, что это и был Троянский конь). К ним относится и письменность. Вот сию секунду, подняв руку, я нанес на экран компьютера, с помощью его внутренних механизмов, некие значки. Спустя несколько дней или недель эти значки, преобразованные с помощью типографских механизмов в несколько иные значки будут перенесены на газетный лист. В конце концов эта газета ляжет на ваш стол. Вы раскроете ее и поймете, что я хотел вам сказать. Разве это не чудо? Кто ж его придумал? Если не имя человека, то по крайней мере имя народа, первым придумавшего письменность, можно назвать? Расскажем по этому поводу занятную историю, которая имеет прямое отношение к загадке возникновения письменности. Пару лет назад высокоуважаемый журнал «Nature» впервые за много-много лет вдруг отвел пару-другую страниц обзору двух в высшей степени экзотических научных изданий — «Журнала Полинезийского общества» и «Рапа-Нуи журнала». Причиной столь неожиданного внимания была публикация в этих изданиях двух статей молодого новозеландского лингвиста Стивена Фишера, посвященных одной из самых запутанных загадок знаменитого острова Пасха — загадке так называемого ронго-ронго. Ронго-ронго — это деревянные таблички, на которых нанесены довольно примитивные картинки, изображающие преимущественно птиц, рыболовные крючки, человечков с хвостами и без, деревья, палки и прочее в том же роде. Вообще-то такими рисунками впору заниматься детишкам, но в данном случае перед нами явно недетское усилие. Картинки расположены в определенном линейном порядке, каждая линия образует строку, каждая табличка содержит несколько таких строчек, и каждый символ повторяется в ней множество раз. Так и хочется сказать, что перед нами очевидная попытка выразить, сообщить или передать некую информацию, иными словами — попытка письма. Что-то вроде письма в рисунках. Об острове Пасха написано много. Тур Хейердал (тот, что с «Кон-Тики»), да и не он один, посвятил ему и его знаменитым статуям (еще одна островная загадка) специальную книгу. Этот затерявшийся в Тихом океане остров был открыт европейцами в 1722 году. Однако долгие десятилетия подряд ни один из европейцев, побывавших на острове, ни звуком не обмолвился о существовании там табличек ронго-ронго. И вдруг в 1864 году некий миссионер сообщил, что видел такие таблички, причем не одну-две, а буквально в каждой хижине. Вскоре это стало подтверждаться другими сообщениями, и кое-кто из наблюдателей утверждал даже, что эти деревянные таблички хранятся в особых хижинах как нечто сакральное и охраняются запретами — табу. У исследователей, занявшихся изучением ронго-ронго, сложилось впечатление, что это довольно позднее явление, вызванное к жизни скорее всего первыми письменными объявлениями испанских властей острова о его аннексии Испанией. Эти испанские листовки были. вручены вождям и жрецам местных племен, чтобы те «расписались в извещении». Вожди и жрецы «расписались» оттисками пальцев. Дело было примерно в 1770 году, но семена были посеяны, желание обрести такую же, как у белых пришельцев, способность выразить свои мысли значками, видимо, запало в души островитян, и не прошло и ста лет, как это желание воплотилось в загадочные деревянные таблички с их примитивными письменами-рисунками. С тех пор прошло сто с лишним лет, и из всего множества таких табличек во всем мире сохранилось лишь 25, рассеянных по разным национальным музеям. На этих 25 табличках имеется в общей сложности 14 тысяч рисунков. После того как в 1862 году правительство Перу вывезло с острова последних вождей и жрецов, не осталось ни одного островитянина, который умел бы читать ронго-ронго. Усилия немецкого лингвиста Томаса Бартеля, занявшегося уже в середине нашего века расшифровкой загадочной письменности, привели лишь к подтверждению того, что это действительно письменность, скорее всего — рудиментарная, зачаточная письменность, значки-картинки которой изображают как конкретные объекты (птиц, людей и т. д.), так и некие идеи, но не алфавитные знаки, звуки или слоги. Прочесть написанное ни Бартелю, ни другим исследователям не удалось. И вот теперь, через полвека после Бартеля, Стивен Фишер, пройдя путем Шамполиона, добился желанного успеха. Таким образом, письменность ронго-ронго, возможно самая молодая, самая недавняя из созданных человечеством письменностей, наконец-то расшифрована. Таблички острова Пасха прочитаны, как тот роман, о котором говорил классик. И что же они содержали? Об этом чуть позже. Давайте сначала вдумаемся, какой вывод для истории письменности как таковой можно извлечь из истории письменности ронго-ронго. Прежде всего можно думать, что возникновение этой письменности должно в определенной степени повторять процесс возникновения всякой другой, более древней письменности, а может быть, и всякой письменности вообще. Несомненно, письменность рождалась из потребности сберечь некую важную информацию (вспомним, что таблички ронго-ронго держали в специальных хранилищах («библиотеках»)? — были они защищены сакральным табу). Но уже изначально у них была и вторая, не менее важная функция — передать информацию другим людям. Об этом выразительно свидетельствует древняя шумерская легенда, найденная среди памятников шумерской письменности и рассказывающая о том, как эта письменность была создана («изобретена», если угодно). Легенда говорит, что однажды к царю Урука прибыл гонец, настолько измученный дальним путешествием, что был уже неспособен даже говорить. Царю же было необходимо послать его снова в путь. Как сделать, чтобы он мог передать нужную информацию? Хитроумный царь, говорит легенда, взял глиняную табличку и начертал на ней слова послания, так что отныне гонцу не нужно было их произносить. Очаровательная легенда, в наивности своей даже не задумывающаяся над тем, как же получатели этого первого в истории письменного послания прочтут неизвестные им знаки, выцарапанные царем Урука в глине таблички. Ведь письменность, как и речь, процесс двусторонний: и отправитель, и получатель должны предварительно «сговориться» об общем значении применяемых символов (знать, понимать или выучить это значение). Главное, однако, даже не в этом. Легенда не рассказывает о том, как именно царь придумал свои знаки. И тут история ронго-ронго, кажется, может нам помочь. Из нее явно следует, что придуманные островитянами знаки были изображениями, или, как говорят, пиктограммами (от «пиктос» — рисовать). Это рисуночное письмо не воспроизводило звуки какого-либо реального языка, известного только его носителям, а имело общий характер: носители иного языка тоже могли, в принципе, понять эти рисунки (но только в принципе — как мы видели, понять написанное удалось только после почти столетних усилий). Если создание ронго-ронго повторяло историю создания письменности вообще (как развитие эмбриона повторяет историю развития вида), то, может быть, и всякая письменность начиналась с пиктограмм? Давно известно, что люди рисовали с незапамятных времен, — в пещерах Франции и Испании найдены замечательные реалистические изображения бизонов, мамонтов и людей в процессе охоты. Не могло ли быть так, что эти рисунки, постепенно упрощаясь, стали основой каких-то значков, постепенно все более абстрактных и в конце концов сложившихся в письменность? Это действительно одна из гипотез, выдвинутых исследователями, изучающими становление письма. И ее разделяют многие из них, но не все. Другие исследователи указывают, что среди древнейших письменностей — Месопотамии, Египта, Китая, Индии и некоторых других регионов — очень мало образцов рисуночного письма. Даже китайские и египетские иероглифы не очень походят на изображения реальных объектов, хотя некоторые из них такие объекты напоминают. Что же, например, до шумерской клинописи или критского «линейного письма», то угадать в их значках рисунки людей или животных никак не удается. Поэтому скептики выдвинули другую гипотезу. Первой ее предложила — почти 20 лет тому назад — американская лингвистка д-р Дениза Шмандт-Бессерат из Техасского университета. Сегодня ее предположение кажется многим более правдоподобным, чем «пиктографическая теория». На недавнем симпозиуме специалистов по истории письма, проходившем в Пенсильванском университете, представители обеих теорий яростно оспаривали аргументы друг друга и в конце концов согласились, что имеющегося материала еще недостаточно, чтобы решить, какая из этих теорий верна. Чтобы понять гипотезу Шмандт-Бессерат, лучше всего начать… с гомеровской «Илиады». Там есть огромная, как считают, более ранняя вставка, в которой перечисляются корабли, посланные различными греческими городами для участия в походе на Трою. Список этот так огромен, однообразен и скучен, что даже такой ценитель классики, как Мандельштам, признавался: «Я список кораблей прочел до середины…» Специалистам, однако, этот список дает благодатный материал для размышлений. Дело в том, что, расшифровав шумерскую письменность и критское «линейное письмо», — исследователи с немалым удивлением обнаружили, что значительная часть всех этих текстов тоже представляет собой «списки», «перечни», «каталоги» и тому подобное. Так, среди 150 тысяч критских текстов такие «списки» составляют около трех четвертей. Что же там перечисляется? В основном вещи, товары, утварь, драгоценности, мешки зерна и животные, доставленные в царскую казну для уплаты налогов, и тому подобные хозяйственные объекты. Перед нами — явная бюрократическая отчетность. И это не удивительно. Мощные (для своего времени) державы вроде критской, шумерской, микенской, древнеегипетской и других не могли бы существовать без налаженной (и обслуживаемой армией чиновников) экономики. Кто-то должен был кормить двор правителя, армию, жрецов, самих чиновников; правители покоряли другие страны и возвращались с рабами и материальной добычей — ее тоже нужно было скрупулезно подсчитать и отметить; другие цари присылали подарки, и эти дары тоже подлежали тщательной регистрации; в каждом таком реестре указывалось число и характер вещей, пленников, драгоценностей и всего прочего, а также отмечалось (для памяти) место их хранения и так далее. Эта огромная, неутомимая, каждодневная бюрократическая работа тенью сопровождала всю политическую и хозяйственную жизнь страны, ее царей и ее народа. Как же она велась в отсутствие письменности? Можно представить себе, говорит Шмандт-Бессерат, что поначалу для обозначения каждого вида предметов использовались камешки или черепки определенного вида: скажем, для мешков зерна — округлые камешки, для стрел и копий — продолговатые и т. п. Число камешков соответствовало числу предметов данного вида. Камешки хранили в специальных глиняных сосудах. Чтобы знать, что находится в каждом сосуде, на нем снаружи оттискивали один из вложенных в него камешков или черепков. Следы таких черепков, оттиснутые в глине, и были предшественниками первых письменных знаков. Действительно, сосуды с такими оттисками в превеликом множестве найдены в раскопках древних месопотамских городов — Ура, Урука и других. Дальнейшее развитие уже нетрудно представить: какой-то неведомый месопотамский гений сообразил, что оттиск можно делать просто палочкой («стилом») во влажной глине и даже просто на специальной глиняной табличке; другой придумал особые оттиски-значки для обозначения тех или иных мест хранения; третий догадался, что таким же способом можно обозначать не только предметы и места их хранения, но и некоторые простейшие, основные понятия, и так далее. Сначала все эти значки были достоянием одних лишь чиновников и понятны только им одним. Но им можно было обучиться и обучить других. И других учили. Тому есть замечательное доказательство. Среди прочих клинописных и «линейных» древних «реестров» были обнаружены такие, которые были специально предназначены для обучения будущих чиновников, для заучивания наизусть — ради обретения навыков записи и чтения новых «списков». Надо думать, что жрецы и придворная знать тоже постепенно приобщались к новинке. Впрочем, в тех же первых памятниках шумерской письменности есть указания на то, что цари и правители, как правило, писать и читать не умели — за них это делали специально обученные писцы и чтецы. Эти специалисты были совершенно необходимы при дворе: древние державы, как опять же обнаруживается в памятниках их письменности, вели огромную дипломатическую переписку. В одной только столице Хеттской империи 2-го тысячелетия до н. э. были обнаружены десятки писем хеттских царей к фараонам Египта, правителям стран Малой Азии, царям Ассирии и даже вождям древнегреческих городов. (Надо полагать, что все это не сами послания, а их копии, на всякий случай хранившиеся в царском архиве.) Итак, перед нами две гипотезы, по-разному объясняющие происхождение письменности: одна видит ее начало в рисунках, другая — в оттисках, с помощью которых регистрировались объекты в «реестрах» и «списках». В чем, однако, сошлись все специалисты на упомянутом выше симпозиуме, так это в убеждении, что первые варианты письменности не отражали какого-либо определенного языка — лишь на более позднем этапе некоторые из них перешли к обозначению значками звуков родной речи. Как сказал д-р Питер Дамеров, «каким бы ни был исходный импульс для создания письменности, с момента ее появления она быстро приобретает достаточную независимость и гибкость, чтобы адаптировать свои кодовые знаки для передачи специфических особенностей своего языка». Впрочем, «быстро» — это примерно полтысячи лет: именно такой срок отделяет первые клинописные значки на черепках из Урука от поздней клинописи, представляющей запись шумерской речи. Таким образом, шумерские клинописные знаки постепенно стали знаками шумерского языка, древнеегипетские иероглифы были приспособлены для передачи понятий древнеегипетской культуры, хеттские письмена — для транскрипции хеттской фонетики и так далее. Но где же начался этот процесс? Мы уже знаем, где и когда было изобретено последнее по счету письмо — на острове Пасха, в конце XVIII — начале XIX века. А где и когда возникла первая письменность? Вокруг этого вопроса тоже идут ожесточенные лингвистические споры. До недавних пор считалось, что самые древние значки-письмена появились в Шумере примерно за 3200–3300 лет до н. э. — не случайно известная книга об этой первой месопотамской цивилизации называется «История начинается в Шумере». Но на пенсильванском симпозиуме было сообщено, что новейшие методы радиоуглеродного датирования позволяют думать, что некоторые древнеегипетские иероглифы, обнаруженные на обломках костей и на глиняных сосудах, были нацарапаны за 3500 лет до н. э. Теперь и в этом вопросе будут существовать две теории — египетского и шумерского происхождения письменности. Все другие древние системы письма появились явно позже, но опять-таки «вскоре»: уже в начале 3-го тысячелетия до н. э. письменность становится весьма распространенной — она встречается, например, у эламитов Южного Ирана; затем она появляется в долине Инда (в нынешнем Пакистане) и в Западной Индии, в Сирии, на Крите («линейное письмо») и в Анатолии (империя хеттов). В конце 2-го тысячелетия до н. э. письменность появляется в Китае, а в начале 1-го — в Центральной Америке (государство майя). Эта последовательность заставляет некоторых исследователей думать, что письменность не столько изобреталась в каждом месте отдельно, сколько распространялась, видоизменяясь в ходе этого процесса. Однако другие специалисты считают, что каждая из этих древнейших систем письма была автохтонной, т. е. придуманной независимо от других. (Ситуация тут отчасти напоминает знаменитый спор палеоантропологов: появился вид гомо сапиенс на каждом континенте независимо или возник в Африке и оттуда распространился по планете?) Думается, что и для решения этого спора пока нет достаточного материала. Неслучайно чуть не каждое новое открытие весьма круто меняет представления лингвистов. Раньше, к примеру, считалось, что письменность проникла в долину Инда из Месопотамии. Теперь, на том же симпозиуме, было сообщено об открытии в Индии еще более древних письменных знаков; относящихся к 3300 г. до н. э. и отдаленно похожих на знаки более поздней индусской письменности следующего тысячелетия. Если это открытие подтвердится, оно может означать, что письменность в Индии возникла независимо от Шумера. О Китае раньше вообще не спорили: древняя китайская письменность считалась автохтонной, возникшей на основе изображений на бронзовых изделиях («рисуночное письмо») и на костях для гадания («черепковая письменность»). Но, выступая на пенсильванском симпозиуме, один из специалистов заявил, что ему удалось обнаружить 22 знака финикийской письменности на глиняной посуде и одеяниях мумий, найденных в пустыне Западного Китая. При этом мумифицированные тела имеют характерные признаки людей кавказской расы, а их одеяния — западные приметы, так что можно думать, что эти (а может быть, и более восточные) места Китая посещались людьми из Месопотамии уже во 2-м тысячелетии до н. э. Они могли занести сюда и свою письменность. Известно ведь уже, что повозки и бронзовая металлургия проникли в Китай именно с запада. Таково состояние научных знаний о возникновении письменности на нынешний день. А что же, кстати, с письменностью ронго-ронго? Мы ведь обещали рассказать, что прочел на этих табличках Стивен Фишер, и даже намекнули, что он воспользовался для этого методом Шамполиона. Пришло время для обещанного рассказа. Напомним, что Шамполиону удалось прочесть древнеегипетские иероглифы благодаря находке т. н. Розеттского камня, на котором один и тот же текст был записан и на известном ему греческом языке, и с помощью иероглифов. В случае Фишера роль Розеттского камня сыграла двухкилограммовая табличка ронго-ронго метровой длины, хранившаяся в музее Сантьяго и покрытая множеством строк текста, в которых отдельные куски были отделены друг от друга вертикальными линиями (ни в одной другой табличке таких линий не было). В поисках закономерностей текста Фишер обратил внимание на то, что знак, следовавший за каждой линией раздела, обязательно сопровождался примитивным рисунком фаллического характера (т. е. упрощенным изображением мужского члена). Каждый третий знак после первого (4-й, 7-й и т. д.) тоже сопровождался таким фаллическим символом, т. е. текст как бы распадался на триады типа X-У-Z. Вспомнив, что в рассказах миссионеров, посещавших остров Пасха в прошлом веке, фигурировала некая «Песня Творения», начальные слова которой звучали как «Атуа Мата Рири», а вся песня в целом означала: «Бог Мата Рири («грозноокий») совокупился со сладким лимоном, и так родилось дерево Попоро». Фишер предположил, что найденные им «триады» можно понимать следующим образом: некий X (знак которого сопровождается фаллическим символом) совокупился с У, и это привело к возникновению Z. Иными словами, каждая триада — это предельно лаконичный рассказ о сотворении какого-то объекта рееального мира, а весь текст таблички в целом — своего рода островитянская «Книга Творения». Благодаря этому ключу, ему удалось расшифровать и тексты на других сохранившихся табличках. В итоге он показал, что ронго-ронго были не просто мнемоническим средством вроде известного «узелкового письма», а настоящей письменностью, с помощью которой жрецы острова за период с 1780 по 1865 год сумели записать (а может, и досочинить) мифологию островитян. Интересно, что эта письменность оказалась далеко не чисто пиктографической: ее знаки (хотя отнюдь не все) действительно были упрощенными изображениями физических объектов, но, например, фаллические символы оказались своего рода «семантическими суффиксами», т. е. были предназначены дать наглядное визуальное представление о некоем действии, которое один такой объект совершал над другим… Такие вот картинки…. >ГЛАВА 13 «НЕГРАМОТНАЯ» КУЛЬТУРА В дополнение к вышерассказанному — еще одна история с письменностью, которая не совсем письменность. Всем известно, что древнейшие цивилизации складывались вдоль больших рек. Придумано даже название — «гидравлическая цивилизация», т. е. такая, которая складывалась в борьбе с постоянной угрозой наводнений. Индия не была исключением. Как открыли английские ученые еще в 1870-е годы, древнейшая цивилизация на этом субконтиненте тоже сложилась вокруг реки — вокруг реки Инд. Систематические раскопки, начавшиеся здесь в 1920-е годы, вскрыли большие города, многочисленные здания, сложную систему водопроводных и канализационных труб. Одна только Хараппа, судя по числу жилых зданий, насчитывала 50 тысяч жителей — и это за 2500–2000 лет до нашей эры. Территория этой цивилизации составляла 1 млн кв. км. Понятно, что для современных индийских националистов эта древнейшая цивилизация Инда — предмет величайшей гордости, прямой предшественник культуры Вед и всей нынешней Индии. Своей монументальностью она нисколько не уступала знаменитым, одновременным С ней древним цивилизациям Египта и Мессопотамии. С одним отличием, о котором — сначала потихоньку, чтобы не разъярить этих гордых националистов, а теперь уже во всеуслышание — заговорили с недавних пор некоторые ученые. Если они правы, эти учёные, то древнейшая и великая цивилизация Инда была… безграмотной. От Древнего Египта остались иероглифы, надписи, целая литература. От цивилизаций Древней Мессопотамии сохранилась клинопись, целые библиотеки глиняных табличек. А вот от цивилизации Инда остались лишь многочисленные изображения каких-то непонятных, объединенных в небольшие группы значков, нарисованных в основном на маленьких табличках или печатях. Древнейшие из этих значков датируются примерно 3200-м годом до н. э., т. е. почти тем же временем, что и первые иероглифы и клинопись. Спустя 800 лет эти значки достигают наибольшего разнообразия, а еще спустя 700 лет они исчезают совсем, вместе со своей цивилизацией. И что странно — почти все эти таблички содержат очень малое число значков (или символов?) индийский археолог Рао насчитывает их не более 20-ти, хотя более «патриотически» настроенные ученые утверждают, что разных знаков чуть ли не 700. В последнем случае они, скорее всего, должны были бы быть иероглифами, но этому противоречит тот факт, что большинство этих значков больше похожи на обычные рисунки — изображения рыбы, например, или дерева. Если же отбросить рисуночные значки, мы вернемся к выводу Рао, что «собственно знаков» всего 20, и тогда их можно было бы считать, вслед за финским лингвистом Парполой, знаками фонетического письма, но тут в наши споры вмешивается главный герой всей этой истории, американский «возмутитель спокойствия» Стив Фармер, и портит всю картину своим сенсационным утверждением, что это никакой не алфавит, а просто… Впрочем, давайте по порядку. Фармер, процдя путь от армейского радиста «на подслушке» до профессора на кафедре сравнительной культурологии, в свое время написал глубокую работу по истории Древнего Китая и недавно занялся историей древнего бассейна Инда. В своей последней итоговой статье о пресловутых «знаках древней индийской культуры» он еретически заявил, что никакие это не письмена, а что-то вроде тех геральдических символов, которые имели такое широкое хождение в средневековой Европе. Разумеется, это утверждение было не с потолка взято. Вместе с другими лингвистами-единомышленниками Фармер произвел тщательный анализ всех сохранившихся табличек и определил, что среднее число знаков на них составляет 4,6 (самая длинная «надпись» содержит 17 знаков и лишь меньше одного процента надписей длиннее 10 знаков). Такие короткие «тексты» не встречаются ни в одной из известных ученым письменностей мира. Далее, в отличие от букв, которые в текстах на любом языке повторяются довольно часто (например, в английских текстах почти 12 % знаков — это буква «е»), в «надписях» из долины Инда такие повторы практически не встречаются. Наоборот, добрая половина знаков вообще встречается только один раз, три четверти знаков встречаются всего пять и менее раз. Такое впечатление, пишет Фармер, что «некоторые знаки изобретались специально для данного текста и забывались после нескольких использований». Все это привело Фармера к выводу, что индийские знаки были, скорее, магическими символами — вроде креста у христиан — или геральдическими изображениями, обозначавшими отдельные кланы, сосуществовавшие (и, возможно, враждовавшие) внутри этой загадочной цивилизации. Разумеется, гипотеза Фармера взбесила многих. Националисты попроще стали посылать ему письма с угрозами, а ученые коллеги принялись раздраженно опровергать все его утверждения, заявляя, что он фальсифицировал все свои данные. Что, как признает большинство специалистов, попросту неправда. Доводы Фармера слишком обоснованны, чтобы отмахнуться от них, и не случайно многие специалисты из «умеренных» уже сдвинулись от прежней единодушной веры в древнюю индийскую письменность к более скромному утверждению, что на загадочных табличках изображены имена принцев, богов, названия городов и т. п., но несвязные «рассказы», как было в Древнем Египте или Шумере. Вместе с Фармером (или вслед за ним) они сходятся в том, что эти символы играли какую-то важную социальную роль, объединяя все территории древней цивилизации Инда и придавая им ощущение общей принадлежности к одной культуре (напомним, что по территории эта цивилизация была примерно как вся нынешняя Западная Европа!). Как. говорит Фармер, отсутствие письменности отнюдь не унижает индийскую цивилизацию. «Большая городская цивилизация могут держаться вместе и без письменности», даже если это была многоплеменная и многоклановая культура. «Бесстрашный еретик» настолько уверен в своей правоте, что недавно учредил даже специальную премию размером в 10000 долларов для человека, который представит надпись длиной в 50 символов, с повторяющимися по законам языка значками и сопроводит находку прочтением ее текста. «Я ничем не рискую, — уверенно заявил он газетам. — Мне все-равно никогда не придется выписывать этот чек». >ГЛАВА 14 В ПОИСКАХ ТАЙНОГО ЗНАНИЯ Под конец вернемся от древней лингвистики опять к древней истории. В ней все еще появляются новости и открытия. Одно из таких открытий произошло в исторических масштабах не так уж давно, и поэтому его можно смело зачислить в новости. Во всяком случае, в древние новости. Открытие это совершил простой арабский пастух. Случайно заглянув в заброшенную пещеру, он обнаружил там глиняный кувшин метровой высоты и, разбив его мотыгой, увидел какие-то древние свитки. Он забрал их с собой, а уже от него они каким-то образом попали на арабский черный рынок, перекочевали в руки охочих до древностей зарубежных туристов и в конце концов оказались в распоряжении ученых, где им и было самое место. Ибо свитки эти содержали неведомые доселе и переворачивающие многие наши представления тексты, родившиеся в кругу загадочной религиозной общины, что существовала в этих местах в те времена, когда ближневосточную землю топтали сапоги римских легионеров, а отчаявшиеся в неволе люди слагали учение о приходе избавителя-Спасителя. Вы, конечно, подумали, что я пересказываю историю Кумранских свитков. И вы ошиблись. Я хочу рассказать совершенно иную, хотя и не менее увлекательную историю, которая как две капли воды похожа на историю кумранской находки, — с той лишь разницей, что в данном случае свитки были найдены в пещере на горе Джабаль аль-Тариф, вблизи города Наг-Хаммади, что в среднем течении Нила, между знаменитыми египетскими городами Асьютом и Луксором. О кумранских свитках знает каждый образованный человек. О свитках Наг-Хаммади знает далеко не каждый. Между тем по своему значению они, пожалуй, не уступят свиткам Мертвого моря. Свитков Наг-Хаммади насчитывается тринадцать. В них содержится пятьдесят два текста, созданных, по мнению специалистов, в первом-втором веках нашей эры. Тексты эти представляют собой раннехристианские апокрифы, то есть сочинения, не вошедшие в утвержденный церковью христианский канон — «Новый Завет». А громадное историческое значение этих текстов состоит в том, что в сумме они образуют наиболее полную и впервые представшую перед исследователями библиотеку т. н. «гностических» сочинений, до того известных лишь по пересказам христианских критиков гностицизма. Вообразите себе, что вы находитесь в зале суда, где все время выступают только свидетели обвинения. И вдруг происходит взрыв! Впервые за два тысячелетия в зале появляется сам обвиняемый. В зале шум и смятение, судья грохочет молотком по столу, приставы выводят непотребно беснующихся обвинителей. И обвиняемый начинает сам рассказывать о себе. Я сознательно принял столь высокопарный тон, чтобы подчеркнуть всю огромность и небывалость случившегося. Находка в Наг-Хаммади не просто очередное археологическое открытие. Это переворот в наших представлениях о гностицизме. А стало быть, обо всей истории раннего христианства. Более того — о религиозной истории в целом. Ибо гностицизм — это одна из величайших и распространеннейших религий древнего мира. Но куда важнее и, несомненно, куда интереснее, что это одно из самых влиятельных и заметных явлений нашей с вами эпохи, той, в которой мы живем и блуждаем сейчас. Достаточно сказать, что следы гностических доктрин обнаруживаются в учениях таких современных мыслителей, как Хайдеггер и Юнг, а в своей вульгаризованной форме они были усвоены мистическими вдохновителями Гитлера из «Общества Туле» и создателями многих современных оккультных сект и мистических культов на Западе. И если когда-то исследователь гностицизма Ганс Йонас говорил о «Великой гностической революции» древности, то сегодня мы можем назвать наше собственное время эпохой столь же масштабной «гностической контрреволюции». Теперь уж вы наверняка впали в тяжелую задумчивость. Если гностицизм столь могуч и вездесущ, то почему мы о нем ничего не знаем? Если его следы обнаруживаются буквально повсюду, то, ради Бога, покажите нам их. И поскорее! Может быть, мы — тоже гностики, только сами не знаем, как мольеровский герой Журден не знал, что всю жизнь говорил прозой! А не знаем мы о гностицизме (точнее, почти ничего не знали до находки в Наг-Хаммади) по той простой причине, что христианская церковь усиленно над этим поработала. В свое время, на рубеже I–II веков, учение гностиков настолько успешно соперничало с ортодоксальным христианством, что, по мнению некоторых ученых, имело шансы его победить. Гностикам не хватило организованности. Они никогда не пытались создать формальную церковную организацию. Более того, они были принципиально против нее. Гностицизм, как мы увидим, — это вызывающе индивидуалистическая доктрина. И пока гностики размышляли о причине несовершенства земной юдоли и способах ее преодоления, христиане создавали свои епископаты. И первые же епископы на первое место в списке своих неотложных задач поставили беспощадную борьбу с конкурентами. Уже в 180 году епископ Ириней опубликовал пятитомное (!) сочинение, озаглавленное «Сокрушение и уничтожение ложного учения, так называемый «гнозис», которое изрыгает хулу на Господа нашего Иисуса, — дабы не дать другим впасть в эту бездну гордыни и богохульства». С еретиками христианство всегда расправлялось круто. Гностицизму грозило полное исчезновение из человеческой памяти. К счастью, Ириней с группой товарищей перестарались. В их сочинениях эти еретики цитировались так обильно, что вдумчивые люди из одних этих цитат могли составить представление о гностических доктринах. А историки религии XIX–XX веков разбирались в древнем гностицизме уже весьма неплохо. Находка в Наг-Хаммади позволила им сделать следующий огромный шаг в развитии и обобщении этих представлений. Что же так раздражало христианских ортодоксов в гностическом учении? Возьмем, к примеру, один из текстов наг-хаммадийских свитков, апокриф, который называется «Евангелие от Фомы» (в «Новом завете» вы его, разумеется, не найдете). Начинается оно так: «Здесь содержатся тайные слова, сказанные живым Иисусом и записанные его братом-близнецом Иудой Фомой». Тут даже самый поверхностно знакомый с христианством человек содрогнется. Оказывается, у Иисуса был брат-близнец! Оказывается, Иисус поведал ему какое-то «тайное знание»! Раз «тайное» — значит, не то, которое содержится в канонических Евангелиях. Что же это за знание? Намеки на эту тайну рассеяны по наг-хаммадийским свиткам в превеликом множестве. К примеру, в тексте «Свидетельство истины» рассказывается совершенно сенсационная история Змия, который, оказывается, первым пытался принести людям свет «тайного знания», но встретил яростное сопротивление «так называемого Бога», пригрозившего Адаму и Еве смертью, если они вкусят от злополучного яблока. А в тексте с поразительным названием «Громыхающий идеальный разум» некая загадочная «Высшая богиня» выражается о себе таким дзэн-буддистским слогом: «Я та, которую чтут и поносят, я шлюха и святая, я мать и девственница, я первая и последняя, я непостижимое молчание и я же невыразимый звук моего имени». Гностики были решительно неортодоксальны и в толковании самого Иисуса, и в объяснении его миссии на земле. У ортодоксов Иисус отделен от сынов человеческих уже тем, что он «Сын Божий», а у гностиков Бог и человеческое Я — одно и то же: «Познай, кто это такой внутри тебя говорит — моя мысль, моя душа, мое тело, и ты обнаружишь Бога в самом себе», — говорит гностический автор Моноимус. У ортодоксов Иисус говорит в основном о «первородном грехе», который он пришел «искупить», а у гностиков он занят прежде всего развенчанием иллюзий, которые скрывают от людей «истинное положение вещей в мире», «истинное знание». И говорит Иисус Фоме: «Кто пьет из кипящего источника истины, из которого пью и Я, тот становится Мною, и Я становлюсь им». Не потому ли Фома и назван его братом-близнецом? Сквозная тема всех гностических текстов — поиск тайного знания, по-гречески — «гнозиса». Отсюда и название. Какие-то загадочные, словно нарочито созданные кем-то иллюзии скрывают от людей истинную природу мира и самого Бога, и то, что люди принимают (а ортодоксальные христиане выдают) за истину, ей на самом деле противоположно. Может, и сам Бог подложный? Да и существует ли Он вообще? Один из гностических авторов говорит о «Несуществующем Боге». Не в том смысле, что Его нет, а в том, что Он не существует в принятом толковании этого слова, не может быть определен в обычных терминах, разве что в отрицательных: Он не то, и не то, и не то. Эту мысль позднее подхватили у гностиков такие знаменитые средневековые мистики, как Николай Кузанский и Якоб Беме. А уже у них — кое-какие мистики нашего времени. Точно так же, как Юнг заимствовал у них убеждение в наличии у божества женской ипостаси, а Хайдеггер — некоторые представления о природе человеческого бытия, вошедшие — уже через хайдеггеровские сочинения — в основы современного экзистенциализма. О том, что заимствовал у гностиков фашизм, популярно рассказано в переведенной (много лет назад) на русский язык книге Бержье и Пауэлла «Утро магов», а более научно — в недавно вышедшей (по-английски) книге «Гностические корни нацизма». Любопытно, что почти так же называется более давняя книга известного французского историка Алана Беансона, только у него — «Гностические корни ленинизма»! Гностические корни, несомненно, есть, как я уже говорил, и у более мелких духовных течений эпохи, но они все еще ждут своих исследователей. Гностики, в общем-то, всего лишь передали эстафету. Они и сами многое заимствовали. Внимательный читатель наверняка заметил; что разговоры об «истине, скрывающейся за покровом иллюзий», очень напоминают индийские рассуждения о «покрове Майи», скрывающем от людей высшую истину бытия, то, «каково оно есть на самом деле», а сами «иллюзии» очень похожи на платоновские «тени вещей», которые носятся на стене Пещеры, где томится человеческий разум, принимая эти тени за те абсолютные «идеи», из которых, по Платону, слагается истинная реальность. Не случайно Адольф Гарнак, один из первых исследователей гностицизма, когда-то назвал гностиков «распоясавшимися платонистами», а британский историк Гонзе возвел зарождение гностических идей к влиянию буддистских проповедников, которые активно миссионерствовали в Александрии в I–II веках н. э. С другой стороны, Мориц Фридландер доказывал, что многое в учении гностиков восходит к «еретическим» идеям иудаизма того же времени. У гностиков, действительно, был жестокий спор с иудаизмом, может быть, даже более жестокий, чем с христианской ортодоксией, и такой беспощадно страстный, какой бывает только между очень близкими родственниками. Гностики отвергали «претензии» иудаизма на абсолютную истину с той же яростью, что и претензии первохристиан; но они же впоследствии возместили иудаизму «убытки», вдохновив его на создание гаонической мистики (как позднее, видимо, одарили создателя ислама мистической идеей «цепи пророков», а сам ислам вдохновили на создание суфизма и исмаилизма; но об этом — в следующей части нашей книга). Но, может, дело обстояло наоборот, — еврейская мистика предшествовала гностицизму? К этому следовало бы вернуться, но мы сейчас ограничимся тем, что передадим слово арбитру, который лично мне представляется наиболее глубоким из всех, — уже упоминавшемуся ранее Гансу Йонасу. В своем классическом произведении «Гнозис и дух позднеантичной эпохи» он набрасывает грандиозную картину того, как в недрах созданного Александром Македонским эллинистического мира постепенно и исподволь на протяжении нескольких столетий вызревал поразительный и уникальный сплав многочисленных восточных и западных религиозных и мистических учений и культов и как затем эта духовная магма, вырвавшись из ближневосточных недр, хлынула на Запад в грандиозном контрнаступлении, в котором Восток взял реванш за предшествующее — политическое отступление перед Западом. (Отметим, что под Западом Йонас подразумевал Грецию, а под Востоком — то, что мы и сегодня так называем.) Так вот, подыскивая слова для определения центрального ядра этого гигантского духовного процесса, наложившего неизгладимый отпечаток на всю последующую историю западной цивилизации, Йонас долго выбирает между различными возможностями — «временный триумф иудаизма», «победа иудеохристианства» и т. п., — пока не приходит к тому главному, что, на его взгляд, объединяло и пронизывало все эти разнородные составляющие. Это было, говорит он, «вторжение гностицизма». При таком подходе становится понятным, почему гностицизм обнаруживает такое глубокое сходство со столькими и столь разнородными учениями и доктринами древности, начиная с мистики иудаизма и платоновской философии и кончая отголосками буддизма. Становится понятным и то, почему гностицизм, как утверждает Йонас, оказался главной и сквозной идеей позднеантичной эпохи и почему сумел оказать столь мощное влияние на духовное развитие человечества, что это влияние ощущается и в наши дни, — ведь он объединял в себе множество различных влияний и тем самым, как сказали бы химики, имел множество «свободных валентностей», которые позволили ему объединяться с самыми разными мистическими идеями позднейших времен и оплодотворять их своим влиянием. Примерно так же (но в куда меньшем масштабе) вторгся (уже в нашу эпоху) в духовную жизнь России марксизм с его щупальцами свободно-валентных идей, только и ждущих, к кому бы присосаться — то ли к символизму, то ли к богоискательству, то ли к рабочему движению. О гностицизме можно рассказывать долго. На этом закончим наше повествование. >ЧАСТЬ 6 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА >ГЛАВА 1 А БЫЛА ЛИ ОНА ВООБЩЕ?
История насмешлива. Отодвигая события в прошлое, она делает их сомнительными (порой незаслуженно сомнительными) для потомков. При этом, будучи одинаково равнодушной ко всему в себе, она и в этом вопросе не знает исключений. «Я слышал сомнения в реальности Трои», — писал Байрон после посещения Гиссарлыкского холма. И предрекал, улыбаясь: «Со временем усомнятся и в Риме». Подлинность Древнего Рима пока еще несомненна, но реальность Троянской войны в последние столетия действительно стала — предметом бурных споров. Не то было раньше. «Для античности, — говорят Гиндин и Цымбурский, — Троянская война была несомненным фактом… О ней напоминали родословные, идущие от ее героев, названия основанных ими городов, гавани, где были стоянки их кораблей». Эти родословные и названия были известны всем. Великий Вергилий в своей поэме «Энеида» писал, что когда уцелевший троянец Эней в своих странствиях навстречу судьбе (ему было якобы предназначено основать Рим, который возродит троянскую славу) добрался до далекого Карфагена, что на другом от Трои конце Средиземного моря, и попытался поведать тамошней царице Дидоне, откуда он родом, оказалось, что Дидона и сама уже может рассказать ему историю осады и гибели Трои и ее героев. Как объясняет В. Топоров в своей книге «Эней — человек судьбы», Вергилию, писавшему в I веке до н. э., представлялось очевидным, что в Энеевы времена о падении Трои должен был знать каждый средиземноморец, коль скоро это было реальное событие, потрясшее весь средиземноморский мир. Свидетельств такой безусловной веры многих поколений (от Гомера к Вергилию и далее до средневековых) в историческую реальность Троянской войны несчетное множество; вот одно из них, возможно, самое яркое. В «Илиаде», рассказывая о главных героях Троянского похода, Гомер среди прочих повествует бб Аяксе — царе Локриды, что находилась в срединной Греции неподалеку от Дельф с их оракулом. Гомер называет этого Аякса «малым», чтобы отличить от другого, «большого», или «великого», Аякса Теламонида:
Помимо отличного метания копья, Аякс Локридский отличался, видимо, еще и необузданно диким нравом — после взятия Трои он ворвался в храм Афины, где пророчица Кассандра, ища спасения, прильнула к статуе богини, и, увидев несчастную девицу, воспылал к ней нечистым желанием; а поскольку ему никак не удавалось оторвать руки Кассандры от статуи, он схватил ее за волосы и потащил прочь вместе с каменным изваянием. Этим поступком, осквернившим алтарь Афины, Аякс Локридский вызвал понятную и вечную ненависть богини, и вот, как сообщают древнегреческие памятники, жители Локриды даже в IV веке до н. э., т. е. спустя тысячу лет (!) после описанных Гомером событий, были настолько убеждены в реальности этого давнего проступка своего давнего царя, что продолжали замаливать его вину перед Афиной и отвращать ее гнев, ежегодно отправляя двух своих девушек (из самых аристократических семей) в отстроенную к тому времени Трою, дабы они служили там хранительницами восстановленного храма оскорбленной богини. Правда, некоторые скептики издавна утверждали, что обвинение Аякса в попытке изнасиловать Кассандру было облыжным и его якобы придумал в каких-то своих целях хитроумный и коварный Одиссей. Но если даже локридцы поверили наговорам Одиссея, все равно, они и в этом случае, в конечном счете, поверили Гомеру. Нет, бесспорно, сомнения в исторической достоверности гомеровского рассказа не приходили тоща в голову почти никому — разве что Анаксагору, который, видите ли, требовал доказательств этой достоверности; но на то Анаксагор и был философ. Всем прочим людям, нефилософам, доказательства казались излишни, ибо, как писал древнегреческий историк V века до н. э. Фукидид, «в правдивости гомеровского рассказа не приходится сомневаться», поскольку за нее ручаются «великие поэты и всеобщая традиция» («поэты» здесь во множественном числе, потому что, кроме гомеровских, существовали и несколько менее пространных поэм о Троянской войне, совместно известных как «Эпический цикл» и дошедших до нас в записях VI века до н. э.). «Ручательство» это становилось тем более убедительным, что поэты и традиция взаимно удостоверяли подлинность своих свидетельств: например, «Эпический цикл» утверждал, что Афина наложила на Локриду тысячелетнее проклятие и, согласно традициям самих локридцев, им суждено было посылать своих девушек в. Трою тоже на протяжении тысячи лет, так что они покончили с этим тягостным обычаем лишь в 264 г. до н. э., тем самым заодно засвидетельствовав, что, согласно их традиции, падение Трои произошло в 1264 г. до н. э. Кстати говоря, хотя вера в реальность этого события не умалялась с веками, но сама его дата постепенно уходила в туман и уже в древности стала предметом ожесточенных споров. Так, великий древнегреческий историк Геродот (484–424 гг. до н. э.) путем сопоставления генеалогий царских семей, сохранившихся в различных греческих традициях, пришел к выводу, что поход на Трою состоялся в 1260 г. до н. э., чем, в сущности, научно подтвердил «традиционную» датировку. С другой стороны, двумя столетиями спустя географ и астроном Эратосфен (276–194 гг. до н. э.), использовав те же данные, что Геродот, но подойдя к ним с большей придирчивостью, заключил, что Троянская война началась на сто лет позже, в 1164 году до н. э. (Многие ученые до сих пор считают это наиболее авторитетной датировкой.) Самой древней из называвшихся дат Троянской войны был 1334 год до н. э., самой поздней — 1135-й, а вот некий безымянный резчик, живший как раз между Геродотом и Эратосфеном, в начале III века до н. э. высек на мраморном памятнике в Фаросеи такую (уже неизвестно откуда взятую) дату того же события: 5 июня 1200 года до н. э. — то есть с точностью не только до месяца, но даже до дня! Во всем этом важна, конечно, не сама дата и даже не то, что разные даты отличались друг от друга, — куда важнее поразительная готовность каждого автора назвать точную дату, ибо такая готовность, несомненно, проистекала из абсолютной веры в реальность описанных Гомером событий. Нам, современникам, трудно разделить эту наивную уверенность — прежде всего потому, что, как нам сегодня уже известно, догомеровская (а скорее всего, и гомеровская) Греция еще не знала письменности (а точнее, знала, но утратила, как выяснилось позже, причем еще в XII веке до н. э., задолго до времен Гомера); поэтому народные предания (то, что Фукидид называл «всеобщей традицией») никем и никак не могли быть записаны. Незаписанная же «народная память» — весьма ненадежный свидетель. Как писал знаменитый историк Иосиф Флавий, «хотя часто говорят, будто древние греки были первыми, кто стал заниматься прошлым на более или менее точный научный манер, на самом деле, очевидно, что так называемые варвары сохранили историю лучше, чем греки… Дело в том, что греки поздно усвоили алфавит, и он дался им с трудом… так что во всей греческой литературе нет сочинений, относительно которых существовала бы уверенность, что они древнее Гомера. Однако время Гомера было явно намного позже Троянской войны, и даже он оставил свои поэмы незаписанными…» Действительно, тот же Геродот считал, что Гомер жил за 400 лет до него, а это соответствует, как легко посчитать, IX веку до н. э., и хотя некоторые другие историки порой отодвигали время его жизни чуть ли не в XII век до н. э., т. е. делали его прямым современником воспетой им войны, большинство современных ученых склоняется скорее к точке зрения Геродота. Это большинство поддерживает и утверждение Иосифа Флавия о сравнительно позднем возникновении греческой письменности; правда, некоторые пылкие умы в прошлом выдвигали предположения, будто эта письменность была создана уже за столетие до гомеровских поэм или же, в крайнем случае, одновременно с ними (именно для их записывания), а то и самим Гомером (для той же цели), но сегодня это событие единодушно относят примерно к тому же моменту, что и первые общегреческие Олимпийские игры, а они состоялись в 776 г. до н. э. Это мнение достаточно обосновано: самые ранние из обнаруженных на сей день надписей, исполненных несомненно греческим алфавитом, датируются 770 годом до н. э. С другой стороны, сегодня существует и вполне надежное основание считать, что Троянская война, если она происходила, вряд ли могла произойти позже середины XI века до н. э., ибо во второй половине этого века, как свидетельствует археология, союз древнегреческих государств, возглавлявшийся Микенами, уже не существовал — он распался под натиском каких-то пришельцев с севера, а еще через несколько десятилетий рухнули и сами Микены. Стало быть, позже, скажем, 1150 года до н. э. возможность организации того коллективного, общегреческого похода под водительством Микен, какой описан в «Илиаде», стала весьма сомнительной. Таким образом, между Гомером и — описываемыми им событиями зияет временной разрыв протяженностью в 300–400 лет. И тут возникает первый из серии вопросов, в совокупности образующих загадку Троянской войны: могла ли устная традиция сохранить и перенести через такой провал достоверные воспоминания о столь давнем прошлом? Но этот вопрос тут же осложняется еще одним. Допустим все же, что устная традиция сумела сохранить верность далекому прошлому. Но вот незадача: исследования современных филологов убедительно показали, что гомеровские поэмы, которые были вершиной и завершением этого многовекового устного творчества, представляют собой не столько точную (пусть и гениальную) фиксацию «преданий старины глубокой», а скорее — весьма индивидуализированное художественное преображение этих фольклорных материалов. Но можно ли в таком случае говорить об их исторической достоверности? Можно ли говорить об исторической реальности неких событий на основании текста, хоть и рассказывающего об этих событиях, но созданного по законам поэтического творчества? Иными словами, насколько надежны свидетельства гомеровских поэм? Обратимся к Гомеру. >ГЛАВА 2 ГОМЕР И ЕГО ПОЭМЫ Что мы знаем о Гомере? Что он был автором двух пространных, изложенных гекзаметром поэм «Илиада» и «Одиссея», в которых повествуется о десятилетней войне греков (в этих поэмах они именуются более древним названием «ахейцы») против троянцев, жителей города Троя, что существовал когда-то на западном берегу малоазиатского (ныне Турецкого) полуострова. Однако современная историко-филологическая наука утверждает, что самым первым источником всех знаний и представлений об этой войне был не Гомер, а предшествовавшая ему древнегреческая народная традиция — эпические сказания, изустно передававшиеся сказителями-певцами («аэдами») из поколения в поколение задолго до Гомера. Сами эти сказания до нас не дошли, но, начиная с V века до н. э. (т. е. уже много позже Гомера) их тексты, сохранившиеся в неполном и разрозненном виде, были собраны различными греческими авторами — Аполлонием с Родоса, Аполлодором из Афин, Квинтом из Смирны, Арктиносом из Милета и другими — в виде нескольких коротких поэм, повествовавших об отдельных эпизодах Троянской войны, не фигурирующих в «Илиаде» и «Одиссее». Так, «Киприя» Арктиноса Милетского излагала предысторию этой войны; «Малая Илиада» Квинта Смирнского заполняла промежуток между «Илиадой» и «Одиссеей», рассказывая о дальнейших событиях осады Трои — от смерти Гектора и до взятия города (гибель Ахилла; смерть Париса; изготовление «Троянского коня»); во «Взятии Трои» того же Арктиноса рассказывалось о падении троянской крепости, ее разграблении и судьбах ее жителей — царя Приама, его жены Гекубы, дочери Кассандры, вдовы Гектора Андромахи и Елены Прекрасной; поэма «Возвращения» была посвящена истории возвращения греческих героев на родину и судьбам некоторых из них. Следует заметить, что, не будь этих поэм, мы бы не знали сегодня множества знаменитых и красочных деталей, которые ныне у всех на слуху, — ни рассказа о «суде Париса» и похищении им прекрасной Елены (с чего, собственно; и началась вся Троянская распря), ни истории смерти Ахилла, пораженного стрелою в пятку — единственное уязвимое место на его теле, ли многих других; ибо, как уже сказано, ни одной из этих историй нет ни в «Илиаде», ни в «Одиссее». Тем не менее, несмотря на эту неполноту, именно «Илиада» и «Одиссея» являются самым главным и самым авторитетным источником наших сведений о Троянской войне. Объясняется это, прежде всего тем, что эти поэмы уже в древности обрели-статус величайшего произведения греческой культуры. Древние греки считали их чем-то, далеко выходящим за чисто литературные рамки: они учили и воспитывали на них своих детей, почитали как непреложный кодекс нравственности и зачастую даже руководствовались ими в своей практической деятельности. Влияние этих поэм на европейскую культуру последующих веков тоже было огромно. По их образцу было создано величайшее произведение римской литературы — поэма Вергилия «Энеида»; позднее они вошли в литературный кодекс византийской империи, где стали предметом углубленного изучения и комментирования; а еще позже, проникнув из Византии в Италию, оказали глубокое влияние на культуру Ренессанса. В Новое время, обретя благодаря многочисленным переводам даже более широкую популярность, чем Данте или Шекспир, они стали одной из важнейших основ всего классического образования многих поколений европейцев. Не удивительно, что отношение к этим великим поэмам приобретало порой настолько благоговейный характер, что их подчас даже отказывались признавать творением отдельного, пусть и гениального, человека — один немецкий филолог XVIII века выдвинул в свое время фантастическое предположение, что обе они, и «Илиада» и «Одиссея», были созданы посредством спонтанного «творческого выдоха» всего древнегреческого народа как целого. Достоверно известно, однако, что сами древние греки упорно приписывали создание обеих поэм одному конкретному человеку — слепому певцу Гомеру — и даже придумали этому человеку развернутую биографию, согласно которой он родился на острове Хиос в Эгейском море, много странствовал по Малой Азии, Египту и самой Греции и оставил потомков — так называемых гомеридов, взявших на себя задачу сохранения и распространения его поэзии. Еще более детальную (и более фантастичную) биографию Гомера придумал Геродот, который приписал ему несколько поколений предков и великое множество путешествий. Из всего этого единственно достоверным является то, что в более поздние века на острове Хиос действительно существовала гильдия или «школа» поэтов, именовавших себя «гомеридами» и исполнявших преимущественно произведения Гомера, которого они считали своим земляком. Какую позицию в этих спорах занимает современная филологическая наука? Она считает достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал эпический поэт по имени Гомер и что именно он сыграл ведущую роль в окончательном формировании «Илиады» и «Одиссеи» (составные части которых, возможно, существовали уже до него в виде устных поэм). Почему это «достаточно вероятно», станет ясно чуть далее. Пока же заметим вслед за специалистами, что, поскольку некоторые языковые приметы гомеровских поэм близки к особенностям ионийского диалекта древнегреческого языка, который был в ходу у жителей островов восточной части Эгейского моря, то и предание о хиосском происхождении Гомера могло иметь под собой реальную основу, поскольку Хиос относится к Ионическим островам. Многие специфические детали «Илиады» свидетельствуют, что ее автор был хорошо знаком с географическими и климатическими особенностями Хиоса, Родоса и других островов, а также близкого к ним малоазийского побережья. Он, например, упоминает о птицах, гнездящихся в устье реки у малоазийского города Эфес, о виде на горы, открывающемся с Троянской равнины, о северо-западных ветрах, преобладающих на Хиосе, и т. п. Таких восточноэгейских примет много меньше в «Одиссее», что, в частности, побудило Аристотеля высказать предположение, что эта поэма была написана Гомером в глубокой старости, а других исследователей — даже утверждать, будто она вообще приналежит иному автору (к тому же она совершенно отлична по жанру). Тем не менее современная филология и здесь пришла к выводу, что, при всех сомнениях, «Одиссея» была как минимум вдохновлена Гомером, а то и создана им самим. Однако время создания обеих поэм представляется сегодня несколько иным, чем в древности: определенные детали текста побуждают отнести «Илиаду» к концу IX, «Одиссею» — скорее даже к середине VIII века до н. э. А это означает, что они существенно моложе древних поэм «Эпического цикла». Тем не менее «Илиаду» и «Одиссею» нельзя противопоставлять этим поэмам. Как показал в 30-е годы нашего века американский филолог Малькольм Пэрри, поэтика «Илиады» и «Одиссеи» — это все же поэтика устного эпического творчества, и в этом смысле их создатель был прямым продолжателем традиции пред-. шествовавших ему эпических сказителей. Не случайно Гомер и сам применяет для определения поэта тот же термин «аэд», который в древности характеризовал этих певцов-сказителей. Но он. был весьма особым их продолжателем. В своих поэмах он далеко превзошел всех безвестных предшественников. Как показало изучение еще сохранившихся (на Балканском полуострове и в других странах) традиций устного эпического творчества, для поэтов-певцов и сказителей характерно создание сравнительно небольших «песен» (т. е. коротких поэм), каждая из которых содержит часто всего один законченный эпизод и исполняется (при подходящем случае и в подходящей обстановке) в один прием. Это опять же подтверждает сам Гомер, пересказывая в «Одиссее» две такие. законченные песни: одну — о любовном романе между богом Аресом и богиней Афродитой, другую — о придуманном Одиссеем «Троянском коне», — каждая из которых занимает примерно по 100 строк поэмы. Примеры таких же коротких поэм сохранились и в «Эпическом цикле». Так вот, по утверждению специалистов-филологов, главное и величайшее новаторство Гомера состояло в резком переходе от этих коротких песен к качественно новому поэтическому жанру — к монументальной эпической поэме, включающей десятки песен и многие тысячи строк (в одной «Илиаде» их более 16 тысяч). Это новаторство Гомера можно уподобить разве что столь же революционному прорыву последующих времен — изобретению романа как совершенно новой формы повествования. Громадность материала, который становился при этом доступен, широта возникавшей отсюда картины событий, их историческая и психологическая глубина не могли не произвести огромного впечатления на слушателей, привыкших доселе исключительно к коротким рассказам. Можно думать, что слушатели Гомера были столь же потрясены, когда этот неведомый им прежде слепой певец из вечера в вечер несколько дней подряд исполнял перед ними свое монументальное творение. Сам размах этого исполнения предполагал совершенно исключительные творческие качества нового певца, и не удивительно, что имя Гомера с такой силой врезалось в память народа. Не удивительно также, что устная эпическая традиция, достигнув в поэмах Гомера своего высшего, развития, достигла в них и своего естественного завершения: после Гомера петь «по-старому» стало практически невозможным. Произносившийся самим Гомером текст, скорее всего, был нестабильным и несколько менялся от выступления к выступлению. Это не удивительно, ведь, греки в те времена еще не знали письменности, ее широкое распространение началось, мы говорили об этом, лишь во второй половине VIII века до н. э. Но так как слушатели Гомера не обладали его памятью и способностями и в то же время хотели знать его «божественные» (как они их называли) поэмы от слова до слова, то можно думать, что уже с началом распространения греческой письменности начались попытки записи этих поЗм и постепенного приведения этих записей к одному стабильному («каноническому») варианту. Согласно некоторым древнегреческим источникам, уже в середине VI века до н. э., при афинском правителе-тиране Писистрате, «Илиада» зачитывалась по его приказу перед толпами, собиравшимися на площади около построенного тираном величественного храма богини Афины. Поскольку она именно «зачитывалась», то была, надо думать, уже записана, и итальянский философ Нового времени Джамбатиста Вико (1668–1744) даже предположил, что именно по приказу Писистрата поэмы Гомера и были записаны в первый раз и притом в окончательном, «канонизированном» виде, дабы предотвратить дальнейшую порчу этого «национального достояния» при устной передаче. Нам никогда не удастся узнать, так это или не так, потому что первый дошедший до нас (имеющийся в распоряжении ученых) список гомеровских поэм восходит всего лишь к X веку нашей эры — это копия византийского издания 860 года (оригинал его погиб), тщательно отредактированного и снабженного всеми накопившимися за столетия комментариями; копия эта хранится ныне в соборе св. Марка в Венеции и именуется «Венетус А». Каков же этот дошедший до нас текст? О чем он, собственно, рассказывает? Как выглядит в его передаче интересующая нас Троянская война? Оказывается, ее начало лежит за пределами этого текста. Только из поэм «Эпического цикла» (в передаче более поздних авторов) можно узнать, что война началась из-за спора трех богинь — Афины, Афродиты и Геры — за обладание яблоком с надписью «прекраснейшей», которое подбросила им богиня раздора Эрида (Эрис). Зевс велел отвести спорящих богинь в Троаду, к тамошнему принцу Парису-Александру, сыну троянского царя Приама, чтобы тот их рассудил, и Парис отдал яблоко Афродите, обещавшей ему любовь Елены Прекрасной, жены одного из греческих царей Менелая (этим «судом Париса» объясняется, кстати, почему в ходе последующей войны Афродита помогает троянцам, а Гера и Афина — грекам). Далее выясняется, что Парис, вдохновленный обещанием Афродиты, отправился в Спарту, во владения Менелая, и, пользуясь его отсутствием, соблазнил и похитил Елену, а затем привез ее в Трою, где его сестра, пророчица Кассандра, тотчас возвестила, что поступок Париса обрекает город на войну и гибель; Кассандре, однако, никто не поверил, ибо когда-то бог Аполлон, оскорбленный ее отказом ему отдаться, наплевал ей в уста — как раз для того, чтобы никто ей не верил. Однако пророчество Кассандры, увы, оказалось вещим. Опозоренный Менелай обратился к своему могущественному брату — микенскому царю Агамемнону — с просьбой помочь ему отвоевать Елену и отомстить, за унижение. Агамемнон, в свою очередь, обратился к царям других греческих городов, призывая их объединиться для похода на Трою, и его призыв нашел благожелательный отклик. В итоге в составе греческого воинства оказались все великие герои тогдашней Греции — прежде всего, разумеется, Ахилл, но также и Диомед, Филоктет, Одиссей, оба Аякса, «большой» и «малый», и многие-многие другие. (Их поименование вместе с перечнем приведенных каждым из них боевых кораблей и воинов составляет содержание т. н. «списка кораблей», помещенного Гомером в конце второй песни «Илиады». Вспомним у Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины…»). Главой похода был избран Агамемнон — как самый могущественный из всех. Начало похода обернулось для греков неудачно: Аполлон послал им некое знамение, которое прорицатели истолковали как намек, что война будет продолжаться 10 лет. Затем греческие войска по ошибке высадились много южнее Трои, потерпели позорное поражение в битве с тамошними царями, а на обратном пути вдобавок еще попали в бурю и с трудом добрались домой. Все это оттянуло подлинное начало войны (по одним источникам — на несколько месяцев, по другим — на добрых 9 лет), но, как бы то ни было, герои снова собрались и двинулись на Трою, на сей раз, предварительно принеся в жертву — чтобы задобрить богов — дочь Агамемнона Ифигению; этот эпизод позднее стал сюжетом многих трагедий. Высадившись на Троянской равнине, греки долго стояли у неприступных стен Трои, то и дело сходясь с троянцами в рукопашных схватках, где удача попеременно склонялась то на одну, то на другую сторону. Но вот в начале десятого года осады события обрели драматический оборот. Произошла бурная ссора между Агамемноном и Ахиллом: оскорбленный тем, что микенский царь отнял у него пленницу Брисеиду, гордый Ахилл, этот главный герой похода, отказался участвовать в сражениях и укрылся в своем шатре. Узнав об этом, троянцы вышли из города, навязали грекам бой и стали теснить их к гавани, где стояли на якорях греческие корабли. Греки в панике обратились за помощью к Ахиллу, но тот снова отказался выйти в поле, хотя и согласился послать туда своего побратима Патрокла. Но когда главный герой троянцев Гектор (еще один сын; царя Приама) убил Патрокла, обуянный жаждой мести Ахилл бросился наконец в бой и, в свою очередь, убил Гектора. Он устроил торжественное сожжение трупа Патрокла и намеревался уже предать позорному погребению останки Гектора, но прибывший в его шатер престарелый царь Приам воззвал к его состраданию и к чувству воинской чести и в конце концов буквально вымолил у него труп своего сына. «Илиада» начинается со слов: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» — то есть с эпизода ссоры Ахилла с Агамемноном, а кончается сценой сожжения останков Гектора в стенах Трои. Иными словами, ее действие занимает несколько считанных дней. О завершении войны (как и о ее начале), а также о дальнейших судьбах ее героев мы знаем все из тех же внегомеровских источников (в переложении главным образом Аполлодора и Аполлония), которые рассказывают о гибели Ахилла, сраженного стрелой Париса, о гибели самого Париса, о взятии Трои с помощью Одиссеева «Троянского коня» и расправе с уцелевшими сыновьями и дочерьми Приама (Кассандра становится наложницей Агамемнона, Андромаха — Неоптолема, Поликсену приносят в жертву на могиле Ахилла). Из тех же источников (а не только из «Одиссеи») становится известно, что во время возвращения героев из-под Трои многие из них погибли в буре, насланной богами в отместку за насилие, совершенное Аяксом Локридским над Кассандрой, — Менелай и Одиссей были унесены ветрами в дальние страны, где многие годы странствовали в поисках пути на родину; Агамемнон по возвращении в Микены погиб от рук собственной жены и ее любовника. Так что в целом Троянскому походу суждено было стать, как оказалось, последним великим совместным деянием древних греков и как бы ознаменовать собой завершение их древнейшей «героической эпохи»{8}. Наш пересказ может породить впечатление, что «Илиада» — это, в сущности, не столько рассказ о Троянской войне как таковой, сколько рассказ об одном ее небольшом эпизоде — о «гневе Ахилла», о том, как обиженный Ахилл сначала укрылся в своем шатре, не желая сражаться под началом Агамемнона, а потом силою обстоятельств был как бы «вытолкнут» снова на сцену боя, в центр событий. Это так и не так. С одной стороны, в центре «Илиады» действительно находится некий интересный, яркий и по-своему увлекательный эпизод, который в прошлом, до Гомера, вполне мог бы стать (а может быть, и был) сюжетом отдельной небольшой эпической песни. С другой стороны, по мере знакомства с тем, как излагает Гомер этот эпизод, становится все более ясно, что у него он служит скорее рамкой повествования, неким организующим стержнем, позволяющим исподволь и как бы вполне естественно вплести в рассказ события многих предшествующих лет войны, другие ее яркие эпизоды, впечатляющие характеристики ее главных героев и их взаимоотношений, а попутно и многое, многое другое — о людях, о. городах, о странах, о плаваниях, о богах, о пирах, о битвах и так далее, и так далее, иными словами — сделать из незамысловатого эпизода то художественное целое, что, собственно, и составляет литературу. «Гнев Ахилла», таким образом, оказывается мощным художественным средством, дающим автору возможность воссоздать гигантскую эпопею микенско-троянских времен. Типичная литература, этакая «Война и мир» трехтысячелетней давности или, если переиначить Белинского, «энциклопедия всей героической эпохи». И тут, после долгого отступления, мы возвращаемся наконец к обещанному разъяснению, почему современные специалисты считают достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал некий конкретный человек по имени Гомер, который был автором этой гениальной эпопеи. Специалисты-филологи говорят, что эта эпопея никак не могла быть продуктом некоего «коллективного устного творчества» — уже хотя бы потому, что ее продуманная «выстроенность», ее сюжетная и композиционная «организованность», ее «литературность», наконец, — все это неоспоримо свидетельствует об индивидуальном замысле. Почерк индивидуального гения безошибочно виден в том, с какой поразительной композиционной стройностью, как необыкновенно гармонично организован в «Илиаде» весь ее огромный материал, с какой продуманностью он расположен относительно объединяющей его сквозной сюжетной оси, как изобретательно поддерживается при этом его драматичная напряженность с помощью искусно вплетенных в сюжет многочисленных «отступлений в прошлое», играющих роль своего рода «сюжетных задержек», которые последовательно нагнетают у слушателей нетерпеливое ожидание триумфальной развязки (этот древний прием отлично знаком всем зрителям современных кинотриллеров и читателям современных детективов). В конце концов, ожидания, как мы уже знаем, разрешаются благополучно: Ахилл появляется из своего шатра, и «Илиада», как и положено триллеру, завершается своего рода мстительным хэппи-эндом — поражением троянцев и смертью Гектора. Патриотические слушатели Гомера, несомненно, жаждали этого возмездия. Может быть, они даже рукоплескали ему. Тем более что рассказ о последующей гибели самого Ахилла был расчетливо, иначе не скажешь, вынесен автором за скобки всей этой симфонической «романной» структуры. Однако, строго говоря, поэма не кончается на мстительной ноте. Подлинный конец «Илиады» — это плач Приама над убитым Гектором, плач, который смягчает даже сурового Ахилла, плач, в котором горькая и трагическая изнанка войны совсем по-иному высвечивает ее героическую красоту, незадолго до того воспетую тем же Гомером. Так что, в конечном счете, «Илиада» все-таки не завершается стандартным хэппи-эндом и не оборачивается банальным триллером. Пафос гомеровской поэмы куда шире и грандиозней, говорят специалисты. Созданная спустя столетия после конца «героической эпохи», она не просто отображала ее трагический закат: противопоставив его описанной перед тем с той же художественной силой картине величественного расцвета ахейской державы, объединенной под руководством могущественных Микен, она одновременно должна была заронить в душу слушателей тоску по этому былому величию, а заодно и по былому и утраченному единству. Может быть, высокий авторитет Гомера у потомков как раз и был вызван тем, что его рассказ позволял им предчувствовать и предвидеть новое единство вслед за «темными веками», отделявшими героическую эпоху от уже начинавшегося «ренессанса»? Таковы, говоря вкратце, основные выводы современной науки касательно личности Гомера. Однако, ограничившись этими выводами, мы, пожалуй, не приблизимся к ответу на вопрос, в какой степени можно доверять свидетельствам Гомера. Напротив, кое у кого сомнения в достоверности гомеровского рассказа, возможно, даже усилятся. В самом деле, скажет иной скептик, если даже современные специалисты подтверждают, что этот рассказ был сочинен, т. е. представляет собой художественный вымысел некоего автора, и вдобавок был подчинен не только художественным, но отчасти даже идеологически-патриотическим задачам, то можно ли ожидать, что такой рассказ будет исторически правдивым? А может быть, это всего лишь приятная для греческого слуха легенда? Знаем же мы, к примеру, такой, тоже авторский, поэтический роман — знаменитую «Песнь о Роланде», в которой гибель обыкновенного франкского рыцаря, павшего в засаде, которую устроили ограбленные им баски, преображена в героический национальный эпос о «великой битве» христиан… с маврами. Сомнения эти вполне естественны. Чтобы развеять их, нужно выяснить, как отвечает современная филология на вопрос о соотношении преображающего вымысла Гомера с реальной правдой греческой истории. Обратимся к филологии. >ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМА ГОМЕРА Вопрос о соотношении гомеровских поэм с исторической реальностью находится в центре так называемой «проблемы Гомера», споры вокруг которой продолжаются в филологической науке уже добрых полтораста лет. Мы уже говорили в предыдущей главе, что, по одной из версий, первый полный письменный текст этих поэм появился только во времена афинского тирана Писистрата (560–529 гг. до н. э.). Эта «Писистратова версия», выдвинутая итальянским философом XVIII века Джамбатиста Вико, была у него связана с весьма решительным утверждением, будто никакого Гомера на самом деле не было, а прозвище это (одни толкуют его как «слепой», другие — как «заложник») в действительности означало весь коллектив «аэдов», сказителей древних преданий, устно передававших разрозненные части будущей «Илиады» вплоть до писистратовых времен, когда она только и обрела благодаря записи вид единой поэмы. Хотя против этой гипотезы выступали уже многие современники Вико (Гете, например, Даже написал целый трактат, доказывая принадлежность «Илиады» одному автору), она возымела большое влияние, и первые серьезные филологические исследования, посвященные «проблеме Гомера», ставили своей главной целью разъять гомеровский текст на более мелкие куски, якобы принадлежащие различным более ранним устным сказаниям. Такой подход, рассказывают Л. Гиндин и В. Цымбурский в упоминавшемся мною (во вступлении) филолого-лингвистическом исследовании «Гомер и история Восточного Средиземноморья», основывался на господствовавшем поначалу в филологии XX века априорном представлении об устном народном эпосе как о совокупности «окаменевших» текстов, которые после своего создания передавались неизменными от певца к певцу и могли лишь «состыковываться» в готовом виде в более крупные поэмы. Считалось также, что сюжеты этих малых «первичных» текстов должны были быть крайне простыми, а поскольку Гомер начинает «Илиаду» с обещания рассказать о «гневе Ахилла» и затем то и дело нарушает это обещание многочисленными сюжетными отступлениями — в сущности, перебивает сюжет другими короткими рассказами, — такое построение казалось как раз подтверждением того, что «Илиада» является механической смесью «простых» первичных текстов. Был, дескать, в глубокой древности простенький рассказ об Ахилле и Агамемноне, построенный на традиционной формуле «обида — примирение», характерной для многих эпических сюжетов, и к этому рассказу постепенно присоединялись другие, побочные. Эта теория продержалась до 20-30-х годов нашего века. Затем, однако, в результате углубленного изучения эпических традиций, сохранившихся у некоторых балканских и азиатских народов, было выявлено, что от певца к певцу передаются не столько готовые тексты, сколько, скорее, «формульные конструкции» — набор традиционных сюжетов, канонизированных образов и ситуаций, словесно-ритмических формул и тому подобных «готовых наборов», с помощью которых каждый сказитель создает всякий раз заново рассказываемую им историю. Когда эта закономерность была проверена на материале поэм Гомера, оказалось, что и он самым широчайшим образом пользовался таким приемом. Один из исследователей подсчитал, что в некоторых частях его поэм — например, в зачинах и окончаниях речей героев или в характеристиках действующих лиц, — «формулы», от простейших до самых сложных, занимают около 90 процентов текста! Так, уже в первой песне «Илиады» предводитель. Троянского похода, микенский царь Агамемнон, именуется то «пространно-властительным», то «могучим», то «гордым могуществом», то «повелителем мужей»; а пройдя по всем 24 песням поэмы, можно обнаружить, что буквально для каждого из важнейших ее героев заготовлен набор из десятка и более таких характеристик, чередующихся в самом разнообразном порядке. Как ни странно, именно эта «формульность» гомеровской поэтики позволила М. Пэрри и А. Лорду выдвинуть утверждение, что Гомер был «индивидуальным автором внутри коллективной традиции». Это утверждение может показаться противоречивым, однако в действительности оно вполне логично. В самом деле, в том смысле, что некое эпическое сказание, каждый раз импровизируется данным певцом заново, оно действительно является его индивидуальным творчеством; но в том плане, что певец всякий раз использует общий набор элементов, присущий данной культуре и знакомый ее носителям, его произведение, несомненно, принадлежит к коллективному творчеству. Иными словами, Гомер, по мнению Лорда и Пэрри, был гениальным реализатором коллективного эпического канона. Такой точке зрения противостоял В. Шадевальдт, который в конце 30-х годов предложил изучать каждый эпизод. «Илиады» с точки зрения его функций в составе поэмы как целого и показал, используя этот подход, что гомеровская «Илиада» отличается от обычного эпоса наличием строго организованного единства. Ни один из ее эпизодов нельзя изъять, не нарушив общей связности поэмы. Композиция «Илиады» оказалась продуманной и структурно, и эстетически, а это возможно только в том случае, если текст всецело является авторским, то есть ближе к тексту, скажем, Вергилия, чем к песням неграмотных устных сказителей; это не просто реализация эпического канона, а творческое переосмысление его. Однако ведь и авторский текст может быть совершенно различным: грубо говоря, одни авторы создают близкие к подлинной истории романы-хроники, другие расшивают по исторической канве самые фантастические узоры. Что же создавал в этом смысле Гомер? Для суждения о соответствии гомеровских поэм исторической реальности войны ответ на этот вопрос имеет решающее значение. Здесь тоже имели место (и частично до сих пор продолжаются) ожесточенные споры: одни ученые — вроде Д. Пэйджа («История и «Илиада» Гомера», 1959) или Майкла Вуда («В поисках Троянской войны», 1986) — увлеченно утверждали, что «Илиаду» следует считать весьма или даже вполне надежным историческим источником, находя доказательства этого в данных современной археологии и лингвистики; другие, как влиятельный Майкл Финли («Троянская война», 1964), выражали изрядный скепсис в отношении историзма Гомера, находя в его творчестве многие черты сказки и мифа (достаточно вспомнить, что боги играют в «Илиаде» почти такую же роль, что земные герои, да и многие из этих героев описываются как дети богов). Но большинство филологов-гомероведов занимает в этом вопросе срединную позицию, которая совмещает оба указанных взгляда. С одной стороны, говорят эти филологи, эпос, в том числе и гомеровский, бесспорно содержит много мифических и сказочных элементов, поскольку он вырастает, ведет свое начало из мифа и сказки. Тем не менее эпос все-таки отличен от мифа. Как объяснял, например, замечательный российский исследователь мифопоэтики Е. Мелетинский, миф рассказывает о временах «создания» мира и всех его существующих форм, тогда как эпос занимается прежде всего «ключевыми», «героическими» периодами народной истории — вспомним былины о Владимире Красное Солнышко, героизирующие историю Киевской Руси, или, скажем, «Песню о Нибелунгах», отражающую становление раннегерманского общества в том же духе героических сказаний. Во всех этих классических памятниках мировой литературы прошлое народа воплощается по одному и тому же «эпическому канону» — в героических образах и великих деяниях. Все подобные произведения, как правило, монументальны по размаху, и все они, как показывают исследования, представляют собой заключительную стадию развития эпоса — стадию перехода к индивидуальному творчеству. Таким же было, как мы уже знаем, и творчество Гомера. Что же можно сказать об историзме такого эпоса? Этот историзм представляется несомненным (ведь и древний Киев с князем Владимиром, и раннегерманское племенное общество, и другие коллективные герои национальных эпосов различных народов существовали вполне реально), но он весьма специфичен. Эту специфичность блестяще вскрывает характеристика, предложенная крупнейшим специалистом по древним религиям Мирчей Элиаде: «Память об исторических событиях и о подлинных персонажах меняется по истечении двух-трех столетий таким образом, чтобы их можно было подвести под шаблон архаического способа мышления, неспособного к восприятию индивидуального и удерживающего в памяти лишь образцовое, то. есть сводящего события к категориям, а личности — к архетипам». Иными словами, в эпической поэзии появление, былинных, сказочных, мифологических черт попросту неизбежно, но это нисколько не противоречит ее сущностной историчности, поскольку, с другой стороны, в ней непременно должны содержаться и некоторые подлинные, фактические приметы былой истории, которые устный эпос не мог не увлечь с собой в своем развитии, как те зерна, вокруг которых только и могли кристаллизоваться его «архетипы». Эти «зерна» невозможно извлечь средствами одного лишь филологического анализа тут требуется помощь археологии и лингвистики. Мы еще обратимся к показаниям этих наук по вопросу о Троянской войне, здесь же ограничимся лишь несколькими частными примерами, подтверждающими наличие несомненных отголосков исторической реальности в эпических поэмах Гомера. Так, средства современного лингвистического анализа, основывающегося на том, что известно сегодня о диалектах Древней Греции, позволили обнаружить в гомеровском тексте прямые заимствования из языка, на котором говорили за полтысячи лет до Гомера, в древних Микенах. Немецкий исследователь Рейх заметил, что часто встречающаяся в «Илиаде» поэтическая «формула», которую можно перевести как «сила Гераклова», не укладывается в размер гекзаметра, которым написана поэма, но если написать имя Геракла так, как оно, судя по лингвистическим данным, произносилось в Древних Микенах, это противоречие немедленно исчезает. Можно думать поэтому, что данная «формула» сложилась еще в микенскую эпоху и дошла до Гомера неизменной, несмотря на изменившееся произношение. Другое яркое свидетельство в пользу исторической достоверности «Илиады» приводит И. Вуд в своей книге «В поисках троянской войны». Речь идет о так называемом «списке кораблей» во 2-й песне «Илиады». Этот список представляет собой в действительности перечень 164 греческих городов, которые послали свои корабли с воинами для участия в общем походе на Трою. Его отличие от общего стиля «Илиады», неуместность в той части текста, где он находится, и определенные расхождения с остальным текстом поэмы настолько бросаются в глаза специалистам-языковедам, что некоторые исследователи уже давно заподозрили здесь инородную вставку, а Д. Пэйдж даже выдвинул увлекательную гипотезу, что это — подлинный документ времен Микен, своего рода воинская диспозиция, отражающая расположение участников похода во время сражения. Действительно, такие длинные, однообразные списки имен, названий, предметов и т. п. были весьма характерны для древности, для периода возникновения первых, еще пиктографических (т. е. рисуночных) письменностей (полагают, что эти письменности и возникли-то из-за необходимости составлять такие списки). Но в «списке кораблей» есть и другая любопытная деталь, глубокая историчность которой выявилась лишь в наше время благодаря новейшим данным археологии. Здесь упоминаются некоторые подвластные Микенам города, многие из которых во времена Гомера уже не существовали, превратившись в руины, — например, «ветреный Эниспе» или «песчаный Пилос». Как мог Гомер знать о самом существовании этих городов, не говоря уже об этих их особенностях? А между тем раскопки Шлимана и других археологов подтвердили все эти детали. Об историзме Гомера столь же убедительно свидетельствуют и его характеристики Трои. Если бы эпос не содержал крупиц исторической реальности, Гомер никак не мог бы узнать о слабости троянских стен в одном определенном их месте — ведь эти стены давно были погребены под вековыми отложениями. Между тем раскопки Дорпфельда показали наличие такой «слабины» именно в том месте, о котором говорит «Илиада»! Правдивыми оказались и гомеровские описания военного снаряжения, упоминаемые в описании сражений под стенами Трои. Некоторые нестандартные детали этих описаний, вызывавшие недоверие историков, — например, шлем Гектора, украшенный полоской «медвежьих зубов», или «подобный башне» щит большого Аякса, — были впоследствии найдены на изображениях микенского времени, обнаруженных в ходе раскопок Шлимана, Эванса и др. Наличие и обилие всех этих реальных свидетельств далекого прошлого вынудило даже такого убежденного скептика, как М. Финли, признать, что «Илиада» во многом верно воссоздает картину жизни Древней Греции времен расцвета Микен и Трои. Подытоживая, можно сказать, что историко-филологический анализ гомеровских поэм, проведенный учеными XX века, несомненно, приблизил науку к решению загадки Троянской войны. Он показал, что «Илиада» правдиво отражает определенные исторические реалии далекого прошлого, а потому и описываемую в «Илиаде» Троянскую войну тоже может считать более или менее правдивым отражением исторической реальности. Требовать более решительного утверждения попросту нельзя. Филологический анализ не может доказать, что такая война действительно имела место. Как мы уже видели, славные войны и героические походы — одна из обязательных примет любого эпоса («категория архаического сознания», по определению Мирча Элиаде): такое сознание всегда мыслит прошлое в категориях славных войн и великих походов, независимо от того, происходили они в действительности и были ли они славными и великими. Поэтому реальность отдельных деталей — условие, хотя и необходимое, но еще недостаточное для убедительного вывода о том, что они некогда воевали друг с другом. Филологический анализ подводит к выводу о правдоподобии такой войны, но не дает и не может дать однозначных доказательств ее исторической реальности. Такие доказательства могут скрываться только в развалинах древних городов или в текстах древних рукописей. Обратимся поэтому к этим свидетелям истории — к памятникам и документам. >ГЛАВА 4 ТРОЯ И МИКЕНЫ Историко-филологический «суд над Гомером» не помог нам вынести однозначный вердикт касательно исторической подлинности или вымышленности описанной им в «Илиаде» Троянской войны. Реальность этого события может быть подтверждена или опровергнута только археологическими и лингвистическими изысканиями. Но любой археолог, который и впрямь вознамерился бы проверить правдивость гомеровского рассказа, тотчас оказался бы перед трудностью, которую выразительно охарактеризовал английский историк и писатель Майкл Вуд в своей книге «Поиски Троянской войны»: «В определенном смысле проблема историчности Троянской войны не очень изменилась со времен Фукидида, — пишет Вуд. — Гомер и мифы рассказывают нам некую историю; называемые ими места все еще существуют: некоторые из них демонстрируют явные признаки былой могущественности; другие столь же явно свидетельствуют о своей полной незначительности. Если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, как считал Фукидид, то как это доказать? Если вдуматься, Гомер рассказывает историю, в которую на первый взгляд, зная школьную историю Греции, действительно трудно поверить. Он утверждает, будто в XIV–XIII веках до н. э., т. е. чуть ли не за тысячу лет до той «классической эпохи», которую мы, собственно, и привыкли считать «Древней Грецией», здесь уже существовала могущественная цивилизация, охватывавшая почти всю территорию этой страны, включавшая в себя разбросанные по ней многочисленные города-царства во главе с Микенами и способная одновременно выставить в поход сотни боевых кораблей и тысячи воинов, как описывается в «Илиаде». В это трудно поверить еще и потому, что упоминаемые Гомером центры этой цивилизации: те же «богатые золотом» Микены, «крепкостенный Тиринф», «пыльный Πилос», «обильный стадами Орхоменос» и другие — уже в Гомеровы времена представляли собой крохотные, нищие городки, а то и просто груды развалин, да и вся греческая земля была не более чем полупустынным, нищим, безрадостным и необжитым пространством, где лишь предстояло спустя столетия подняться городам и крепостям, дворцам и храмам классической эпохи. Разумеется, Месопотамия или, скажем, Палестина тоже выглядели, еще и в XIX веке, пустынными, нищими и безрадостными, хотя, как мы знаем, за тысячи лет до того здесь действительно сменяли одна другую великие культуры. Но о тех культурах хотя бы свидетельствовали письменные памятники далекого славного прошлого, а единственным «доказательством» существования гомеровской «героической эпохи» был только рассказ самого Гомера да мифы и легенды весьма сказочного, скажем мягко, характера». Отыскать письменные памятники гомеровской «микенской цивилизации», изображенной в «Илиаде», нечего было и думать — еще и в начале XX века считалось, что письменность в Греции появилась не раньше, а то и позже Гомера, в VIII веке до н. э., то есть спустя добрых четыре-пять столетий после пресловутой Троянской войны. Стало быть, археолог, ищущий следы этой войны, мог уповать лишь на раскопки в тех местах, которые Гомер упоминал в связи с походом на Трою, — прежде всего, понятно, на раскопки самой «Приамовой» Трои и «Агамемноновых» Микен, но также, если повезет, — Орхоменоса, Тиринфа, Пилоса и многих других, что перечислены в пространном «списке кораблей» во второй главе «Илиады». Поскольку почти все эти города, как уже сказано, в виде развалин сохранились до нашего времени, обнаружить их местоположение не составляло особого труда. Вот как выглядел по состоянию на вторую половину XIX века примерный инвентарный список этого «гомеровского наследия». Открывала список, разумеется, Троя. Со времен Гомера ее приблизительное местоположение было известно всегда. Практически не было такой эпохи, когда бы современники не могли уверенно указать, где находится этот знаменитый город (что, кстати, в немалой степени подкрепляло их веру в правдивость гомеровского рассказа). С гомеровских времен и вплоть до эпохи Александра Македонского, то есть на протяжении пяти с лишним столетий, в Малой Азии, вблизи пролива Дарданеллы, существовал город, именовавшийся «Эллинской Троей», или «Новым Илионом», с величественным храмом Афины и протяженными стенами, которые, по преданию, включали в себя и останки стен Древней Трои. Чуть позже, примерно в 300 году до н. э., полководец Александра Лизимах построил южнее этой крепости новый город, назвав его Александрией Троянской; этот город (во всяком случае, его развалины) просуществовал до римских времен. Через шесть столетий после Лизимаха римский император Константин (тот, что сделал христианство официальной религией империи) построил на месте бывшей «Эллинской Трои» еще один город, который впоследствии получил название «Византийской Трои». Эта очередная Троя, в свою очередь, просуществовала несколько столетий. Ее развалины видны были даже тысячу с лишним лет спустя, во времена султана Бехмета (взявшего Константинополь). За эти тысячелетия (а от Гомера до Бехмета прошло как-никак две тысячи триста лет) Троя благодаря гомеровским поэмам превратилась в место настоящего паломничества — не было, кажется, такой исторически важной персоны, от Александра Македонского в 334 году до н. э. и до лорда Байрона в 1810 году н. э., кто не почел бы своим долгом лично приобщиться к древней славе этого места и произнести какие-нибудь подобающие ситуации слова. Александр Македонский, как утверждали его верноподданные биографы, нашел здесь (под алтарем храма Афины) меч «самого Ахилла», с которым отправился затем на завоевание Азии; Юлий Цезарь поклялся восстановить Трою и сделать ее столицей Римской империи; Константин Великий повторил эту клятву (что не помешало ему впоследствии перенести свою столицу на берега Босфора, в стратегически более важный Константинополь); и еще спустя тысячу с лишним лет упомянутый выше турецкий султан Бехмет, поставив ногу на указанную ему переводчиками «могилу Аякса», провозгласил, что, взяв Константинополь, он-де всего лишь отомстил грекам за разрушение Трои! Словом, Троя — как город, как населенное место — была несомненной исторической реальностью — уже с времен «классической» Греции и вплоть до недавней современности. Печальный факт, однако, состоял в том, что уже к началу XVII века развалины последней по счету Трои тоже были полностью погребены землей. Как писал тогдашний английский автор, «даже руины были уничтожены». Одной из причин тому было беспощадное время, другой — усердно помогавшие ему небольшие, но частые землетрясения, по сей день весьма характерные для этих малоазийских мест. В результате ТОЧНОЕ знание местонахождения «Приамовой Трои» было утрачено. Ее европейским искателям (а любителей искать ее всегда хватало) приходилось руководствоваться разве что указаниями «Илиады» и некоторых греческих мифров. Мифы эти, при всей их сказочности, содержали важные детали. Так, в одном из них (записанном в V веке до н. э. Аполлодором Афинским) рассказывалась «предыстория» гомеровской Трои. Жил будто бы некогда некий Илус, который заложил на западном берегу Малой Азии город Илион, он же Троя, окруженный мощными стенами и нависавший над самым проливом Дарданеллы, ведущим в Черное море и в Колхиду (от Дарданелл, надо думать, и название жителей Трои, которых Гомер зачастую именует «дарданцами»; впрочем, вполне возможно, что и наоборот: от жителей пошло современное название пролива). Илус якобы оставил свое Троянское царство сыну Лаомедонту, а тот, видимо, чем-то раздосадовал греков-ахейцев, потому что миф рассказывает далее, что великий Геракл, прервав, по разным «объективным причинам», свое участие в походе аргонавтов, решил навести порядок на берегах Дарданелл и предпринял поход против Трои. Поход оказался удачным для греческого героя и сокрушительным для Трои: Геракл сжег город, разрушил его стены, убил в рукопашной схватке царя Лаомедонта и посадил вместо него молодого Приама — того самого, которого в рассказе Гомера мы встречаем уже почтенным старцем с пятьюдесятью сыновьями, и двенадцатью дочерьми во дворце. Судя по этой детали, поход Геракла состоялся примерно за 2–3 поколения до Троянской войны (это значит: в XIV или, может быть, даже в XV веке до н. э.). Если довериться этому сказанию, из него можно извлечь весьма любопытные выводы. Самым важным в местоположении Трои было то, что она прикрывала — проход в Дарданеллы. Троянцы, таким образом, владели ключами к Черному морю. Это обстоятельство было крайне существенным. Поскольку греки издавна вели торговлю с народами на черноморских берегах (не случайно аргонавты искали золотое руно именно в Колхиде), свобода судоходства через Дарданеллы была для них, надо думать, весьма небезразлична; троянцы же эту свободу, видимо, пытались ограничить — в свою, разумеется, пользу. Это позволяет думать, что сказание о походе Геракла на Трою является одним из отголосков этой давней и длительной «борьбы за проливы» между греками и троянцами. Комментируя это сказание, Р. Грейвз («Греческие мифы», 1955, гл. 137) замечает, что «Лаомедонт, видимо, препятствовал греческим торговым экспедиция в Черное море, и приструнить его можно было, только разрушив город, владевший Дарданеллами». Не был ли, в таком случае, и следующий поход греков на Трою — тот, что описан Гомером, — еще одной такой «карательной экспедицией»? Как бы то ни было, всего сказанного еще недостаточно, чтобы найти, где в точности располагалась древняя Троя. Но, к счастью, есть ведь рассказ Гомера, а рассказ Гомера, надо сказать, в любом своем месте изобилует живыми, точными и зримыми деталями. И там, где Гомер описывает Трою, тоже так и видишь — могучие стены на высоком холме над равниной и две извивающиеся по ней реки (Скамандр и Симиос, ныне турецкие Медерес и Думрек Су), по которым корабли греков поднимаются почти к самым стенам;.так и слышишь вой бешеных ветров, бушующих над осажденным городом; так и ощущаешь жар, идущий от одного из бьющих под стенами источников, и ледяной холод, идущий от другого… — но здесь, пожалуй, лучше передать слово самому Гомеру (песнь 22-я, строки 145–153, сцена погони Ахилла за Гектором): «Мимо холма и смоковницы, Как он писал, этот слепой гений, три тысячи лет назад, вы только вслушайтесь: «…хладный, как град, как снег; как в кристалл превращенная влага»! Вернемся, однако, к скучной прозе. А скучная проза жизни состоит в том, что ни одно из этих поэтических указаний Гомера, увы, не помогает, оказывается, обнаружению Древней Трои. Злые колючие ветры никогда не прекращаются на всей равнине бывшего Скамандра (на это непрерывно жаловался потом в своих письмах с раскопок Генрих Шлиман); эта равнина действительно изобилует ключами, но двух таких, где. температура воды разнилась бы так сильно, как указывается в «Илиаде», ни одному искателю «Приамовой Трои», несмотря на все усилия, найти не удалось; а что касается кораблей, поднимавшихся по реке к самой крепости, то за прошедшие тысячелетия воды в этих местах отступили так далеко от прежних берегов, что ни один холм на равнине Скамандра (Мендереса) сегодня не имеет прямого выхода к морю. (Это, между прочим, было еще одной причиной упадка и разрушения последней по счету, «византийской», Трои.) Иными словами, стоя на Троянской равнине и оглядываясь кругом, можно сказать только, что Древняя Троя погребена, по-видимому, где-то в толще какого-то из многочисленных окрестных холмов, да вот беда — неизвестно какого. Иное дело Микены. Здесь в точном местонахождении древнего города не приходилось сомневаться. Даже в наше время стоит выйти из автобуса, приволокшего тебя по извивам дорог из далеких и шумных Афин в тишину курчавых гор Арголиды, как нетерпеливому взгляду тотчас открываются (точно такие, как представлял) — зубцы древних стен, охватывающие заросшую вершину крутого холма, а в тех стенах — знаменитые Львиные ворота, на удивление невысокий проход, охраняемый двумя вставшими на задние лапы безголовыми каменными львами. Знаменитое, древнее, почти «знакомое» место — только разве что неожиданно невзрачное и стесненное, как на нынешний туристский вкус. Только размах соседствующей с развалинами громадной пещеры, именуемой «гробницей Атридов», один лишь и способен, пожалуй, примирить ворчливого туриста с потерей целого дня в утомительной поездке. Почти в таком же жалком виде «Агамемноновы» Микены находились уже в гомеровские времена: древнегреческий историк Фукидид, описывая (в V веке до н. э.) город под таким названием (тогда это еще был город, а не сегодняшние развалины), называл его «небольшим», сообщая, что на битву под Фермопилами тогдашние Микены выставили всего 40 человек! Впрочем, уже через несколько столетий и этот жалкий городок исчез, превратившись в развалины, и уже во II веке н. э. историк Павсаний с удивлением размышлял: неужто эти руины и есть великая столица Агамемнона? Почти две тысячи лет спустя, в 1876 году, Шлиман увидел руины Микен в точности такими, какими их описывал Павсаний. То же самое можно сказать и о других древних «царских столицах», упоминаемых Гомером. В тех же местах, на Пелопонесском полуострове (это, кто не помнит, юго-западная оконечность материковой Греции), вплоть до наших времен поближе к морскому побережью были видные уцелевшие остатки поистине циклопических укреплений гомеровского «крепкостенного Тиринфа». А в срединной Греции, вблизи Афин, можно было увидеть развалины некогда «богатого стадами» Орхоменоса. Несколько хуже обстояли дела с «песчаным Пилосом», еще одним центром воспетой Гомером «микенской цивилизации». Хотя город с таким названием существует и сейчас, на западном берегу Пелопонесса, но недаром у греков издавна была в ходу поговорка: «После Пилоса был еще один Пилос, а рядом еще один»; города с таким названием сменяли в этих местах друг друга неоднократно, так что найти погребенные в земле руины самого древнего из них, гомеровского, тоже было непросто. Шлиман, во всяком случае, ошибся, начал искать Пилос. не там, ничего, естественно, не нашел и в досаде прекратил раскопки. Только перед самой Второй мировой войной Карлу Блегену удалось отыскать «настоящий» древний Пилос. Проведя эту беглую «инвентаризацию руин», мы можем лишь, кажется, воскликнуть вслед за другими скептиками: «Да действительно ли существовала, и притом уже в той баснословной, покрытой мраком забвения древности, то бишь в XIV–XIII веках до н. э., — та могущественная «микенская цивилизация», которую изобразил Гомер в своей «Илиаде»? Да неужто уже в те «варварские», по греческим меркам, времена этот невзрачный ныне городок Микены был столь могуществен и влиятелен, что мог организовать общегреческий — многолюдный, многокорабельный и многолетний — поход против Трои?» Пыльная скудность всех этих развалин способна, скорее, убедить лишь в обратном. Как я уже заметил, мы не окажемся одиноки в своем скептицизме. Этот вопрос задавал себе еще Фукидид, удивленный неприглядностью современных ему Микен, и из его текста видно, как он буквально заставлял себя поверить в правоту Гомера: «Верно, Микены. — небольшой город, и многие города того периода выглядят сегодня не очень внушительно, но мы… не имеем права судить города по их внешнему виду, а не по их реальному могуществу.» Весь вопрос, однако, как раз и заключался в том, существовало ли в описанные Гомером времена это «реальное могущество». И здесь нам остается лишь вернуться к уже процитированным словам Майкла Вуда: «В определенном смысле проблема… не очень изменилась со времен Фукидида — если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, то как это доказать?» Специалисту, историку, ученому и впрямь очень трудно найти это зерно. Он знает, что когда-то, примерно за две тысячи лет до нашей эры, Греческий полуостров заселили дикие племена, пришедшие откуда-то из глубин Малой Азии или Балкан; что и после этого здешние земли раз за разом становились добычей очередных завоевателей-варваров, последними из которых были вторгшиеся с севера (примерно в 1100 году до н. э., много позже предполагаемых времен Троянской войны) племена дорийцев; что затем в истории Древней Греции наступил многовековой провал, который ее собственные (более поздние) летописцы назвали «Темными веками»; и что из этого своего беспамятства Греция вышла на свет истории лишь в начале VIII века до. н. э. — скудно заселенной, бедной, безграмотной страной, самый великий тогдашний поэт которой, Гесиод, сочинял свою (ныне знаменитую) философско-мифологическую поэму «Теогония», в изнеможении бредя за буйволом, медленно тащившим железный плуг по нищей борозде. Величие того, что мы сейчас называем «Древней Грецией», лежало далеко впереди Гомера и Гесиода, и какой же грамотный историк решился бы (без всяких тому фактических подтверждений, на основании одних лишь поэм Гомера) всерьез утверждать, что еще большее величие Греции лежало далеко позади, за бездной «Темных веков», еще до вторжения дорийцев, в некой «героической эпохе» некой «микенской цивилизации»? Уже тогда разговоры о «великих исчезнувших цивилизациях» (о которых к тому же зачастую и по сей день утверждается, будто они намного превосходили цивилизации современности) вызывали у всякого серьезного ученого определенную интеллектуальную неловкость. Не случайно ведь педантичный немецкий историк XIX века Г. Гроте начал свою «Историю Греции» лишь с Олимпиады 776 года до н. э., с первого греческого события, о котором есть надежные письменные свидетельства: «Все предшествующие времена, — писал он, — это область поэзии и легенд». К счастью для науки, за поиски Трои и Микен взялся любитель-дилетант, который не был серьезным ученым и потому верил в правдивость этих «легенд». Этим смельчаком, как всем сегодня известно, был Генрих Шлиман. >ГЛАВА 5 ШЛИМАН: ОТКРЫТИЕ МИКЕНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Существуют, две биографии Генриха Шлимана. Согласно первой из них, любящий отец (протестантский пастор) подарил семилетнему сыну толстую книгу «Всеобщая история», содержавшую пересказ «Илиады», и тем самым навсегда заронил в маленького Генриха мечту отыскать описанную Гомером Трою. Дальнейшее общеизвестно: разбогатев на деловых операциях, Шлиман решил осуществить свою детскую мечту, сменил сюртук бизнесмена на блузу археолога, отыскал, согласно указаниям Гомера, в которые он свято верил, старинный холм, в толще которого скрывались остатки древней Трои, и — раз-два! — обнаружил там ее развалины. Затем он примерно тем же способом (раз-два!) нашел в развалинах Микен гробницу древнего царя Агамемнона, руководившего, согласно Гомеру, походом греков на Трою, и тут уж его слава стала поистине всемирной, но в это время он как-то неожиданно умер — упал прямо на улице и в одночасье скончался. Лет его жизни, как говорилось в старину, было 68 — с 1822-го по 1890-й. Существует вторая биография Шлимана, не столь — лубочная, как первая. Шлиман, несомненно, заслужил звание «отца археологии», как некогда Геродот — «отца истории», но это не отменяет того факта, что его методы раскопок были ужасны и разрушительны, а датировка — приблизительна и, как правило, ошибочна. Он был неутомим и самоотвержен в археологическом труде, но окружал свои находки шумной и отталкивающей рекламой, достойной скорее бизнесмена, каким он и был, нежели ученого, каким он не был. Он был одарен потрясающей интуицией, но начисто лишен вкуса (чего стоила напыщенная телеграмма, отправленная им в греческие газеты с раскопок в Микенах: «Сегодня я взглянул в лицо Агамемнона»!). Его жизнь была полна удивительных коммерческих подвигов (дерзкие, на грани закона, деловые операции в России, спекулятивная скупка золота у старателей Калифорнии, монополизация порохового рынка во время Крымской войны и другие хищные налеты на легкую добычу), но он еще вдобавок и сам приукрашивал и расцвечивал ее собственным вымыслом (своему отцу, запойному пьянице и мелкому семейному тирану, он писал уже в зрелом возрасте: «Я рассказал журналистам, что это ты впервые познакомил меня с историей Трои и с тех пор я начал мечтать о том, как я ее отыщу…» — словно наставляя престарелого родителя в своей придуманной «на продажу» биографии). Он оставил по себе 11 толстых книг о своих открытиях, 18 путевых дневников, 60 тысяч писем и 175 томов раскопочных тетрадей, но исследователи до сих пор не могут понять, где факт, а где вымысел в этой огромной массе материала. Например, в своей книге «Троя» он рассказал почти детективную историю о том, как во время раскопок Трои его жена, гречанка Софья, приметила в глубине траншеи полускрытое землей золотое ожерелье и как ей пришлось прикрыть его своей длинной юбкой, пока Шлиман не уговорил рабочих разойтись на обед, чтобы скрыть от их завистливых глаз поразительную находку, составлявшую, как оказалось, лишь ничтожную часть богатейшего клада, который впоследствии получил название «сокровища царя Приама». Однако куда более поразительным, чем эта находка, многие тогдашние недруги и нынешние биографы считают тот факт, что в действительности (это доказано вполне надежными документами) Софьи Шлиман в это время не было не только на раскопках, но и вообще в Турции! Был даже пущен слух, что «сокровища Приама» Шлиман купил на стамбульском рынке и сам подбросил в траншею. Доказать или опровергнуть это не удалось: после того как Шлиман тайком от турецкого правительства вывез сокровища в Грецию, основная их часть бесследно исчезла. Сохранились лишь немногие фотографии и среди них самая знаменитая — Софья Шлиман «в диадеме и ожерелье Елены Прекрасной»{9}. Знакомясь с этим списком претензий, начинаешь удивляться — что же все-таки сделал этот человек, которого обвиняют в том, что он чуть ли ничего не сделал? Шлиман сделал великое дело. До него вся так называемая «археология» состояла в том, что сотни любителей искали в старинных развалинах зарытые там сокровища или случайно сохранившиеся старинные, рукописи и предметы искусства; в лучшем случае они составляли описания развалин и собирали то, что лежало на поверхности. Шлиман был первым, кто стал вести планомерные и целенаправленные раскопки, и притом с серьезной научной целью — найти следы древней цивилизации, обнаружить не столько ее клады, сколько ее историю и культуру, проверить рассказы древних об их далеком прошлом. Эти первые широкие поиски материальных свидетельств прошлого и породили всю современную научную археологию как исследовательское орудие историков. Спору нет, они породили также и то, что можно назвать «сенсационной археологией» — ту ее глянцево-приукрашенную, облегченно-газетную версию, что то и дело возбуждает читателей во всем мире открытием какой-нибудь очередной гробницы Тутанхамона. Но в науке главным достижением Шлимана является все-таки не находка «сокровища Приама» или «маски Агамемнона», а обнаружение «Приамовой Трои» и «Агамемновых Микен» — впечатляющее «воскрешение из мертвых» необыкновенно сложного и многоцветного мира, погребенного в глубинах прошлого. Напомню: к началу работ Шлимана наука о человеческой истории находилась в самом зачаточном состоянии; даже термины «палеолит» и «неолит» были придуманы лишь за несколько лет до того, а первая книга о древней истории (Вильсон: «Предысторические анналы») появилась только в 1851 году; но уже тридцать лет спустя Р. Даукинс имел все основания говорить: «Археологи подняли изучение древностей до уровня настоящей науки». И кто же ее поднял на этот уровень за столь короткий срок? Вот именно — Генрих Шлиман в первую очередь. Пусть поначалу дилетантски-грубо, с неизбежными издержками, с ошибками и преувеличениями, но именно он (и поначалу в одиночку) проделал всю или почти всю работу по превращению археологии в науку, — и первый шаг к этому он сделал в 1868 году в Турции, на холме Гиссарлык. Я уже рассказывал, что множество холмов на Троянской равнине оспаривало честь быть хранилищем остатков Древней Трои, подобно тому, как множество городов Древней Греции оспаривали в свое время честь считаться родиной Гомера. Главными фаворитами были Гиссарлык, находившийся на самом краю плато, обрывавшегося к равнине Мендереса-Скамандра, и лежавший несколько дальше в глубине плато Бурунбаши. Шлиман мог бы ошибиться в своем выборе места раскопок (как он впоследствии ошибся при поисках Пилоса), но, на его счастье, сопровождать уважаемого гостя в экскурсии по Трое вызвался большой знаток тамошних мест и по совместительству американский консул в этой провинции Оттоманской империи Франк Кальверт. Этот незаурядный, судя по воспоминаниям, человек тоже интересовался древностями и даже предпринял некогда пробные раскопки на Гиссарлыке. Заложенная им траншея была неглубока и коротка, но и этого хватило, чтобы убедиться, что холм содержит несколько «культурных слоев» (следов существовавших здесь когда-то одно за другим и одно над другим поселений). Под влиянием Кальверта Шлиман решил искать Трою именно на Гиссарлыке{10}. Свои раскопки он начал в 1871 году. К концу третьего года работ Шлиман вскрыл пять последовательных культурных слоев, один под другим, и убедился, что каждый из них представлял собой останки сменявших здесь друг друга древних городов. К сожалению, будучи дилетантом в предпринятом им новом деле, Шлиман приказывал рабочим вести траншею напрямик, сквозь все препятствия, и в результате разрушил попутно многие более поздние останки. Позднее он оправдывался: «Поскольку моей целью было раскопать Трою, которую я ожидал найти в одном из самых нижних слоев, я был вынужден разрушить руины в слоях более высоких». (Как теперь известно, он попутно разрушил руины и той Трои, которую искал.) Тем не менее во втором снизу слое на глубине 15 метров (по нынешней нумерации, это Троя-2) он обнаружил более или менее «гомеровский» элемент: развалины большой крепостной башни. В марте 1873 года в этом же слое были найдены остатки мощеной улицы, покрытые толстым слоем разноцветного пепла (пепел — это пожар, а пожар — это война!), а также развалины двух больших ворот, заваленных обломками. И, наконец, несколько позже, под самый конец сезона, здесь же были раскопаны и знаменитые «сокровища Приама» — золотая «диадема Елены Прекрасной», как тотчас назвал ее Шлиман, собранная из 16 тысяч золотых звеньев, и множество других золотых украшений{11}. Все это убедило его, что он отыскал заветную цель. Да и как иначе: укрепления, сокровища, а главное — пепел! Пепел — это пожар, а пожар — это война, не так ли?! И какая же, если не Троянская? С момента сенсационной публикации всех этих гиссарлыкских открытий за Шлиманом прочно укрепилась слава «человека, который нашел Трою». В каком-то смысле это было справедливо, потому что он действительно нашел «точное местоположение» этого древнего города. Однако ту Трою, которую он искал — гомеровскую, «Приамову» Трою, — найти оказалось значительно труднее. Шлиман поторопился, объявив ею найденную им Трою-2. Это отождествление сразу вызвало у специалистов серьезные сомнения: Троя-2 была слишком мала по размерам (всего 100*80 метров), а грубость и примитивность ее строений никак не соответствовала пышным описаниям Гомера. Шлиман, правда, пытался убедить скептиков (а заодно, наверно, и самого себя), что «Гомер был эпический поэт, а не историк; к тому же он видел Трою через 300 лет после ее разрушения», но и сам не мог не согласиться: «Если Троя действительно была таким небольшим по размерам городком, то несколько сот человек могли взять ее за несколько дней, и тогда всю «Троянскую войну» пришлось бы признать полным вымыслом…» Эти сомнения заставили его вскоре вернуться на Гиссарлык. И еще не раз вернуться. В промежутке, однако, он совершил поистине «кавалерийскую атаку» на Микены, которые Гомер описал как столицу Агамемнона, возглавлявшего Троянский поход. Как и на Гиссарлыке, он руководствовался здесь буквалистским прочтением свидетельств древних авторов — в данном случае историка II века Павсания. В своем описании Микен Павсаний утверждал, что гомеровский Агамемнон был похоронен внутри стен древней крепости. Поскольку сохранившиеся к XIX веку стены Микен охватывали очень малое внутреннее пространство, недостаточное для размещения пышных царских гробниц, все исследователи считали, что Павсаний имел в виду какие-то другие, наружные, более протяженные стены, которые, видимо, разрушились еще в старину (останки таких стен были, действительно, найдены при последующих раскопках, уже после Шлимана). Но Шлиман, читавший своих древних наставников буквально, начал раскопки именно в пределах сохранившихся стен, с внутренней стороны Львиных ворот. Слой обломков, заваливших здесь бывшую крепостную площадь, был в несколько метров толщиной; Шлиман, не задумываясь, приказал своим рабочим вымести этот слой и проложить через расчищенное место горизонтальную траншею. Стоит ли говорить, что он опять нашел то, что искал! Раскопки почти сразу вскрыли поразительное сооружение — ряд вертикально поставленных плоских каменных плит, образующих кольцо диаметром метров в тридцать. Площадка внутри этого круга явно была выровнена еще в древности, и на ней, вкопавшись до самого скального основания, рабочие обнаружили входы в пять вертикальных округлых колодцев-гробниц. Эта площадка впоследствии получила название «первого круга гробниц». Но главное состояло в том, что в этих гробницах были обнаружены сохранившиеся с глубокой древности останки девятнадцати мужчин и женщин и двух детей. Их скелеты были буквально погребены под грудой бесчисленных золотых украшений и предметов; на лицах мужчин были золотые маски, черты которых повторяли черты их лиц; тела были покрыты доспехами из золотых листьев; на женщинах были золотые браслеты и диадемы; вокруг лежали мечи и кинжалы с изумительными изображениями батальных и охотничьих сцен, кубки и чаши с тончайшими рисунками и многое-многое другое{12}. Что должен был подумать человек, наизусть знавший Гомера, увидев эти богатейшие захоронения? Мы точно знаем, что подумал Шлиман, потому что сохранилась телеграмма, посланная им в тот же день греческому королю: «С огромной радостью спешу известить Ваше Величество, что я нашел гробницы, представляющие собой, согласно рассказу Павсания, захоронения. Агамемнона, Кассандры, Евромедона и их спутников, которые были убиты во время пиршества Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом». Традиция, идущая от Гомера, действительно утверждает, что великий микенский царь, руководитель Троянского похода Агамемнон по возвращении домой был предательски убит на пиру вместе со своими приближенными и наложницами, в том числе Кассандрой и ее двумя детьми, а в найденных им гробницах Шлиман действительно обнаружил скелеты нескольких мужчин, а также женщин и двух детей, так что у него были все основания для восторженной телеграммы, но, как и в случае с Троей-2, он опять оказался не прав. Его датировка была ошибочной: как выяснилось позже, найденные им скелеты, по меньшей мере на 300 лет были старше предположительной даты Троянской войны. Доказательство реальности Троянской войны опять ускользнуло, но зато обнаружилось нечто иное, и, быть может, намного более важное. В самом деле, если уже за триста лет до пресловутой Троянской войны цари Микен (а внутри стен наверняка находились гробницы царей) располагали такими богатствами и их хоронили с такой пышностью, то лучшего доказательства могущества и величия Микенского царства трудно и желать. Более того, как показал впоследствии американский археолог профессор Алан Вэйс, руководитель многолетних систематических раскопок в Микенах в 30-е годы XX века, останки, найденные Шлиманом, в действительности принадлежали людям разных эпох и в совокупности покрывали время от XVI до XIII века. А это уже позволяло утверждать, что Микены, как и говорил Гомер, на протяжении ряда столетий действительно были центром богатого и мощного государства, а возможно, и всей тогдашней греческой цивилизации. Но Шлиман нашел и другие, хоть и более мелкие, но крайне важные подтверждения правдивости рассказа Гомера. На некоторых золотых украшениях были изображены те самые загадочные «башнеподобные» щиты, прикрывавшие тело воина с головы до пят, которые у Гомера принадлежали «большому» Аяксу и подобных которым в гомеровские времена уже не было. В другой гробнице была найдена золотая чаша с двумя ручками в виде голубей, очень похожая на описанную Гомером в «Илиаде» чашу героя Нестора, а также шлем с гребнем из медвежьих зубов: дословное описание такого шлема содержится в 10-й главе «Илиады». Даже сдержанные историки были потрясены: казалось, гомеровские герои явились перед их глазами живым воплощением слов Гомера. Однако, как ни сенсационны были эти находки, для развития археологии как науки куда более важными оказались многочисленные образцы древней посуды, найденные Шлиманом в Микенах. До того, в Трое, он находил лишь отдельные черепки каких-то непонятных эпох. Обилие найденной им теперь керамики впервые позволяло специалистам произвести более или менее точную датировку этих эпох путем сопоставления микенских черепков с остатками аналогичной посуды, обнаруженной в других местах Средиземноморья, прежде всего — на раскопках в Египте, хронология культурных слоев которого благодаря обилию и детальности письменных памятников известна весьма точно. Детальная разработка этого метода датировки заняла еще многие годы, но в конце концов ее принципы были установлены достаточно прочно, что позволило со временем заложить основы надежной микено-троянской хронологии. Шлиману не суждено было воспользоваться этим методом. Его уверенность, что он нашел гробницу Агамемнона, оставалась непоколебимой и подвигла его продолжить поиски «микенской цивилизации», на сей раз — в Орхоменосе, том самом, о котором Ахилл у Гомера говорит: «Даже ради богатств Орхоменоса не соглашусь». Подобно останкам Микен, развалины Орхоменоса (с огромной гробницей, некогда описанной все тем же Павсанием) сохранились на виду, и Шлиман быстро произвел там разведывательные раскопки. Золота он, однако, не обнаружил, других сенсационных находок тоже (если не считать очередного обилия черепков), и уже через несколько недель прервал работу; единственным ее результатом было обнаружение удивительного сходства гробницы в Орхоменосе с гробницей в Микенах (позднее была высказана гипотеза, что их строил один и тот же архитектор). Из Орхоменоса, лежавшего к северу от Афин, Шлиман направился к развалинам древнего Тиринфа, расположенного к югу от Микен, почти у самого берега моря («крепкостенный Тиринф» у Гомера, откуда под Трою пришел царь Диомед со своими воинами: «Осмьдесят черных судов под дружинами их принеслося». Циклопические стены этого города тоже сохранились с древних времен и не могли не привлечь внимание Шлимана. Свои раскопки в Тиринфе Шлиман начал в 1884 году, на сей раз вместе с архитектором Дорпфельдом, и участие этого молодого человека, который впоследствии вырос в серьезного, самостоятельного археолога, оказалось весьма существенным: именно Дорпфельд помешал Шлиману проложить траншею, которая наверняка бы уничтожила таившийся под обломками средневековой византийской церкви древний царский дворец. В результате вмешательства Дорпфельда дворец был раскопан неповрежденным, что позволило впервые воочию узреть многие детали замечательной дворцовой и крепостной архитектуры XIV–XIII веков до н. э. Они опять оказались предельно совпадающими с описаниями Гомера, и Шлиман не замедлил оповестить мир о своем очередном сенсационном открытии: «Я извлек на свет великий дворец легендарных царей Тиринфа, — писал он, — и отныне до конца времен никто не сможет опубликовать книгу о древнем искусстве, не упомянув о моем открытии». После Тиринфа Шлиман предпринял еще несколько попыток: следуя путями гомеровских героев, он безуспешно искал местонахождение «Менелаевой Спарты»; затем пробовал копать в упоминаемом Гомером «песчаном Пилосе» царя Нестора, но, как я уже говорил, ошибся в местоположении древнего города и ничего существенного не нашел; и, наконец, несмотря на огромную усталость («Я испытываю огромное желание до конца моих дней устраниться от раскопок…»), решил снова «копнуть» в любимой Трое. Он уже был тут несколько раз в промежутке между раскопками в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе, Пилосе и каждый раз находил что-то новое и неожиданное. Но все эти открытия не приносили ему того удовлетворения, которое он так хорошо имитировал в своих победных реляциях на публику. Его продолжали одолевать сомнения. Возражения скептиков разъедали его уверенность. Он возвращался и снова искал — искал доказательств, которые бы окончательно и однозначно убедили скептиков (и его самого), что найденная им Троя-2 — это действительно «Приамова Троя». И вот теперь он решил возвратиться сюда снова — поискать еще раз. Кто ищет, тот, как известно, всегда найдет. Хотя, конечно, не всегда то, что ищет. >ГЛАВА 6 «ПРИАМОВА» ТРОЯ — ВТОРАЯ, ШЕСТАЯ, СЕДЬМАЯ? В сознании широкой публики слава Шлимана как «первооткрывателя Трои» связана с его сенсационными открытиями 1871–1873 годов — раскопками в Трое-2 и обнаружением там «Приамового сокровища». Но, как мы уже сказали, среди специалистов оставались многие, кто весьма скептически относился к Шлиманову отождествлению Трои-2 с гомеровской Троей. Сомнения, как мы тоже уже говорили, были и у самого Шлимана; вот почему в промежутках между раскопками в Греции — в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и Пилосе — Шлиман неоднократно возвращался на Гиссарлык. Первый раз он вернулся в 1878–1879 годах, — но единственным результатом этих двух раскопочных сезонов было лишь открытие еще одного, самого глубокого культурного слоя. Судя по находкам, этот слой принадлежал к далеким доисторическим временам и к гомеровской Трое отношения не имел. Еще через два года, в 1881-м, Шлиман объехал верхом на лошади самые дальние окрестности Гиссарлыка, словно отыскивая другие возможные места раскопок, но ничего подходящего не нашел и в 1882 году снова вернулся на Гиссарлык, на сей раз вместе со своим новым помощником Дорпфельдом. И вот тут, наконец ему улыбнулась удача. Продолжив раскопки в Трое-2, он обнаружил новые признаки существовавшего здесь в древности укрепленного города — еле заметные следы кольцевых стен, почти стертые временем остатки мощных бастионов, а главное — развалины обширного здания, напоминавшего царский дворец. Вкупе с прежними находками в том же слое это делало Трою-2 куда более соответствующей описаниям Гомера, и Шлиман не замедлил известить своих друзей и недругов: «Моя работа в Трое завершена окончательно. Я доказал, что в глубокой древности на, этой равнине находился большой город, разрушенный страшной катастрофой и в точности отвечающий гомеровскому описанию…» Увы, победоносное извещение и теперь оказалось преждевременным. В 1889 году Шлиман с Дорпфельдом в очередной раз вернулись на Гиссарлык, чтобы расширить раскопки Трои-2, и почти сразу же наткнулись на обескураживающий факт. Заложенная ими новая траншея вскрыла следы еще одного дворцового зала, в помещениях которого оказалось множество остатков посуды микенского («Агамемнонова») типа, но, увы, культурный слой, в котором располагался новонайденный дворцовый зал с его посудой, оказался шестым, считая снизу, то есть намного более поздним, чем Троя-2. Если Шлиман был прав и Троя-2 была, как он утверждал, гомеровской, то кому тогда принадлежали дворец и посуда Трои-6? История не знала на этом месте более поздних городов с такими дворцами, да и посуда не соответствовала более позднему времени. Если же гомеровской была новонайденная Троя-6 (на что могли указывать дворец, а главное, датировка посуды), то, что же тогда нашел Шлиман в Трое-2? Все здание троянской датировки Шлимана вдруг заколебалось, и стало понятно, что без новых раскопок не обойтись. Шлиман назначил эти работы на следующий, 1891 год, но ему уже не суждено было вернуться на Гиссарлык — в том же году он скоропостижно умер после неудачной операции застуженного на раскопках уха: свалился прямо на улице, парализованный и утративший речь, был доставлен в больницу для бедных и через несколько часов, не приходя в сознание, скончался. Польский писатель Генрих Сенкевич, случайно оказавшийся свидетелем отправки его тела домой, в Афины, позднее писал: «Хозяин отеля подошел ко мне и спросил: «Знаете ли, вы, кто этот господин? Нет? Это великий Шлиман!» Бедный «великий Шлиман»! Подумать только — откопать Трою и Микены, заслужить, бессмертную славу у людей и так вот умереть…» Шлиман, несомненно, заслужил эту бессмертную славу как первооткрыватель Трои и, что еще важнее, микенской цивилизации, но «настоящую», гомеровскую Трою он, как вскоре выяснилось, не опознал. Установил это Дорпфельд. В 1893 году, получив от Софьи Шлиман средства на продолжение раскопок, он вернулся на Гиссарлык, заложил огромную кольцевую траншею, вокруг найденных им (в последних раскопках со Шлиманом) остатков дворца в Трое-6 и почти немедленно обнаружил останки стен, намного более грандиозных, чем все, что нашел Шлиман в своей Трое-2. Продолжая раскопки, он нашел еще целый ряд строений, некогда составлявших тот же город, — сначала остатки пяти больших, неплохо сохранившихся домов аристократического типа, затем еще нескольких сильно поврежденных зданий того же характера и, наконец, развалины могучего крепостного бастиона в северо-восточной части стены. Особенно важным было то, что повсюду в этом слое обнаруживались черепки посуды точно того же типа, что нашел Шлиман в Микенах и Орхоменосе. К этому времени уже было доказано, что такой тип посуды производился исключительно в греческих («микенских») городах XV–XIII веков до н. э., и это означало, что на Гиссарлык она могла попасть лишь из Греции; иными словами, Троя-6 имела давние и длительные — по крайней мере, с XV по XIII век — контакты с городами «микенской цивилизации». В этот промежуток времени попадала любая предположительная дата Троянской войны; а если еще добавить, что, судя по некоторым приметам, гибель Трои-6 сопровождалась тяжелыми разрушениями: крепостные стены во многих местах были повреждены, здания и дворец еще хранили следы пожара, то общий вывод напрашивается как бы сам собой: именно этот город, Троя-6, а не Троя-2, и мог быть искомой гомеровской Троей. Теперь настала очередь Дорпфельда публиковать победные реляции. Сообщая о своих находках, он писал: «Долгий спор о реальности Трои и ее местоположении пришел к концу… Шлиман оправдан… Вид крепости был несомненно знаком певцам «Илиады»…» (Шлиман, надо думать, был оправдан в том смысле, что подлинная Троя оказалась именно там, где он ее искал, хотя и не в том слое.) Дорпфельд мог бы добавить: вид крепости был Гомеру не просто знаком, а знаком детально. На одном из участков разрушенной крепостной стены раскопки вскрыли место, весьма напоминавшее то, где, по словам Гомера, «трижды Менетиев сын (Патрокл. — Р.Н.) взбегал на высокую стену»: камни здесь прилегали друг к другу так неплотно, что и турецкие землекопы, далеко не Патроклы, тоже запросто могли по ним подниматься. А в западной части крепостной стены Дорпфельд обнаружил слабо укрепленный участок, что опять же соответствовало рассказу Гомера, согласно которому Одиссей еще во время осады пробрался в осажденный город через слабину в западной части стены! Эти поразительные совпадения едва ли не более, чем всё остальное, побудили большинство исследователей согласиться с выводом Дорпфельда. Так, видный английский гомеровед Уолтер Лиф в своей книге «Гомер и история» писал: «Крепость (найденная Дорпфельдом. — Р.Н.) находится на том самом месте, где ее помещала гомеровская традиция». И продолжал: «Отсюда следует историческая реальность Троянской войны. Можно даже думать, что, по крайней мере, некоторые из героев Гомера тоже были реальными участниками той войны и носили те же имена, что у Гомера». Другим специалистам тоже казалось, что долгие поиски Трои наконец-то благополучно завершились. Но Троя и на этот раз приготовила своим искателям неприятный сюрприз. Примерно через сорок лет после Дорпфельда, в 1932 году, на Гиссарлык прибыл еще один продолжатель дела Шлимана — замечательный американский ученый Карл Блеген. К тому времени он уже был широко известен специалистам во всем мире своими тщательными раскопками в «микенских» городках материковой Греции — Коракоу, Зигурос и Просимна. Эти его работы (вкупе с новыми раскопками англичанина Алана Вэйса в самих Микенах) позволили окончательно завершить создание детальной и точной хронологии культурных слоев и стилей керамики, общих для всей микенской цивилизации. Теперь, возвращаясь вслед за Шлиманом и Дорпфельдом на Гиссарлык, Блеген хотел всего лишь проверить на основе этой хронологии их датировку культурных слоев многовековой Трои. Но неожиданно для него самого это «невинное» намерение повлекло за собой сенсационные результаты. В ходе дотошного (а это он умел!) изучения Трои-6 Блеген установил, что ее стены и дома были повреждены отнюдь не военным штурмом, а естественной катастрофой: в стенах и зданиях обнаруживались сдвинутые с места камни фундамента, а сдвинуть с места фундамент могло только мощное землетрясение. Вывод опять напрашивался сам собой: если Троя-6 погибла не в результате осады и штурма, то, значит, Троя-6 тоже не является гомеровской Троей! Точно так же, как Дорпфельд в свое время опроверг Шлимана, Блеген теперь опроверг Дорпфельда, и с убедительностью этого опровержения вынужден был согласиться и сам Дорпфельд, когда в 1935 году посетил раскопки Блегена. Но Блеген сделал и нечто намного большее. Поняв, что Троя-6 не может быть гомеровской, он стал искать следы гомеровской Трои в более поздних культурных слоях. Он проделал гигантскую работу по детальнейшей датировке всего Гиссарлыкского холма, от основания до макушки, и выявил в нем 11 культурных слоев, которые распадались на пятьдесят (!) подслоев. Два из них — 7а и 7б — располагались непосредственно над Троей-6, друг за другом, и, как оказалось, в одном из них, в подслое 7а, Блегена ожидали поистине сенсационные открытия. Прежде всего, он установил, что город, возникший на развалинах Трои-6 спустя примерно полвека после ее разрушения (Блеген назвал его «Троя-7а!»), был построен внутри тех же стен, что и Троя-6. Это означало, что многие из характеристик Трои-6, открытых Дорпфельдом, — участки стен, поврежденные штурмом, неплотно уложенные камни в том месте, где, по Гомеру, пытался взбежать на стену Патрокл, слабина в западной стене, могучие ворота и бастионы, даже характер посуды — все это относилось и к Трое-7а. Это означало также, что спустя полвека люди вернулись на развалины и отстроили свои жилища, но почему-то не стали восстанавливать разрушенные крепостные укрепления. Почему? Объяснение этого факта потребовало дальнейших раскопок, в ходе которых Блеген сделал еще более поразительные открытия. Изучая характер построек в исследуемом подслое, он установил, что постройки Трои-7а были куда бедней и примитивней, чем в непосредственно предшествовавшей ей Трое-6, раскопанной Дорпфельдом, но зато их было намного больше. Там, где раньше высилось лишь несколько элегантных зданий, группировавшихся вокруг дворца, теперь располагался запутанный лабиринт однокомнатных каменных строений, настоящих лачуг, явно построенных на скорую руку, как попало, вплотную друг к другу, в страшной скученности. Троя-7а мало походила на царственную Трою-6 — она, скорее, напоминала лагерь беженцев. Казалось, будто окрестные жители внезапно хлынули в разрушенный землетрясением город и наскоро стали строить жилища-времянки среди развалин, не имея ни времени, ни средств восстановить прежние здания и дворцы или залатать поврежденные крепостные стены. Более того, внутри многих лачуг, у входа, Блеген обнаружил следы некогда вкопанных в землю громадных, в человеческий рост, глиняных сосудов, в которых древние. обычно хранили съестные припасы. Впечатление было такое, будто жители не просто бежали за стены от какой-то внезапной опасности, но еще и ждали длительной осады — потому и собирали запасы продовольствия. Об «осадном положении» говорило и почти полное отсутствие в развалинах Трои-7а каких-либо следов импортной посуды или тканей — все находки были местного производства, как будто связи города с наружным миром были перерезаны. Свое последнее открытие Блеген сделал уже внутри жилищ Трои-7а. Их стены демонстрировали следы насильственного разрушения, там и сям обнаруживались куски обожженного дерева, под одной повалившейся стеной был найден человеческий скелет, в другом месте — человеческий череп, пробитый стрелой. Эти следы разрушения и гибели могли быть оставлены только войной. Взятые вместе, все эти находки выстраивались в связную картину: известие о приближении врага — торопливое бегство людей со всей округи под защиту крепостных стен — осада — штурм — взятие и разрушение города. По оценке Блегена, Троя-7а была взята штурмом не более чем через 50 лет после землетрясения и не позднее чем в 1240 году, т. е. «именно в тот период, — писал он, — когда микенские царства материковой Греции переживали самый высший расцвет и наверняка были достаточно могущественными, чтобы предпринять совместную военную экспедицию» (К. Блеген, «Троя и троянцы»). То же самое можно сказать й иначе: гомеровская Троя существовала — это была Троя-7а. Ошибка Дорпфельда была вполне извинительной: не имея в руках тех методов, которыми (40 лет спустя) располагал Блеген, он приписал Трое-6 те признаки, которые на самом деле принадлежали лежавшей буквально над ней, почти без перерыва, Трое-7а. Но основной вывод Дорпфельда был, по мнению Блегена, бесспорен. «Не может быть больше сомнения, — писал Блеген в той же своей книге, — что Троянская война, в которой коалиция ахейцев, или микенцев, сражалась с троянцами и их союзниками, была исторической реальностью… И Троя-7а, которая и должна быть признана настоящей Троей, была той самой крепостью, чья осада и штурм так врезались в память трубадуров и бардов, что они передали своим потомкам имена героев, сражавшихся в этой войне». В этом замечательном обобщении итогов всех трех стадий исследования Трои — шлимановской, дорпфельдовской и собственно блегеновской — есть только одна неточность: найденные Блегеном факты в действительности свидетельствовали лишь о разрушении Трои, но не могли служить доказательством, что этому разрушению предшествовала предварительная осада. Что, собственно, подкрепляло мысль об осаде? Только разве что вкопанные у входа в дома кувшины с продуктами? Но ведь и в Помпеях тоже были найдены такие кувшины, а Помпеи никто не осаждал, как известно. Не случайно один археолог (уже после раскопок Блегена) насмешливо заметил, что «разрушение Трои — это исторический факт, но ее осада — всего лишь возможность». Новый свет на вопрос о реальности осады Трои был пролит лишь спустя полвека, когда все герои нашего рассказа давно уже сошли с исторической и просто жизненной сцены. В 1988 году, ровно через 50 лет после завершения раскопок Блегена, на Гиссарлыке начала работать новая археологическая группа под руководством Манфреда Корфмана. В числе прочего она произвела широкую разведку в окрестностях Гиссарлыка и, в частности, к юго-западу от него, вблизи высокого могильного кургана конической формы Бесик-Тепе. Во времена «классической», послегомеровской Греции (с V века до н. э. и позже) этот курган считался «могилой Ахиллеса», и именно на нем в свое время позировали для истории персидский царь Ксеркс и великий Александр Македонский. А в наше время экспедиция Корфмана сделала здесь весьма важное открытие. Во-первых, было обнаружено, что именно здесь в XIII–XII веках до н. э. (то есть во времена предполагаемой Троянской войны) находился морской берег. А во-вторых, всего в нескольких метрах от тогдашней береговой линии было найдено захоронение XIII века до н. э., содержавшее около 50 камер-гробниц с прахом кремированных людей. В гробницах сохранилось множество погребальной посуды и других предметов греческого производства. Среди этих предметов были также камни, игравшие роль личных печатей микенских аристократов. Близость этого «греческого кладбища» к тому кургану, который греческая традиция упорно именовала «могилой Ахиллеса», а также к древнему морскому берегу была слишком красноречивой, чтобы быть случайной. Гомер («Илиада», 14:30) говорил о лагере, который греки во время осады разбили вблизи моря («Их корабли от равнины, где бились, далеко стояли // берегом моря седого…»); он говорил также, что здесь же, вблизи своего лагеря, греки хоронили героев, павших во время осады. Не нашел ли Корфман этот гомеровский лагерь? Тогда это однозначно доказывало бы историческую реальность осады города. Сам Корфман сформулировал свое мнение крайне осторожно: «Я могу лишь высказать интуитивное впечатление, что открытое нами кладбище в гавани Трои, скорее всего, относится к тем временам, когда происходила Троянская война». Любопытные находки были сделаны и в самой Трое. В южной части древней Трои-6 (и 7а, соответственно) экспедиция Корфмана обнаружила остатки шести домов с таким количеством микенской посуды, которое невольно порождало вопрос, не находилась ли здесь когда-то греческая торговая колония (доказано, например, что в Милете, много южнее Трои по берегу моря, такая колония действительно существовала). В таком случае захоронению, найденному Корфманом в Бесик-Типе, можно было бы дать и другое, более прозаическое объяснение — это могло быть, например, кладбище богатых микенских купцов, живших в Трое. Корфман и впрямь нашел признаки того, что Троя-6 была достаточно большим городом, далеко выходившим за стены той крепости, которую раскопали Дорпфельд и Блеген, и потому — особенно учитывая ее географическое расположение на берегах Дарданелл — вполне могла привлечь к себе внимание купцов из разных стран. Но ведь в той же мере и по тем же причинам она могла привлечь к себе и внимание хищных завоевателей! Уж очень многое в Трое-6 и 7а несло на себе следы чисто военных разрушений. На окончательный выбор могли бы существенно повлиять показания каких-нибудь «независимых» свидетелей тогдашних событий. Но были ли у гомеровских Микен и Трои современники и одновременно близкие соседи, которые могли бы оставить такие свидетельства? Как ни странно, были — и даже два: Крито-Минойское царство на западе и Хеттская империя на востоке. К ним мы и обратимся на этом последнем витке нашего исторического расследования. >ГЛАВА 7 КРИТ И МИКЕНЫ У Микен и Трои были два современника-соседа, и одним из них было Крито-Минойское царство. Заслуга его открытия принадлежит замечательному британскому археологу Артуру Эвансу. Подробный рассказ о работах Эванса увел бы нас далеко в сторону; ограничимся поэтому лишь тем, что непосредственно связано с загадкой Троянской войны. Эванс заинтересовался археологией Древней Греции под влиянием находок Шлимана в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и т. д. Ему казалось непонятным, что такая могущественная цивилизация, какой в результате раскопок Шлимана представала цивилизация Микен (ведь она простиралась чуть не на всю основную часть Греции), не оставила по себе никаких письменных памятников вроде тех, которыми засвидетельствовали свое существование Древний Египет или Шумерское и Ассирийское царства в Месопотамии. Эванс был убежден, что такие письменные следы микенского прошлого должны отыскаться, и его уверенность была подкреплена случайной находкой: в 1893 году, во время посещения Афин, некий торговец древностями предложил ему купить старинные камни с выцарапанными на них причудливыми узорами. По причине своей невероятной близорукости Эванс очень хорошо различал микроскопические детали и потому сумел разглядеть в узорах-царапинах явные следы некой системы. Он заподозрил, что это и есть разыскиваемая им микенская письменность. Однако на его вопрос, откуда камни, продавец сказал: «С Крита». Надо сказать, что Шлиман в свое время интересовался Критом и даже побывал в 1886 году в Кноссосе, что под Гераклионом, чтобы решить, не начать ли здесь свои очередные раскопки (ему это не удалось по весьма прозаической причине — турецкое правительство отказалось продать ему землю). Он с поразительной интуицией предвидел, что здесь может таиться нечто важное. «Я не буду поражен, если здешняя почва таит останки цивилизации, древность которой сделает Троянскую войну событием вчерашнего дня…» — писал он одному из корреспондентов. Разумеется, у шлимановой интуиции, как и у всякой иной, были вполне рациональные основания. Еще древние греческие мифы связывали с Критом начало науки, техники и архитектуры. Так, в знаменитом мифе о критском царе Миносе говорилось, что именно в Кноссосе легендарный архитектор, инженер и изобретатель Дедал построил царю дворец, а под ним — Лабиринт, куда был упрятан получеловек-полубык Минотавр, которого похотливая жена Миноса родила от совокупления с быком и который питался исключительно человечиной. Миф о Тезее рассказывал, как афинский герой Тезей пробрался в лабиринт, убил Минотавра и выбрался обратно с помощью нити Ариадны, дочери царя Миноса. Если верить мифу, этот подвиг Тезея избавил Афины от древней обязанности ежегодно отправлять в Кноссос человеческую дань. Если рассматривать эту легенду как отражение реальности в мифологическом сознании, она означает, что Афины, видимо, были подчинены Криту. Поэтому можно думать, что могущественное царство Миноса, владея множеством боевых кораблей, сумело подчинить себе и многие другие города — как на островах Эгейского моря, так и в материковой Греции. И действительно, в ходе своих раскопок в Микенах Шлиман нашел несколько предметов с изображением критского быка, что, собственно, и навело его на мысль, что между Микенами и Критом могла существовать древняя связь — не случайно же его любимый Гомер упомянул критского царя Идоменея в числе властителей, приславших, по призыву Агамемнона, свои корабли и воинов под Трою. Так что визит Шлимана на Крит был целенаправленным — он надеялся отыскать там следы древних крито-микенских связей. Эванс прибыл на Крит с другой целью — найти здесь следы «микенской письменности». Он быстро убедился, что камней с загадочными надписями, вроде купленного им в Афинах, здесь превеликое множество — местные женщины носили их на груди в виде амулетов и называли «молочными камнями». Но у местного археолога-любителя Калокаириноса он увидел еще более любопытный предмет — глиняную табличку, сплошь покрытую несомненными письменами. Калокаиринос нашел ее в ходе своих пробных раскопок в Кноссосе, когда проложенная им траншея вскрыла остатки обширного дворцового комплекса, стены которого были покрыты охровой краской, а полы завалены щебнем и обломками глиняной посуды. Прослышав о дворце, Эванс немедленно купил указанный ему кусок земли в Кноссосе (в отличие от Шлимана, ему это удалось, потому что к тому времени Крит уже освободился от турецкого владычества) и в 1900 году приступил к систематическим раскопкам. Первоначально весь его интерес сосредоточивался на поиске табличек; вскоре, однако, эти поиски отошли на второй план, поскольку первые же траншеи вскрыли богатейшие остатки какой-то могущественной цивилизации, значительно более древней, чем микенская (как и предсказывал за 15 лет до того Шлиман). Вскоре находки пошли сплошь и подряд: дворцовые залы с изумительными фресками на стенах, помещения с громадными сосудами, на которых были изображены сцены каких-то загадочных игр людей с бкками, статуэтки неизвестных дотоле богинь с обнаженной грудью, колонны и статуи, золотые украшения и множество обожженных глиняных табличек с отчетливыми письменами. Архитектура построек, характер живописи, детали росписей на сосудах — всё свидетельствовало о том, что открытая Эвансом культура не имела ничего общего с микенской и отличалась совершенно особым, индивидуальным характером. Постепенно усилиями других археологов, привлеченных Эвансом на Крит, выяснилось, что аналогичные дворцы, живопись, ритуалы существовали и в других районах огромного острова — на юге, в Фестосе, и на западе, в Мелии. Эванс назвал эту дворцовую культуру «крито-минойской» — в честь легендарного царя Миноса; по его убеждению, ее создателем был какой-то древний народ, возможно, пришедший на Крит из глубин Малой Азии. Современный греческий историк проф. С. Алексиу полагает, что это переселение людей из Малой Азии на Крит, на острова Эгейского моря и в материковую Грецию произошло примерно в середине третьего тысячелетия до н. э. Об общности раннего населения всех этих мест могут свидетельствовать общие для эгейских островов и Крита географические названия — Олимпус, Ида, Инатос и т. д. Возможно, географические названия с окончанием «-ос», столь многочисленные и на Крите, и в Греции — Коринфос, Кноссос, Фестос, Орхоменос, — распространились в это же время. В соответствии с нынешней хронологией, середина третьего тысячелетия до н. э. — это так называемый ранний бронзовый век{13}. Поскольку заселение Крита произошло, по теории Эванса — Алексиу, раньше, чем заселение материковой Греции, на Крите раньше возникли и предпосылки развития цивилизации. Контакты с близлежащим Египтом еще более ускорили это развитие. По мнению Эванса, около 2000 года до н. э. (т. е. в конце раннего бронзового века) лроизошло знаменательное событие: были возведены первые дворцовые комплексы в Кноссосе, Фестосе и Малии. Стала складываться «дворцовая культура». В ее основе лежало сельское хозяйство — не случайно все три дворцовых центра находились в самых плодородных районах острова. В 1700 г. до н. э., судя по археологическим данным, Крит постигла крупная естественная катастрофа, возможно — землетрясение. Однако она не прервала наметившегося развития: разрушенные дворцы были немедленно восстановлены, и последующий период стал временем высшего расцвета и могущества крито-минойского государства. Его колонии включали Теру, Родос, Карпатос, Мелос и другие острова Эгейского моря. То была «талассократия», или морская империя («таласса» по-древнегречески — море), опиравшаяся на силу своего обширного флота, равного которому не было во всем Средиземноморье. И вот в этом месте своих рассуждений Эванс подошел к. драматическому пункту: их логика с неизбежностью привела его к противоречию со Шлиманом. Дело в том, что во времена Эванса считалось, что микенская цивилизация, открытая Шлиманом, существовала в XIV–XII веках до н. э. Крито-минойская культура была явно древнее микенской — она достигла расцвета уже в XVII веке до н. э. Судя по раскопкам Эванса, она была также намного выше и изощренней: критские дворцы, архитектура, искусства, ремесла далеко превосходили все, что было найдено в материковой Греции того же времени. И вдобавок, по Эвансу, Крит с помощью своего флота контролировал все Эгейское море. Миф о Тезее утверждал, что критской власти подчинялись даже Афины. Напрашивалась мысль, что эта власть могла распространяться и на Микены с их городами. Иными словами, как бы сама собой складывалась гипотеза, что вся материковая Греция, включая Микены, была крито-минойской провинцией. Тогда некоторые приметы искусства и архитектуры, общие для обеих цивилизаций, можно объяснить тем, что дворцы в Микенах, Тиринфе, Пилосе и других центрах «микенской цивилизации», а также царские гробницы в этих городах принадлежали критским губернаторам и строились архитекторами с Крита, сосуды, утварь, оружие изготовлялись и расписывались критскими мастерами, а игры с быками и фигурки богинь были занесены критскими аристократами. Итогом этой цепи рассуждений неизбежно становился радикальный вывод: никакой особой «микенской цивилизации», на существовании которой настаивал Шлиман, не было вообще. Не удивительно, что от нее не осталось никаких письменных свидетельств. Письменность глиняных табличек — это не греческая, а крито-минойская письменность. А все найденное Шлиманом и его продолжателями в городах материковой Греции — это артефакты поздней крито-минойской культуры. Эта радикальная теория, выдвинутая Эвансом и получившая поддержку большинства историков и археологов начала XX века, столкнулась, однако, с определенными трудностями. Судя по данным критских раскопок, крито-минойская цивилизация, возникшая, по Эвансу, в 2000 году до н. э., просуществовала лишь шесть столетий. В 1420 году до н. э. (эта дата установлена достаточно надежно) какая-то загадочная катастрофа разрушила дворцы в Кноссосе и Фестосе, а с ними и все крито-минойское государство вообще{14}. Тем не менее, те же раскопки показали, что жизнь на Крите не угасла и после этого удара: дворец в Кноссосе был частично восстановлен, таблички продолжали писаться, хозяйство и торговля ожили и стали вновь развиваться. Это несоответствие требовало объяснения, и последователи Эванса его предложили. По их утверждению, города материковой Греции (Микены, Афины и др.), воспользовавшись крахом крито-минойской державы, освободились от власти критских завоевателей и сами, в свою очередь, завоевали и колонизовали Крит. Иными словами, подъем микенской цивилизации в XIV–XII веках до н. э. следовало представлять себе как восстание провинции против ослабевшей метрополии, — закончившееся ее подчинением. Но и при этом, говорили «эвансисты», Микены никогда не поднялись до тех высот, которых достигли в минойские времена. Второе несоответствие выявилось в результате раскопок 1930-х годов — А. Вэйса в Микенах и К. Блегена в Пилосе. И тот, и другой нашли в этих древних центрах микенской цивилизации глиняные таблички с точно такими же письменами, какие Эванс нашел на Крите. И тот, и другой нашли в своих раскопках такие исторические и культурные свидетельства, которые невозможно было уложить в Эвансову схему истории материковой Греции как критской колонии, населенной тем же народом, что и сам Крит. Одновременно с этими данными в печати появились в те же годы многочисленные работы лингвистов, филологов и историков, детально проанализировавших накопившиеся к тому времени данные о греческой «предыстории». Опираясь на всю совокупность этих новых данных, противоречивших теории Эванса, Вэйс и Блеген в совместной статье выдвинули альтернативную теорию. Согласно их историко-культурной схеме, материковая Греция была заселена носителями индо-европейского (древнегреческого) языка уже в конце раннего бронзового века, примерно с 1900 года до н. э., то есть тогда же, когда началось становление крито-минойской культуры на Крите, и эти же племена непрерывно населяли страну вплоть до падения микенской цивилизации около 1100 года до н. э., иными словами, много позже краха крито-минойского царства. Проще говоря, Греция всегда была греческой, ее (микенская) цивилизация и культура были автохтонными (местными и независимо возникшими), а не крито-минойскими, и именно ее (то есть древнегреческая, микенская) письменность была письменностью Эвансовых табличек. Наличие же общих культурных элементов объясняется просто культурными и торговыми связями этих двух цивилизаций. Эта гипотеза вызвала бурные возражения сторонников теории Эванса. Они заявили, что все аргументы Блегена — Вэйса являются косвенными; прямое отношение к спору имеют только найденные ими таблички с письменами, но как раз этой находке можно дать очень простое и естественное объяснение: либо эти таблички были оставлены в Микенах и Пил осе критскими купцами, либо микенские «варвары», завоевавшие Крит после 1420 года до н. э., вывезли к себе критские таблички, а может быть, — и уцелевших писцов-грамотеев. Сами же микенцы не могли создать ничего культурно значительного, тем более — самостоятельной письменности, поскольку их «цивилизация» была попросту последней, предсмертной «судорогой» великой крито-минойской культуры, а на своей последней стадии цивилизации, как и живые организмы, ничего нового создать уже не могут: творческий расцвет сопровождает молодость культур. Возникший спор имел прямое отношение и к интересующей нас загадке Троянской войны. «Шлиманцы» вслед за своим учителем (а также приведенные к этому собственными исследованиями) все более приближались к признанию исторической реальности этой войны. «Эвансисты» вслед за своим догматичным мэтром утверждали, что после краха «дворцовой культуры» Крита «варварские» города материковой Греции попросту не способны: были на такую далекую и трудную военную экспедицию. Поэтому никакой Троянской войны не было. А рассказ Гомера о ней, говорили «эвансисты» вслед за своим великим учителем, есть не что иное, как воскрешение критского мифа! Подтверждение или опровержение этого радикального тезиса требовало новых раскопок, но время для этого наступило самое неподходящее — грянула вторая мировая война, и Греция вместе с Критом были захвачены немецкими войсками. Единственным доступным полем исследований остались одни лишь критские и микенско-пилосские глиняные таблички. Только в их загадочных письменах могли теперь исследователи искать (и надеяться найти) решение жестокого и непримиримого спора между последователями Эванса и последователями Шлимана, а заодно, и возможные свидетельства «за» или «против» реальности Троянской войны. Задача была из труднейших. Ситуация казалась безнадежной. Неизвестны были не только знаки «глиняной письменности» — неизвестен был и язык, который скрывался за этими знаками: Вэйс и Блеген полагали, что это какой-то диалект древнегреческого (очень «древне» — времен расцвета Микен, XIV–XIII веков до н. э.), сторонники Эванса считали, что это никому неведомый «крито-минойский» язык. Тем не менее все эти трудности удалось преодолеть. Таблички заговорили. >ГЛАВА 8 ЛИНЕЙНОЕ ПИСЬМО Б Итак, Вторая мировая война прервала археологические исследования, которые могли бы пролить дальнейший свет на загадку Троянской войны. В распоряжении ученых остались лишь глиняные таблички с загадочными письменами, найденные Эвансом на Крите и Блегеном в Пилосе, неподалеку от Микен. Первых было около 4 тысяч, вторых — около 600 (перед самой войной Вэйс нашел еще несколько табличек в Микенах; позже они были найдены также в Тиринфе и Орхоменосе). Как уже сказано выше, по мнению Эванса, «коллективным автором» этих табличек был тот неведомый народ, что создал крито-минойскую культуру, а затем распространил ее по всему Эгейскому архипелагу и материковой Греции. По мнению сторонников Шлимана, этим «автором» были древние греки (гомеровские «ахейцы»): письменность глиняных табличек, утверждали они, была высшим достижением созданной ахейцами «микенской цивилизации». Расшифровка загадочных табличек могла решить этот спор, но на пути такой расшифровки стояло несколько затруднений, и первое из них состояло в том, что таблички распадались на целых три класса. Действительно, исследования Эванса выявили существование на древнем Крите трех последовательных стадий развития письменности. Примерно с 2000 по 1650 гг. до н. э., в эпоху складывания крито-минойской цивилизации, на Крите господствовало чисто «пиктографическое» (рисуночное) письмо, в котором каждый рисунок (звезда, солнце, рука, голова, стрела и т. п.) обозначал соответствующее слово или понятие. Табличек с таким письмом сохранилось очень мало, и произвести их расшифровку нечего было и думать. Следующий класс табличек датировался временами расцвета крито-минойской культуры (1750–1450 гг. до н. э.): здесь рисунки уже упростились до схематических, линейных очертаний, поэтому Эванс дал этой письменности название «линейного письма А» (почему «А», сейчас станет ясно). Этим письмом были, в частности, выполнены надписи на некоторых камнях-амулетах и бронзовых изделиях, найденных в различных местах острова. Расшифровка линейного письма А наталкивалась на ту трудность, что надписей, им выполненных, было не так уж много. Наибольшие шансы имела попытка расшифровки третьего, еще более позднего типа письменности, которая получила название «линейного письма Б». Появление табличек с этим письмом датируется примерно 1450–1400 годами до н. э., и хотя более точную границы установить не удалось (никогда нельзя исключить возможность, что более ранние тексты просто не обнаружены), но предположительная дата той великой катастрофы, что разрушила крито-минойскую цивилизацию (1420 н. до н. а, по Эвансу), как раз попадает в этот промежуток времени. Любопытно также, что почти все таблички с этим письмом были найдены только в одном месте на Крите — в Кноссосе — и что почти все они, по оценке ученых, относятся к периоду после разрушения Кноссоского дворца (общее число таких табличек, найденных в Кноссосе, составляет, как уже было сказано, около 4 тысяч). Крайне интересно, однако, что таблички, найденные Вэйсом, Блегеном и другими археологами в Микенах, Пилосе, Тиринфе и других местах материковой Греции, тоже выполнены исключительно линейным письмом Б и тоже относятся к периоду после 1450–1400 гг. до н. э. Дело выглядит так, будто начиная с середины — конца XV века до н. э., с момента своего появления, линейное письма Б является общим и для Крита, и для городов материковой Греции. По сравнению с предшествующим письмом А его знаки представляются еще более упрощенными (впрочем, в некоторых случаях, напротив, более вычурными), хотя и среди них еще встречаются очевидные пиктограммы (схематические изображения людей, животных, сосудов и т. п.). К середине XX века, когда лингвисты занялись изучением линейного письма Б, уже были прочтены памятники многих древних письменностей, начиная с древнеегипетской, ассиро-вавилонской и хеттской, и уже существовали мощные методы их расшифровки. Каждое новое продвижение в этой области происходило путем сопоставления новой, неизвестной письменности с уже расшифрованными. Как правило, дешифровка облегчалась тем, что исследователь знал либо язык, слова которого были изображены неизвестными знаками, либо значения знаков неизвестного ему языка — по их сходству со знаками уже известных. Но в случае линейного письма Б не были известны ни значения знаков, ни стоявший за этими знаками язык. О знаках было известно лишь, что их общее число — порядка восьмидесяти (эта цифра неточна, потому что распознавание различных знаков затрудняется многочисленными разновидностями и вариантами написания). Для лингвистов эта цифра, однако, содержала важную информацию. Она означала, что линейное письмо Б не алфавитное. В алфавитном письме каждый знак отвечает одной гласной или согласной, поэтому число таких знаков мало (22, 26 и т. п.). В то же время оно не могло быть и чисто рисуночно-иероглифическим вроде современного китайского, потому что для такого («идеографического») письма нужны тысячи знаков (в китайском их, например, свыше 50 тысяч). Стало быть, это было силлабическое, слоговое письмо, в котором каждый знак (кроме рисунков, а также числовых и вспомогательных значков) соответствует одному определенному слогу. Первые попытки дешифровки этого слогового письма основывались на упомянутом выше методе сопоставления его с какой-нибудь уже расшифрованной древней письменностью, имеющей сходные знаки. В данном случае сходные знаки обнаружились в так называемом «кипрском письме», найденном на древних табличках с острова Кипр. К этому времени «кипрское письмо» было уже расшифровано: было показано, что его знаки соответствуют отдельным слогам греческого языка. Однако прямая подстановка значений этих слогов под сходные знаки в критских табличках привела к полной абракадабре: отдельные слоги не собирались ни в какие осмысленные слова. Это говорило в пользу гипотезы Эванса, утверждавшего, что язык табличек не имеет ничего общего с греческим, а принадлежит тому неведомому народу, который создал крито-минойскую цивилизацию. В результате гипотеза о «крито-минойском языке табличек» обрела такой авторитет, что к ее оппонентам стали относиться как к еретикам. Даже такой знаменитый ученый, как профессор А. Вэйс, поплатился за эту ересь — руководство университета отстранило его на время от раскопок в Микенах. Не будем рисковать и поступим соглашательски — признаем, что знаки линейного письма Б изображают отдельные слоги неведомого «крито-минойского» языка. В таком случае мы оказываемся в тяжелейшем положении. Поскольку язык этот никому неведом, то неизвестны ни его слова, ни, естественно, их слоги, а стало быть, неизвестно, какие звуки подставлять под разные знаки табличек — нет никакой зацепки. Нужно найти хотя бы какие-то правдоподобные слова и их слоги, иначе нельзя даже сдвинуться с места. В поисках этих слов и слогов первые исследователи линейного письма Б стали обращать взгляды во все мыслимые и даже немыслимые стороны. Одни утверждали, что «крито-минойский» язык, скорее всего, не принадлежит к семейству индоевропейских, а потому может быть похож на современный баскский (поскольку баскский является единственным неиндоевропейским языком в нынешней Европе). Другие полагали, что он должен быть похож на древний этрусский (поскольку традиция утверждала, что этруски пришли в Италию с островов Эгейского моря, близких к Криту). Болгарский лингвист Георгиев объявил «крито-минойским» языком изобретенную им смесь греческого с элементами других индо европейских языков; его теорию энергично поддерживали в сталинском СССР. А пионер расшифровки хеттского языка чешский лингвист Б. Грозный, взявшийся на старости лет разгадывать поголовно все еще не расшифрованные языки, предложил свою трактовку крито-минойских линейных начертаний как произвольной смеси хеттских, древнеегипетских, протоиндийских и даже финикийских письменных знаков; эта гипотеза оказалась такой же бесплодной, как «расшифровка» Георгиева. Тем не менее не все попытки были одинаково безрезультатны. Среди них оказались и удачные. Так, А. Коули разгадал с помощью пиктограмм знаки, характеризующие девочек и мальчиков; Алиса Кобер опознала знаки, которые обозначают пол людей и животных, а также меняют форму слова, как при склонении по падежам (эти «падежные окончания» она нашла, обнаружив на табличках комплексы знаков (слова), в которых все знаки, кроме последнего, были одинаковы); Беннет, анализируя количество одинаковых фигурок в разных частях таблички, выявил знаки для системы счета. Но великую заслугу полной и окончательной расшифровки линейного письма Б нужно отнести, несомненно, на счет англичанина Майкла Вентриса. Этот молодой английский архитектор (в годы второй мировой войны — штурман самолета-бомбардировщика) увлекся загадкой критского письма еще в детстве, а первую свою работу по его дешифровке опубликовал уже в 1940 году в возрасте 18 лет. Поначалу, подобно многим другим, Вентрис предлагал на роль неизвестного языка табличек этрусский. Попытки в этом же направлении он продолжил и после войны и окончания университета. Однако в 1952 году после нескольких лет напряженных размышлений, интенсивных поисков и обширной переписки с другими исследователями он пришел к совершенно новой, революционной гипотезе, опробование которой очень быстро привело его к решающему прорыву. Невзирая на всё, сказанное выше, о нерушимом авторитете гипотезы Эванса, Вентрис рискнул предположить, что язык загадочных табличек не какой-то там «крито-минойский», а все-таки древнегреческий, только очень архаический его диалект — микенский, на котором говорили за 500 лет до Гомера. И действительно, оказалось, что стоит подставить под знаки табличек слоги этого диалекта, как сквозь беспросветную чащу линий и черточек начали проступать первые понятные слова. Каким же путем Вентрис пришел к своей гипотезе? Прежде всего, он опирался на достижения некоторых своих предшественников. Уже Эванс понял, что большинство текстов на его табличках — это хозяйственные списки: в них явно просматривались какие-то подсчеты и суммы. Как уже говорилось, среди линейных знаков текста отчетливо выделялись отдельные пиктограммы — изображения мужчин, женщин, лошадей, амфор, треножников, колесниц, колес и т. п., и это позволяло, понять, какие именно объекты подсчитывались. А.по значкам в итоговых суммах можно было угадать и систему счисления (это сделал Беннет). Выше я уже упоминал о других разгадках — знаках пола, возраста, падежей. Чтобы продвинуться дальше, нужно было прибегнуть к комбинаторике, и Вентрис начал с составления статистических таблиц: какова частота употребления каждого знака, какова частота его появления в начале, середине и конце слова и так далее. Это привело его к определенным важным выводам. Так, он заметил, например, что в начале слов преобладают три знака, под номерами 08, 61 и 38 (такими номерами Вентрис обозначил все различные знаки линейного письма Б в составленной им сводной таблице). Они появлялись также внутри слова, но почти никогда не встречались в конце. Вентрису было известно, что в слоговом письме слог, состоящий из отдельной гласной, редко появляется внутри слова, но часто — в его начале (это подтверждала, в частности, упомянутая выше кипрская письменность). Отсюда следовало, что подмеченные им знаки, скорее всего, означают гласные. Далее, знак 78 очень часто заканчивал слова в различных суммированиях однородных предметов (вроде: пять / рисунок кувшина / 78 шесть / рисунок кувшина / 78 и так далее), за которыми следовала общая сумма («равно тому-то»). Было разумно предположить, что знак 78 означает союз «и», заменяющий (очевидно, не известный критянам) знак «плюс»: «Пять кувшинов и шесть кувшинов и так далее равно такому-то числу кувшинов». В некоторых случаях Вентрису помогали ошибки писца: подметив, к примеру, что знак 28 очень часто исправлялся писцом на 38 (а на глиняных табличках эти замены были очень хорошо видны), он заключил, что соответствующие слоги, видимо, весьма близки (вроде сходства слов «то» и «до», которое действительно может приводить к частым опискам). Все эти догадки и предположения позволили Вентрису в конце концов составить таблицу знаков, в которой они были разделены на «предположительно гласные» и «предположительно согласные», а затем построить таблицу повторяющихся комбинаций тех и других. Некоторые из этих комбинаций оказались повторяющимися, причем одни из них наличествовали как в кноссоских, так и пилосских табличках, тогда как другие — только в тех или других. В известных к тому времени угаритских и других надписях Ближнего Востока такие повторяющиеся комбинации знаков обычно означали названия городов и групп населения. Вентрис сделал смелое предположение, что это верно и для его табличек. Тогда комбинации, присущие только критским табличкам, могли означать названия городов или местностей на Крите вблизи Кноссоского дворца. Одно такое «критское» сочетание — 70-52-12 — повторялось особенно часто, и Вентрис предположил, что эти слоги как раз и образуют слово Кноссос: «ко-но-со». Рядом с ним часто возникало сочетание 08-73-30-12, и можно было думать, что это слово (кончающееся на 12, т. е. тоже на «со») является названием какого-нибудь важного места вблизи Кноссоса; одно такое название было известно еще из Гомера: Амниос, близлежащая торговая гавань. В слоговом (древнем) написании оно должно было выглядеть скорее всего как «а-ми-ни-(о) — со», что позволяло определить написание еще трех слогов. Дальше Вентрис рассуждал так: согласно Коули, комбинации знаков для девочек и мальчиков — это 70–42 и 70–54; если 70 — это «ко», то оба слова имеют вид «ко-42» и «ко-54». В греческом языке среди прочих названий для мальчиков и девочек есть «корос» и «коре»; в ионийском диалекте Гомера «корос» звучит как «коурос», в дорийском диалекте — как «коруос»; быть может, исходным (древнемикенским) были «корвос» (а для девочек — «кор-ва»)? Это добавляет еще два слога в таблицу. Работа Вентриса, таким образом, отчасти напоминала решение кроссворда, где разгадка первых слов все более и более облегчает разгадку следующих, но лишь в том случае, если каждое очередное слово читать именно по-гречески («по-древнемикенски»). Тем самым вероятность того, что язык табличек — действительно древнегреческий, а не какой-то крито-минойский, постепенно усиливалась. К 1952 году Вентрис (работая теперь совместно с кембриджским специалистом по греческим диалектам Джоном Чадвиком) расшифровал слоговые значения почти всех знаков «линейного письма Б» и составил их сводную таблицу. Однако многие специалисты (в особенности ярые сторонники «крито-минойского» происхождения табличек) не верили в эту «греческую» расшифровку и требовали в качестве решающего эксперимента, чтобы Вентрис прочел с ее помощью незнакомый текст (т. е. текст, не использованный при составлении самой таблицы). И Вентрис блестяще справился с этой задачей: получив от Карла Блегена еще не опубликованную табличку из Пилоса и применив для ее расшифровки найденные им слоговые (греческие) значения знаков, он получил связный й осмысленный текст! После этого чтение табличек пошло полным ходом, и уже в 1956 году Вентрис и Чадвик опубликовали толстый том «Документов микенского греческого языка», где было собрано большое число расшифрованных ими к тому времени текстов. А через две недели после выхода этого главного труда своей жизни 34-летний Майкл Вентрис погиб в автомобильной катастрофе. >ГЛАВА 9 ХЕТТСКИЕ СОСЕДИ История расшифровки линейного письма Б бесконечно интересна сама по себе, но скажем честно: мы не стали бы ею так долго заниматься, если бы одна деталь этой истории не имела прямого отношения к интересующей нас загадке Троянской войны. Вот она, эта важная и далеко ведущая деталь. В строках глиняных табличек из Пилоса то и дело встречаются перечни рабов и рабынь, работавших в царском хозяйстве (кстати, термин для обозначения этих людей, «лавийяйи», произведен от того же слова «лавия», «добыча», которое употребляет Гомер в 20-й песне «Илиады», рассказывая о пленницах, захваченных Ахиллом: «…множество жен полонил и, лишив их жизни свободной, в рабство увлек»). Если вдуматься, эти упоминания о рабах и рыбынях отнюдь не удивительны — рабский труд составлял в те времена один из главных хозяйственных устоев всех империй и царств. Любопытней другое. Зачастую рядом со значками, обозначающими рабов, обнаруживаются слова, которые можно расшифровать как указание, где именно эти рабы захвачены. Например, один такой (особенно подробный) список из Пилоса насчитывает около 600 женщин и 700 детей рабского сословия, причем о части из них сказано: «Из Милета» («милатийяйи»), что свидетельствует о походах микенцев к этому городу, находившемуся на западном побережье Малой Азии: В другом месте читаем о рабыне родом из местности «Асийяйи», что сразу напоминает (специалисту, конечно) слово «Ассува» — тогдашнее название обширного региона на том же побережье, позднее трансформировавшееся в греческое название для всей Малой Азии — «Асия». А одна из таких «пленниц» в пилосском списке и вообще характеризуется как «То-ро-ва» — может быть, «из Трои»? Впрочем, подобные фонетические сходства следует толковать крайне осторожно. Не зная, по каким законам меняются со временем гласные и согласные в данном языке, а также как они меняются при переходе от языка к языку (а лингвисты уже обнаружили множество таких законов), очень легко попасть впросак и принять желаемое за действительное. Не будем поэтому торопиться и выделим лишь то, что является несомненным. Несомненным во всем ранее сказанном представляется тот факт, что перечисленные выше упоминания «микенских» табличек о рабах и рабынях, будучи сведены воедино, убеждают нас, что уже в XV–XIII веках до н. э. (пилосские таблички относятся именно к этому времени) микенские и другие цари Ахейи совершали довольно частые походы за «живым товаром» в Малую Азию (в район Милета и «Ассувы»). Этот вывод настолько важен для наших «поисков Трои», что немедленно возникает волнующий вопрос: подтверждается ли он какими-либо другими фактами? Оказывается, да. Оказывается, в ходе новейших археологических раскопок на западном побережье Малой Азии обнаружено уже более 25 мест, где бытовала в больших количествах микенская посуда XV–XIII веков до н. э. Места эти концентрируются в центральной и южной части побережья, вблизи Эфеса и упомянутого выше Милета{15}. Более того, установлено, что микенцы, видимо, составляли заметную часть постоянных жителей тогдашнего Милета (а также, возможно, и некоторых других малоазийских мест). Действительно, этот город, основанный критянами и долго, сохранявший связи с Критом, в какой-то момент, примерно в 1450–1440 гг. до н. э., что совпадает со временем захвата Крита микенцами, резко меняет свой облик: он перестраивается, в нем воздвигается крепость, строятся храм Афины и дома с типично греческими большими залами — «мегаронами» — и т. п. Аналогичные приметы греческого пребывания появляются в то же время в соседних малоазийских городах Эфесе, Книде и других, а также в других бывших критских владениях — на островах Родосе, Хиосе и Самосе, лежащих у побережья Малой Азии. Иными словами, все критское стало теперь микенским. Как говорится, «убил — и еще наследовал». Это делает понятным упоминания о рабах в пилосских табличках. Разумеется, владея столь многими опорными пунктами у берегов Малой Азии и даже на ее побережье, ахейцы вполне могли совершать с этого плацдарма не только спорадические, но и вполне регулярные вылазки за рабами и рабынями в глубь малоазийского полуострова. Все эти факты интересны и сами по себе, ибо рисуют картину микенской цивилизации XIV–XIII веков до н. э. как весьма внушительного по размерам и военной силе царства, территория которого включала не только материковую Грецию, но также многочисленные острова Эгейского моря и даже прилегающее к ним побережье Малой Азии. Мы уже видели такую картину — в гомеровской «Илиаде», разумеется, где же еще! — но на сей раз уже не нужно гадать, достоверна ли она, на сей раз исторический фон гомеровского рассказа подтвержден как точными данными археологии, так и показаниями критско-микенской письменности. Это крайне интересно. Но у перечисленных выше фактов есть и другой, не менее важный аспект. Наличие форпостов Микенского царства на берегах Малой Азии и его неустанные попытки проникновения в поисках «живого товара» все дальше и дальше в глубину полуострова неизбежно должны были приводить к столкновениям ахейцев с другим могучим царством, которое в те же времена доминировало в этих же местах, вплоть до Милета и Трои, — с государством хеттов, с Хеттской империей. А если так, то можно думать, что конфликты двух столь серьезных противников могли найти какое-то отражение в том или ином хеттском клинописном тексте — ведь хеттские цари, как мы сейчас убедимся, вели обширную и детальную документацию всех своих военных, дипломатических и торговых действий. Продолжая эту логическую нить, мы приходим к очередному важному выводу: не исключено, что искомые нами отголоски Троянской войны (которая вполне могла быть одним из таких малоазийских «территориальных конфликтов») тоже могут обнаружиться в каких-нибудь хеттских текстах XV–XIII веков до н. э. Этот вывод заставляет пристальней присмотреться к хеттам, к их истории и в особенности, как мы уже сказали, к письменным памятникам этой истории. Хеттское царство часто называют «забытым». Действительно, долгое время господствовало представление, будто главными действующими лицами на древней ближневосточной сцене были египтяне да ассирийцы. Хетты воспринимались в духе многочисленных упоминаний в Библии (в той её части, которая у евреев называется «ТАНАХ», а у христиан — «Ветхий завет» для христиан), где о них говорится в основном как об одном из второстепенных племен («Хиттим»), встреченных евреями, когда они вернулись из египетского рабства в Палестину: например, красавица Батшева (в современном произношении Вирсавия), так возбудившая любострастие царя Давида, была женой «Урии Хеттеянина», т. е. хетта. Лишь в двух местах ТАНАХа мельком говорится о «хеттейских царях». В действительности, однако, хетты были не столько «зат бытыми», сколько, скорее, «неопознанными» участниками ближневосточной истории. Когда археологи обнаружили в Карнаке и других местах Египта стеллы с отчетом о великой битве при Кадеше (1275 г. до н. э.), эта историческая роль хеттов сразу стала очевидной: выяснилось, что фараону Рамзесу II противостоял в этой битве не кто иной, как «Великий Царь Хатти», армия которого включала воинов «шестнадцати народов» и насчитывала 2500 боевых колесниц! «Узнавание» хеттов получило огромный толчок, когда в 1834 году на поросшем дикими колючками холме вблизи заброшенной турецкой деревеньки Богазкёй в, Анатолии были открыты развалины бывшей хеттской столицы Хаттусы. Остатки ее могучих стен позволяли думать, что когда-то они тянулись на добрых три-четыре километра в длину и, следовательно, заключенный внутри них город не уступал по размерам Афинам в пору их высшего расцвета; там и сям на холме еще сохранились следы высившихся здесь некогда огромных храмов, посвященных каким-то неведомым богам, остатки львиных фигур, украшавших громадные ворота, и обломки странных скульптур, покрытых иероглифами на неизвестном языке. Вскоре аналогичная крепость, хотя и меньших размеров, была раскопана в Каркемише, а иероглифы, аналогичные богазкёйским, обнаружились во многих местах Сирии и Северного Ирака, а также Центральной и Западной Турции. Стало очевидно, что хеттское государство занимало огромную по тем временам территорию и его влияние ощущалось от западного побережья Малой Азии до Северной Сирии и верховий Тигра и Евфрата; иными словами, по размерам и силе оно не уступало тогдашним Египту и Ассирии. Эти представления были подтверждены открытыми в 1887 году глиняными табличками из Тель-Амарны (Сирия), содержавшими переписку фараонов XV–XIV веков до н. э. с мелкими сирийскими и палестинскими царьками, в которой удостоверялась реальность хеттской гегемонии в этих местах задолго до битвы при Кадеше. Но главный свет на историю хеттов пролили найденные в 1906–1908 годах Винклером таблички из Богазкёя, общим числом около 10 тысяч, с текстами на восьми языках (хеттский, аккадский, шумерский и др.), что, кстати, красноречиво свидетельствовало о многонациональном характере хеттского царства. Хеттские тексты этих табличек были расшифрованы во время первой мировой войны и вскоре после нее, и пионером здесь был уже упомянутый нами чешский лингвист Бедржих Грозный. Благодаря этим текстам история хеттов известна сегодня во многих подробностях. К сожалению, даже самое краткое знакомство с ней не может обойтись без упоминаний царских имен, ибо только перечисление последовательных царствований позволяет хоть как-то сориентироваться в хеттской хронологии. Говорю «к сожалению», потому что имена этих царей, как это сейчас же станет очевидным, зачастую труднопроизносимы. Хетты говорили на языке индо-европейской группы, близком к языкам других жителей тогдашней Анатолии — лувийцев, ликийцев и т. п. (эти языки тоже теперь расшифрованы), и пришли в свои земли откуда-то с северных берегов Черного моря, по всей видимости, за две — две с половиной тысячи лет до н. э., но надежное знание генеалогии их царей начинается лишь с 1650 года до н. э. (отрывочные сведения о более ранних временах, содержащиеся в некоторых ассирийских источниках, имеют туманный характер). В 1650 году до н. э. на трон объединенного хеттского царства взошел Хаттусилис Первый, прославившийся завоеванием царства Алеппо в Сирии; ему наследовал его внук Мурсилис, завоевавший долину Евфрата вплоть до Вавилона, а затем, после продолжительных династических распрей, — потомки Мурсилиса: Телипинус, его сын Аллувамнас и ряд последующих, не очень точно известных правителей. Этот период называется «Старым царством»; он продолжался до начала XV века до н. э., когда на трон взошел Тудхалйяс (по-видимому, второй по счету с таким именем), открывший славную эпоху «Нового царства». В эту эпоху хеттская держава стала подлинной империей, т. е. конгломератом многих народностей — в ее состав входили около 20 крупных городов и 40–50 «земель» (небольших царств и отдельных полисов вроде Алеппо, Дамаска, Хацора, Тира, Сидона и т. п.). Около 1400 года до н. э. правителем этой империи стал Тудхалйяс Третий; около 1380 года его сменил Суппилулиумас (я предупреждал!); примерно в 1340 году до н. э. на трон взошел Мурсилис Второй, а около 1315-го — Муватталис, о котором нам еще придется не раз говорить; за ним правили Мурсилис Третий (1296–1289) и, наконец, Хаттусилис Третий (1289–1265); он, видимо, и был тем хеттским царем, который сражался при Кадеше. Особенно интересными с нашей, «троянской», точки зрения являются последние 70 лет существования хеттской империи — времена царей Тудхалияса Четвертого (1265–1235), Арнувандаса Второго (1235–1215) и Суппилулиумаса Второго (1215–1190 гг. до н. э.); они интересны для нас потому, что включают те годы, к которым античная традиция относит Троянскую войну, а археологи — пожар Трои-7а. Они были также последними в истории хеттов, потому что вскоре после смерти Суппилулиумаса Второго или даже при нем, примерно в 1190 году до н. э., в страну вторглись неведомые завоеватели, которые захватили и сожгли столицу Хаттуса (Богазкёй) и положили конец великой Хеттской империи. Перед тем, как задернуть занавес над ее историей, обратим еще внимание, что время гибели объединенного хеттского государства практически совпадает со временем столь же внезапной и столь же загадочной гибели объединенной микенской цивилизации (примерно 1200 год до н. э.) — и тоже под натиском неведомых завоевателей. Если добавить, что примерно тогда же подвергся вторжению и Египет, то череда многозначительных совпадений станет слишком широкой, чтобы быть случайной, и это порождает некоторые предположения, разговор о которых мы, однако, отложим на конец нашего очерка. История хеттов могла бы стать предметом увлекательного рассказа, и даже не одного, но сейчас нас интересует в ней лишь ее узкий «ахейско-троянский» аспект. Этот наш интерес не оригинален: задолго до нас, с самого начала расшифровки хеттских документов, многие лингвисты и историки стали искать в них следы хеттско-ахейских контактов (а многие — и отголоски Троянской войны) и кое-что даже успели найти. В частности, на некоторых глиняных табличках из Богазкёя они обнаружили такие тексты, которые на первый взгляд недвусмысленно указывают на ахейцев и свидетельствуют о давних контактах хеттов с ахейским государством. Действительно, в некоторых хеттских документах (их насчитывается свыше 20) фигурирует некое (заморское?) царство Ахиява (хеттское Ahhijaawa), название которого так похоже на слово «Ахайвой» (так Гомер именует своих героев-ахейцев), что кажется попросту немыслимым истолковать его как-то иначе. В этих текстах встречаются и другие, столь же впечатляющие совпадения, например, Lazpas — какая-то страна, связанная с Ахиявой: это название почти до очевидности похоже на Лесбос — остров в Эгейском море у берегов Анатолии вблизи Трои; или Milawata — город на территории Ликии, находившийся в те времена под властью царей Ахиявы, — название, весьма похожее на Милет, древнегреч. «Миллатос», который, как мы уже говорили, действительно представлял собой в ту пору главный ахейский форпост в Малой Азии. Эти совпадения простираются и на имена собственные: так, исследователи обнаружили в текстах, связанных с Ахиявой, имя Tawakalawas, что с учетом различия произношений очень похоже на греческое «Этеоклес», которое в пилосских табличках зафиксировано как Etewoklewelos; а также совсем уж поразительное Attarisijas, которое можно прочесть как Atressias, что очень близко к имени легендарного греческого героя Атрея, родоначальника всех микенских царей-Атридов вплоть до Агамемнона. В 1924 году Эмиль Форрер, швейцарский лингвист и историк, один из главных дешифровщиков хеттских глиняных табличек, опубликовал статью «Догомеровские греки в клинописных — текстах из Богазкёя», в которой на основании перечисленных выше фактов и множества других, более тонких, но не менее впечатляющих сличений выдвинул гипотезу, что в соответствующих хеттских документах, откуда они были извлечены, речь действительно идет об «ахейской» (микенской) цивилизации времен Троянской войны и ранее, что эта цивилизация (объединение городов-царств во главе с Микенами) была издавна и хорошо известна хеттам и что контакты Хеттской империи с Ахиявой, временами дружеские, временами кровавые, продолжались на протяжении нескольких веков вплоть до эпохи Троянской войны и последовавшего вскоре после нее загадочного краха обеих держав. На наш несведущий взгляд, после всех перечисленных выше совпадений эти утверждения почти самоочевидны, поэтому покажется, наверное, неожиданным, что толкование Э. Форрера вызвало поначалу крайне резкую критику крупнейших хеттологов того времени и, прежде всего, Фердинанда Зоммера — автора фундаментального исследования, в котором были собраны и прокомментированы все хеттские источники с упоминаниями Ахиявы. С этого начался затяжной «спор об Ахияве», к которому и нам стоит присмотреться, так как он напрямую связан с интересующей нас проблемой исторической достоверности Троянской войны. Надо же знать, у кого какие аргументы… Критика гипотезы Форрера шла главным образом со стороны лингвистической. Оппоненты утверждали, что его фонетические сближения — Ахиява — Ахейя, Аттарисиас — Атреус — весьма произвольны и противоречат законам греческого и хеттского языков (например, хеттское «ийя» в слове Ахийява никак нельзя свести к греческому «аи» в слове Ахайвой). А кроме того, двадцать с лишним упоминаний Ахиявы в хеттских текстах — число, конечно, внушительное, но лишь до-тех пор, пока мы концентрируем внимание на одной Ахияве; оно сразу становится ничтожным, когда вспомнишь о многих тысячах (!) упоминаний Египта или Ассирии. Стало быть, предположение о «мощи» Ахиявы не так уж убедительно — это царство вполне могло быть и не таким уж большим, чем-то вроде других царств на западном берегу тогдашней Малой Азии или в Эгейском море — и может быть, именно там оно и располагалось. Исходя из подобных рассуждений, Ф. Зоммер помещал Ахияву вблизи Милета; Б. Грозный — на острове Родос; П. Кречмер — на крайнем юге Малой Азии (нынешняя Анталйя), Дж. Маккуин — возле Трои, а Дж. Мелларт — вообще во Фракии, на противоположном от Трои берегу Мраморного моря, на месте нынешней Румынии и Болгарии. Как насмешливо заметил один из корифеев хеттологии Ф. Шахермайр, «противники Форрера готовы были локализовать Ахияву хоть на Луне, лишь бы не на греческом континенте». Однако по мере того как археология уточняла истинные масштабы ахейского присутствия в Эгейском море и в Малой Азии, гипотеза Форрера начала привлекать все большее сочувствие ученых, и сегодня совпадение «Ахиявы» с какой-то частью ахейского мира считается почти доказанным. Спор идет скорее о том, включали хетты в это понятие всю микенскую цивилизацию или только ее форпосты в Малой Азии, Но в пользу первого предположения говорит тот факт, что в некоторых хеттских документах перед словами «царь Ахиявы» стоит значок, означавший у хеттов что-то вроде «Его Величество» титул, которого удостаивались в хеттской официальной переписке только цари Египта и Ассирии. О «величии» Ахиявы косвенно говорит и другой факт: в 1981 г. в греческих Фивах были найдены 36 ляпис-лазуревых печатей, происхождение части которых надежно прослежено до храма Мардука в Вавилоне, некогда ограбленного ассирийцами. Печати найдены в том слое, который соответствует времени хеттских попыток блокировать ассирийскую торговлю. Не были ли они подарком ассирийцев, пытавшихся привлечь Ахейю на свою сторону против хеттов? Эти и другие аналогичные свидетельства значимости Ахиявы постепенно побудили большинство ученых признать, что великий царь Ахиявы, равный по рангу царям других великих держав того времени, не мог быть правителем какой-то страны в Анатолии, где не было места ни для какой великой державы, кроме Хатти, и потому мог быть лишь царем материковой Греции. Итак, по нынешнему мнению большинства ученых, хеттская «Ахиява» — это действительно Микенское царство XV–XIII веков до н. э., а коль скоро это так, нам, конечно же, следует обратиться к хеттским текстам об отношениях с Ахиявой — ведь где-то там могут скрываться и упоминания о Трое, а может быть, и о Троянской войне. Сейчас мы этим займемся. Мы уже близки к финишу. >ГЛАВА 10 ТРОЯ В ХЕТТСКИХ ДОКУМЕНТАХ Хеттские клинописные тексты, сохранившиеся на десяти с лишним тысячах глиняных табличек из Хаттусы (Богазкёя), — это подлинная сокровищница исторических документов, на страницах которой запечатлены живые, яркие образы царей и полководцев, впечатляющие описания битв и походов, сложные и тонкие дипломатические интриги международной политики. В сравнении с этим тексты крито-микенского линейного письма Б выглядят как сухие безжизненные перечни, сквозь которые едва сквозят смутные силуэты мертвых предметов и безвестных людей. Но хеттские тексты не исключение на тогдашнем Востоке. Такую же широкую, яркую, поразительно выпуклую картину сложной политической и культурной жизни далекого прошлого запечатлели и памятники двух других великих держав той эпохи — Древнего Египта и Древней Ассирии. В этой связи английский историк Майкл Вуд меланхолически замечает: «Увы, микенская Греция находилась на периферии этого «клуба избранных»…» И он прав: в сравнении с хеттской, египетской и ассирийской цивилизациями XV–XIII веков до н. э. с их бесконечными территориями, огромными столицами и громадными военными полчищами материковая Треция тех времен — даже в любовном описании Гомера — кажется «убогой» и «варварской»; этакий архаичный вариант «рыцарской Европы» с ее безграмотными королями и утопавшими в грязи городами или же более знакомой нам Киевской Руси времен какого-нибудь Святослава или Владимира. Подобно Агамемнону и Ахиллу у Гомера, и те ведь ходили походами на Царьград с окраин своей ойкумены, и у тех всех радостей было — пировать в шатрах, враждовать друг с другом из-за пленниц или золота да схватываться с врагами в богатырских поединках. Боги, однако, смеются: где сегодня те византийцы — и где славяне? Где те хетты — и где греки? Именно таким «варварам» история, как правило, дарует великое будущее: пройдет лишь несколько столетий, и Хаттуса будет лежать в развалинах, а Афины станут центром ойкумены: там Платон будет учить Аристотеля, на Самосе родится Пифагор, а на Косе — Гиппократ, и греческие корабли разгромят самую крупную сухопутную державу азиатского континента — империю персов, которая к тому времени сменит хеттов, а потом Александр Македонский высадится в Малой Азии, чтобы завоевать и преобразить Восток. В описываемые нами годы до этого, однако, еще далеко, и, глядя на варварский городок Афины, никто не рискнет предсказать им великое будущее. Хетты еще правят в Малой Азии: их империя занимает всю центральную часть этого огромного полуострова, оползая по карте вниз, на юг, в Сирию и Двуречье, словно под грузом собственной тяжести. На западе она контролирует множество мелких полунезависимых царств на побережье Эгейского моря. Среди них и Милет — видимо, он находится в двойном подчинении (термин Шахермайра): подчиняется Микенам, но официально лоялен по отношению к Хаттусе. Эти места нас и интересуют — здесь, в их северо-западном углу, лежит Троя. Политическая география этого побережья сложна и запутанна, и хеттские тексты мало помогают в ее прояснении. Огромная хеттская держава мало интересуется этими местами: она требует лояльности от всех местных царствишек, ее цель — поддерживать нерушимый порядок в своих пределах, и лишь в те редкие периоды, когда чей-то серьезный мятеж или вторжение его нарушат, она вспоминает об этих местах и шлет туда армию, чтобы восстановить положенный миропорядок. Немудрено, что хеттские документы плохо и путано фиксируют местную географию — они и Ахияву-то, как мы видели, упоминают нечасто, в основном именно в связи с ее вторжениями или интригами на побережье. Все же можно восстановить, что главным царством на побережье хетты считали Арцаву (Аггауф), о местонахождении которой хеттологи по сей день ведут яростные споры. Одни помещают ее в юго-восточной части полуострова, и на карте в старой «Британской энциклопедии» вы увидите именно этот вариант, другие — их подавляющее большинство — отстаивают теорию «западной» Арцавы, в центре западного побережья Малой Азии, со столицей в Апасе, греческом Эфесе. Здесь, на западе, действительно раскопаны крупные города и роскошные дворцы, каких нет на юге; но главное — западное расположение Арцавы много лучше согласуется с имеющимися сведениями о соседних с ней царствах — Мира, Хапалла и Страна реки Сеха. На карте «Британники» они показаны севернее «южной» Арцавы, то есть уже в глубине малоазийского полуострова, но хеттологи показали, что название «Мира» точно сопоставимо с греческим «Мирос» — названием реки северо-восточнее Эфеса, а слово «Хапалла» — Со словом «Капалла», которым греки обозначали область побережья северо-западней Эфеса. Если принять «западное» размещение этих двух соседних с Арцавой царств, то и третий ее сосед, Страна реки Сеха, тоже найдет правильное место — еще дальше на север, в той части побережья, что против острова Лесбоса. То, что это размещение правильное, подтверждается упоминанием хеттских источников, что эта страна граничит со страной Lazpas, что как раз и означает, как мы уже говорили выше, греческий Лесбос. Все перечисленные царства вместе с Арцавой иногда именуются в хеттских документах одним словом «Ассува», которое замечательно близко к тому слову «Асуйя» (позднее — «Асия»), которым в крито-микенских табличках обозначается одно из главных мест, где ахейцы добывали себе рабов в набегах на малоазийское побережье. Видимо, такое единое обозначение следует понимать в том смысле, что все эти западные прибрежные царства время от времени объединялись в борьбе против власти хеттов, и потому хетты знали их как единого врага; это толкование действительно подтверждается списком городов-государств «Ассувы», перечисленных в «Анналах» царя Тудхалияса Четвертого. Может показаться, что мы копаемся в ненужных подробностях, но это не так: двигаясь от одного прибрежного царства к другому, мы имеем важную тайную цель — найти местоположение самого загадочного из них, которое в перечне из «Анналов» Тудхалияса именуется «Вилуса» (по-хеттски — Wilusija). Это название идет в перечне сразу же после другого, — еще более примечательного — «Truisa», которое тотчас и главным образом приковало к себе внимание исследователей (прежде всего Э. Форрера), попытавшихся отождествить его с гомеровским «Troih», т. е. Троей! Эта попытка встретила возражения других ученых, ибо хеттские знаки этого слова допускали несколько возможностей чтения (Форрер выбрал из них самую удобную для своих целей), и потому хеттологи, отложив на будущее загадку «Труисы», переключились на поиски Вилусы, и вот тогда-то П. Кречмер первым привлек для сравнения с ее названием греческое слово «Илион», или «Илиос», в котором, вглядываясь в особенности гомеровского языка, он выявил некогда существовавшее, но выпавшее начальное «В» — «Вилиос». Гипотеза Кречмера вскоре получила поддержку. При анализе хеттских текстов конца XIV века до н. э. времен царя Муватталиса выявилось, что тогдашний правитель Вилусы, некий Alaxandus (обратите внимание на это имя!) обратился к хеттам за помощью против соседей, отдав себя под власть Муватталиса. Между тем из много более поздних византийских хроник известно, что был в Византии город, основанный, по легенде, «царем Мотилом», который принимал там «Париса и Елену». Напомнив, что второе имя Париса было Александр, Кречмер предположил, что «Мотил» — это искаженное временем и легендой «Муватталис». Более того, в другом хеттском документе упоминается царь — предшественник Алаксандуса, по имени Кукунис, которое Кречмер отождествил с именем царя Кикна, упоминаемого в «Илиаде»: согласно Гомеру, он правил в городе Колоны, южнее Трои, и первым пришел на помощь осажденной Трое. Все эти совпадения побуждают сопоставить Вилусу с гомеровским Илиосом, или Троей. И действительно, если следовать перечню прибрежных царств в «Анналах» Тудхаилияса, то местонахождение загадочной Вилусы естественным образом совмещается с положением Трои. Может быть, Труисой в списке Тудхалияса называлась местность, окружавшая город, т. е. тот район, который мы сегодня называем Троадой? Ведь и у Гомера Троя и Илион-Илиос часто упоминаются так, будто Троя понимается и как город, и как страна (Троада), а Илион — только как город (мы говорили об этом в 3-й главе). Как бы то ни было, но в хеттских текстах перед словом Вилуса иногда стоят сразу два значка — страны и города, так что все вместе читается как «страна города Вилуса», а иногда только знак страны — «царство Вилуса». Это царство упоминается весьма часто, что создает впечатление давнего знакомства хеттов с этим районом. Самый первый «вилусский» документ хеттов — договор Алаксандуса и Муватталиса — рассказывает, что некогда хеттам подчинялась и Вилуса, и Арцава; позднее Арцава отпала, но Вилуса оставалась с хеттами в мире и дружбе, и отец Алаксандуса царь Кукунис даже оказал отцу Муватталиса — царю Мурсилису — помощь против Арцавы. Далее в этом документе следует: «У Кукуниса… было… вот он…» Исходя из того, что точно такое же сочетание слов было найдено в другом хеттском документе — об усыновлении одним хеттским царем некоего принца из страны Мира, историк И. Фридрих выдвинул смелую гипотезу, что и тут нужно читать: «У Кукуниса (не) было (детей), вот (он тебя, Алаксандус, и усыновил)». Гипотеза может показаться даже слишком смелой, учитывая скудость наличного текста, но ее делает привлекательной упоминание великого греческого драматурга Еврипида в его (известной, к сожалению, лишь в пересказе) трагедии «Александр» о том, что троянский Парис-Александр имел аналогичную биографию: он был усыновлен царем Приамом и провозглашен законным наследником, что вызвало недовольство и ропот троянцев. В договоре Муватталиса с Алаксандусом тоже говорится, что «человечество ропщет» против Алаксандуса. Параллели слишком волнующи, чтобы оставить их без внимания, — ведь, приняв гипотезу Фридриха, мы, по существу, обнаруживаем в хеттских текстах прямое указание на одного из главных героев «Илиады»! Судя по дальнейшему тексту договора, Муватталис поддержал Алаксандуса против «ропщущих» подданных, за что Алаксандус признал себя хеттским вассалом. Хетты, таким образом, в обмен за свою помощь получили еще одного вассала на западном берегу (в добавление к уже покоренным ими Хапалле, Мире и Стране реки Сеха). Как предположила Хайнхольд-Крамер, сколачивание этого блока вассальных царств было, видимо, необходимо хеттам для прикрытия побережья от возможного вторжения опасного врага. Мы сейчас увидим, что, скорее всего, этим врагом, была Ахиява, т. е. ахейцы. Пока же заметим, что с этим присоединением Вилусы к прохеттской коалиции прибрежных царств весьма подозрительно совпадает первое упоминание хеттами троянского племени: в стеле Рамзеса Второго о битве с хеттами при Кадеше (1275 г. до н. э.) говорится о хеттских союзниках «A-ru-sa-wi», что, видимо, означает воинов из Арцавы, и, «Dar-d-an-ja», что ученые расшифровывают как «дарданцы» — племя, обитавшее, согласно «Илиаде», на юге Троады-Илиоса (Вилусы); мы уже говорили много раньше, что это название то ли восходит к проливу Дарданеллы, то ли само дало ему такое название. Но откуда бы ни взялось слово «дарданцы», ясно, что их упоминание в Кадешской стеле — лишнее доказательство того, что Вилусу правильно отождествлять с Троадой: стоило ей стать вассалом Муватталиса (ум. в 1296 г. до н. э.), и вскоре (1275 г. до н. э.) вилусцы-дарданцы уже появляются в хеттских войсках при Кадеше. Есть и еще одно подтверждение того, что Вилуса — скорее всего, Троя: в договоре вилусского Алаксандуса с Муватталисом упоминаются вилусские боги; один из них — «Аппалинаус», что, несомненно, означает Аполлон. Напомним, что и у Гомера Аполлон не греческий, а именно троянский бог (о чем говорит, например, его история с Кассандрой, которой он хотел овладеть, а за отказ наплевал в уста). Следующим в списке вилусских богов назван «бог подземных вод», что не менее поразительно совпадает с тем фактом, что вблизи Трои воды реки Скамандр с шумом и грохотом выходят из подземного туннеля в широкое ущелье под горой Ида; это ущелье издавна было местом религиозных праздников в Троаде. Гомер, кстати, тоже называет Скамандр «божественным» и «богорожденным». После всего сказанного представляется уже почти несомненным, что в хеттских текстах, рассказывающих о царстве Вилуса, речь действительно идет о Трое-Илионе, знакомой Гомеру, и о ее древних царях времен Троянской войны: не забудем, что правление Муватталиса и его преемников, по какой хронологии ни считать, совпадает со временем существования Трои-6 и 7а, раскопанных Шлиманом, Дорпфельдом и Блегеном. Сам этот факт не так уж поразителен, если вдуматься, т— ведь сомнений в реальном существовании Трои на самом деле ни у кого нет, как нет сомнений и в том, что Троянское царство (а Троя-6, судя по ее размерам, должна была быть столицей довольно значительного царства — это самый большой древний город, раскопанный на северо-западе Малой Азии) уже хотя бы в силу своего геополитического расположения должно было входить в контакты с современной ему и соседствующей с ним могущественной империей хеттов. Приятно, конечно, что все эти представления, имеющие первоисточником гомеровский рассказ, подтверждены теперь перекрестными историческими, археологическими и лингвистическими доказательствами. Но это еще не доказывает исторической реальности описанной Гомером Троянской войны… Пока что мы не обнаружили в хеттских документах чего-либо, напоминающего об этом событии. Задумаемся поэтому: где следует искать такие упоминания (если они вообще существуют)? Ответ представляется однозначным. Троянская война велась ахейцами (для хеттов — Ахиявой) против Трои (для хеттов — Вилусы, их вассала). Следовательно, теперь, на завершающем этапе нашего исторического расследования, надлежит обратиться к тем хеттским текстам, в которых одновременно упоминаются и Вилуса, и Ахиява. Обратимся же к ним — и скорее — мы почти у цели! >ГЛАВА 11 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ХЕТТОВ Большинство хеттских документов повествует о внутренних делах империи; это вполне обычные, знакомые имперские дела: смены правителей, борьба за престол, смуты и гражданские войны, нерадивость местных чиновников и волнения в окраинных областях. Эти глиняные таблички не сохранили ни текстов своего Гомера, ни даже текстов своего Бродского, чтобы позволить потомкам вдохнуть горячую и горькую пыль тех веков, но и в них ощущается бескрайний размах имперского пространства, стянутого сетью нескончаемых, в пустоту уходящих дорог, всепроницаемость и вездесущесть централизованного надзора и тяжесть столичной длани на загривке провинций, бесконечная глушь отдаленных полисов и размеренная медлительность их предустановленного быта. Другой массив текстов посвящен делам внешним — это дипломатическая переписка с повелителями других империй, сообщения о битвах и походах, хвастливые отчеты о победах и сетования на нежданные поражения, договоры о торговле или их расторжение, смутные отголоски сложных политических интриг. Заморское царство Ахиява (которое большинство хеттологов, как мы уже говорили, отождествляют сегодня с материковой, «микенской» Грецией) упоминается здесь нечасто, около 20 раз, то есть несравненно реже, чем Ассирия и Египет, но ведь и то сказать — Ахиява далеко, и ее цари редко когда угрожают империи столь серьезно, как ее ближайшие и могущественные соседи на юге и востоке. Все же несколько-раз доходит, видимо, и до этого, и к таким конфликтам Ахиявы и хеттов нам нужно присмотреться особенно детально, потому что, как уже говорилось в конце предыдущей главы, отголоски Троянской войны, т. е. похода ахейцев на Трою-Вилусу, могут оказаться лишь в тех хеттских документах, которые повествуют о вторжениях царей Ахиявы в хеттские владения. Первый (из доныне найденных) хеттский текст, в котором упоминается такое вторжение, — это «рассказ о преступлениях Маддуваттаса», как его называют хеттологи, отнесшие этот рассказ после долгих споров примерно к 1440–1380 годам до н. э. Микенские греки в то время, как известно, уже овладели Критом и островами Эгейского моря, и вот уже пара десятилетий, как утвердились в Милете. Немудрено, что, ступив на побережье Малой Азии, они тут же начинают вмешиваться в дела прибрежных малоазийских земель, подвластных империи хеттов, и вот в тексте послания к некому Маддуваттасу (видимо, царьку одной из таких земель) в ходе перечисления его прегрешений впервые появляется упоминание об Ахияве: «…тебя (Маддуваттаса), из страны твоей изгнал Аттариссий, человек из страны Аххия… он и далее вслед за тобой… он постоянно преследовал тебя, он стремился к твоей, Маддуваттас, погибели. Но бежал ты, Маддуваттас, к от(цу Солнца Моего). И отец Солнца Моего отклонил тебя от погибели и Аттариссия назад отстранил…» В чем же состояли «преступления» Маддуваттаса, по которым названо это пространное и примечательное послание? Оказывается, едва оправившись благодаря помощи хеттов от поражения, он тотчас напал на своих соседей, других хеттских вассалов, и тогда отступивший было Аттариссий снова появился на сцене с огромным по тем временам войском, насчитывавшим 100 боевых колесниц. Пришлось снова отправлять против него хеттскую армию. Однако неугомонный Маддуваттас и после этого продолжал свои происки: он захватил ряд мелких прибрежных царств по соседству, сколотил из них серьезный анти хеттский блок и, что всего хуже, вступил в тайный сговор с Аттариссием и помог тому напасть на «страну Аласию» (ученые давно уже установили, что хеттская Аласия — это остров Кипр), где Аттариссий захватил много пленных (читай — будущих рабов). В этом месте так и просится упоминание, что по археологическим данным массовое проникновение микенской посуды на Кипр начинается именно в это время — около 1400 года до н. э. Мало того, массовое появление этой посуды на западном побережье Малой Азии тоже начинается в те годы, к которым, судя по хеттскому посланию, относятся вторжения «ахиявского царя» в малоазийские земли{16}. Созданная Маддуваттасом анти-хеттская коалиция сыграла роковую роль в истории «Старого» хеттского царства. Войдя в сговор с Египтом, эта коалиция едва не сокрушила хеттов; во всяком случае, накануне вступления на трон Тудхалияса Второго хетты находились на грани окончательного поражения. Однако новый правитель сумел отразить главные угрозы и возродить хеттскую империю под названием «Нового царства», а его преемники Тудхалияс Третий и Суппилулиумас неслыханно раздвинули пределы полученного наследия. На хеттских табличках сохранилась «Автобиография» Мурсилиса Второго, сына Суппилулиумаса, в которой он много рассказывает о своем отце, упоминая, в частности, что «когда отец мой в живых (был)… тогда он (что-то) с моей матерью… и ее в страну Ахиява… он на ту сторону отправил». Этот документ описывает времена, отстоящие на несколько десятилетий от походов Аттариссия, и отношения хеттов с Ахиявой за это время, видимо, изменились: они стали настолько дружественными, что Ахиява даже готова пойти навстречу хеттскому царю в довольно щекотливом вопросе распри с женой и принять у себя опальную царицу. Сам Мурсилис Второй продолжил победы своего отца, окончательно разгромив Арцаву, которая возглавляла антихеттскую коалицию на западном побережье Малой Азии, и главу ее, некого Ухацитиса, изгнал все в ту же Ахияву: «и он с моря… к царю Ахиявы… я снарядил с кораблем, и они увезли его прочь». Правда, в ходе этой войны был сожжен и главный форпост Ахиявы на побережье — город Милет, но ахиявские цари, судя по всему, не выразили никакого возмущения по этому поводу, и город вскоре был отстроен, кажется, руками самих же хеттов. А вскоре из Ахиявы ко двору заболевшего Мурсилиса отправляется некто «Антаравас» (возможно, Антреус) со статуями ахиявских богов, которые должны помочь выздоровлению царя. Одним словом, при Мурсилисе Втором глухая вражда между Хаттусой и Ахиявой сменяется подлинной политической идиллией. Однако ни во времена вражды, ни теперь, во времена дружбы, Вилуса в связи с Ахиявой, увы, не упоминается. Как мы помним, во времена правления следующего хеттского царя, Мувутталиса (1315–1296), некий принц из Вилусы, Алаксандус, опасаясь каких-то врагов, обратился за помощью к хеттам и согласился стать их вассалом (этими врагами скорее всего были его же «ропщущие» подданные, которым не понравилось, что усыновленный предыдущим вилусским царем Алаксандус взошел после его смерти На трон, минуя законных наследников). В договоре Алаксандуса с Муватталисом вассал обязывается противостоять какому-то врагу, и последующие события показывают, что обязательство это не было случайным — ожидать вторжения врага были все основания. Действительно, в сохранившемся отрывке письма, отправленного царем Страны реки Сеха (это царство, напомним, соседствовало с Вилусой с юга и востока) в Хаттусе, хеттскому царю (скорее всего, тому же Муватталису), говорится, что ожидаемый враг «пришел и войско страны Хатти привел… назад л страну Вилуса биться пошли». Весь этот эпизод хеттологи трактуют следующим образом: упрочив положение Алаксандуса на престоле Вилусы и сделав его своим вассалом, хетты, видимо, изменили прежнее положение вещей, при котором Вилуса была вассалом неведомого «врага»; этот противник не потерпел ослабления своих позиций и вторгся в страну, пытаясь восстановить прежнее положение; хетты тотчас отреагировали присылкой своих войск. Кто же этот неведомый противник, с которым хетты воюют из-за Вилусы? Хайнхольд-Крамер высказала предположение, что им могла быть Ахиява. На первый взгляд кажется, что это совершенно безосновательное предположение, но анализ последующих документов показывает, что оно вполне правдоподобно. Главным из этих документов является так называемое «Письмо о Тавакалавасе». Сопоставление его с другими хеттскими текстами, где упоминаются некоторые из лиц, указанных в «Письме», позволяет отнести события, излагаемые в письме, ко временам наследников Муватталиса — царя Мурсилиса Третьего (1296–1289), а скорее даже — его преемника и дяди, Хаттусилиса Третьего (1289–1265). Этот царь известен (из документов) своей политикой умиротворения противников, проводимой с большим дипломатическим искусством (впрочем, войну с Египтом при Кадеше он этим не предотвратил), а в «Письме о Тавакалавасе» обнаруживаются все приметы такой политики. История, стоящая за письмом, такова: некий Пиямарадус (судя по дальнейшему, мелкий властитель на западном побережье Малой Азии) восстал против хеттов на побережье, а когда хетты пришли навести порядок, этот «враг» бежал в Ахииву вместе с братом ахиявского царя Тавакалавасом, до того находившимся в Милаванде (как мы уже говорили выше, хеттская Милаванда — это главный ахейский, т. е. микенский, форпост в Малой Азии, город Милет, а имя Тавакалавас некоторые хеттологи отождествляют с греческим «Этеоклес», или «Этеокл», считая этого царевича Этеокла микенским наместником в Милете). И вот теперь хеттский царь пишет царю Ахиявы, именуя его «другом и братом», что он-де никаких враждебных замыслов против Ахиявы не имеет, Милаванду и трогать не намерен и просит лишь выдать ему мятежника Пиямарадуса, причем готов даже простить его, если царь Ахиявы будет на этом настаивать. Автор письма признает, что, возможно, обидел царя Ахиявы, и торопится заверить «друга и брата», что согласен на все его условия ради примирения с ним, а покамест посылает своего высокородного придворного в Ахияву в качестве «заложника мира». Подчеркнутая смиренность и миролюбивость текста выдает в авторе царя-миротворца Хатусилиса. Но самое интересное для нас таится в одной из второстепенных строк «Письма», где Хаттусилис вспоминает о прежних отношениях хеттов с Ахиявой. Он признает, что у царя Ахиявы могут быть обиды — ведь еще не так давно хетты воевали с ним из-за Вилусы, — но тут же оправдывается: во-первых, Ахиява ведь победила в той войне, а во-вторых, он, Хаттусилис, в ней вообще не виноват: «Я ведь юн был!» После чего восклицает с деланным недоумением: «Чего же еще?» Мол, какие еще могут быть претензии? Хаттусилис был «юн» во времена царствования своего брата Муватталиса, и это позволяет связать его слова о войне хеттов с Ахиявой из-за Вилусы с предыдущим сообщением царя Страны реки Сеха о вторжении неведомого врага в пределы Вилусы как раз во времена правления Муватталиса. В.таком случае предположение Хайнгольд-Крамер подтверждается: этим «неведомым врагом» действительно была Ахиява, цари которой не потерпели перехода Алаксандуса на сторону хеттов и сумели, по всей видимости, вернуть себе свои прежние позиции в Вилусе. Еще одно место из «Письма о Тавакалавасе» делает эту трактовку событий почти несомненной — здесь автор «Письма» вкладывает в уста своего адресата (царя Ахиявы) такое заявление: «Мы, царь страны Хатти и я, из-за этой страны Вилуса во вражде были мы… и он меня в отношении ее умиротворил и мы заключили договор». Иными словами, после кратковременной попытки Муватталиса повернуть Вилусу против Ахиявы и решительного военного ответа последней статус-кво был восстановлен и в отношениях, между хеттами и Ахиявой снова наступила идиллия. Но времена менялись. И в дипломатических текстах, относящихся к правлению следующего хеттского царя, воинственного Тудхиялиса Четвертого (1265–1235 гг. до н. э.), царь Ахиявы уже перестает быть «братом и другом». Причем перестает им быть весьма эффектно. В перечислении великих царей, содержащемся в одном из тогдашних документов, знак титулатуры «Его Величество», поставленный писцом перед словами «царь Ахиявы», стерт с таблички с таким усердием, словно была допущена грубая политическая ошибка. И в другом тексте, повествующем о победоносном походе хеттов на Аласию-Кипр, где в то время, — археологам это доподлинно известно — было много ахейских городов, никакого упоминания о «великой Ахияве» тоже нет, она в этом тексте не присутствует вообще. И то же самое — в третьем тексте, в «Письме в Милаванду», где этот давний и главный ахейский форпост в Малой Азии запросто, словно так и должно быть, словно так всегда и было, именуется хеттским владением — нет Ахиявы! Что, микенская держава распалась, исчезла под натиском каких-то врагов? Нет, она существует, это известно из других — греческих — источников, но хетты уже с ней не считаются, теперь она для них — побежденный и поверженный противник. Когда и как это произошло? Возможный ответ на это содержит документ, относящийся, по всей видимости, к началу царствования Тудхалияса Четвертого и представляющий собой очередное сообщение о военных столкновениях на западном побережье: «(Царь или народ) Страны реки Сеха снова дважды согрешил… вел войну. И царь страны Ахиявы отступил назад… отступил назад, а я, Великий Царь, пришел». Судя по этому тексту, сам царь Ахиявы вторгся в хеттские владения в районе реки Сеха, но потерпел сокрушительное поражение и был отброшен назад. Кажущееся незначительным и рядовым, событие это давно уже привлекло внимание хеттологов своим сходством с другим событием того же (если верить греческой традиции) времени, происходившем в том же (если верить традиции) месте. Речь идет об упоминаемом множеством древнегреческих авторов неудачном «первом» походе царя Микен Агамемнона и его спутников на Трою. У Гомера об этом событии глухо говорит Елена Прекрасная в своем плаче по Гектору, в самом конце «Илиады»: «Ныне двадцатый год круговратных времен протекает с оной поры, как пришла в Илион я, отечество бросив». Кажется странным, что Елена насчитывает уже 20 лет со времени своего побега с Парисом в Трою — ведь осада Трои, по Гомеру, продолжалась всего 10 лет! Но поэмы упоминавшегося нами в первых главах (и предшествовавшего Гомеру) «Эпического цикла», прежде всего — «Киприя», пересказ которой сохранился у автора V века до н. э. Прокла, рассказывают, что походов на Трою на самом деле было два, и во время первого ахейцы, «выйдя в море, причалили к Тевтрании и начали ее грабить, как будто Илион; Телеф же (местный царь) поспешил на помощь». Аналогично у другого автора V века — Аполлодора: «Не зная морского пути в Трою, пристали к Мисии (Тевтрании) и стали ее разорять, думая, что это Троя; Телеф же, царствовавший над мисийцами, погнал эллинов к кораблям и убил многих». После этого ахейцы целых 10 лет не могли оправиться от позорного поражения и лишь затем снова собрались с силами для второго похода, который и стал знаменитой Троянской войной; Елена, стало быть, была права, говоря о двадцати годах своего пребывания в Трое: десять лет перерыва между первым и вторым походами и десять — осады. Мисия, или Тевтрания, согласно греческой традиции, — это страна между реками Каик и Меандр, что к югу от Трои; об этом говорит историк II века Павсаний («У отправившихся в Трою с Агамемноном случилась ошибка во время плавания, результатом чего была битва в Мисии, и как напоминание об этом входящему в долину Каика служит камень в городе Элее…») — но у хеттов эти же места назывались Страной реки Сеха, и именно здесь, если верить документу тудхалиясовских времен, был с позором разгромлен «царь Ахиявы». И поскольку все прочие документы из анналов того же Тудхалияса Четвертого «великую Ахияву» больше не упоминают, надо полагать, что это незадачливое вторжение ахейцев произошло в самом начале правления Тудхалияса, т. е. близко к 1265 году до н. э. Если вся эта трактовка верна (а многие хеттологи на ней настаивают), то мы наконец-то можем с истинно гоголевским удовлетворением воскликнуть: «Отыскался след Троянского похода!» И ведь действительно вроде бы отыскался — пусть не второго, главного, а первого, неудачного, что из того? Куда важнее, что Гомер говорил правду: Троянская война — была! Гиндин и Цымбурский привлекают в этом месте внимание специалистов к еще одному замечательному документу, который представляет собой письмо царя хеттов к царю Ахиявы (именуемому без титула пренебрежительным «господин»). Пробиваясь сквозь путаницу фраз: «(ты)… написал… какие твои (страны) в запустении (были), их мне во владения отдал Бог Грозы. Царь страны Ассува… Акагамнус, дед отца, связал. А нынче Тудхалияс… его низвергнул», авторы делают смелое предположение, что речь идет о давней попытке прадеда нынешнего царя Ахиявы, некого «Акагамнуса», выступавшего под покровительством Бога Грозы, оттягать себе хеттские земли, пользуясь каким-то их «опустошением» — например, в результате землетрясения: известно ведь, что Троя-6 была разрушена мощным землетрясением примерно за 50 лет до того, как ее осадил и взял Агамемнон. Предположение смелое, потому что авторы, по сути, хотят одним махом решить загадку Троянской войны, объявив указанный документ ее «хеттским отголоском». В самом деле, если, вслед за авторами, видеть в «Акагамнусе» хеттское произношение имени «Агамемнон», в Боге Грозы — Громовержца Зевса, а в самом нашествии «ахиявцев» — взятие ахейцами Трои через 20 лет после их неудачной высадки на реке Каик, в начале царствования Тудхалияса Четвертого, то событие это следует отнести к середине или даже к концу этого царствования — скажем, к 1245–1240 годам до н. э., что, вообще говоря, совпадает с датой Троянской войны, предложенной К. Блегеном. Но эта гипотеза немедленно наталкивается на очевидные трудности. К каким временам относится рассматриваемое письмо, коль скоро его писал правнук «Акагамнуса»? Ведь даже приняв дистанцию между правнуком и прадедом всего в 60 лет, мы оказываемся в 1180 году до н. э., а в это время хеттская империя была уже сокрушена, и никаких царей, к которым могло быть. обращено такое послание, в Хаттусе уже не было, потому что и самой Хаттусы не было — сожжен он был и разрушен. И когда же, задумаемся, успел Тудхалияс Четвертый «низвергнуть» надменного этого «Акагамнуса»-Агамемнона после его победы над Троей, если всех лет царствования этому хеттскому царю осталось в лучшем случае четыре-пять? Нет, предположение Гиндина — Цымбурского загадку Троянской войны не решает, и потому нам придется сделать еще одно — впрочем, на сей раз действительно последнее, — усилие и попытаться найти в хеттских текстах иное, более убедительное свидетельство ее реальности. Или даже доказательство, если повезет. Повезет ли? >ГЛАВА 12 ИСТОРИЯ ТРЕХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ Подсчитаем наши бесспорные достижения. Мы убедились, что хеттские документы подтверждают реальное существование могучей микенской державы ахейцев, о которой говорит Гомер, — у хеттов это Ахиява. Мы увидели, что хеттские тексты засвидетельствовали реальное существование сильного и геополитически важного Троянского царства; у хеттов это царство Вилуса, расположенное на северо-западе малоазийского полуострова — именно там, где Шлиман нашел великую Трою. Мы обнаружили даже следы одного из царевичей Трои, названных велитсим Гомером, — усыновленного Париса-Александра, виновника Троянской войны; похоже, что у хеттов это Алаксандус, усыновленный царем Вилусы и поддержанный на троне властителем хеттской империи Муватталисом. Описанная в поэмах догомеровского «Эпического цикла» ошибочная высадка экспедиции Агамемнона у реки Каик и ее позорный разгром и бегство описаны также и хеттами — в виде незадачливого вторжения царя Ахиявы в Страну реки Сеха; даже географическое положение мест почти совпадает. Этих перекрестных совпадений так много, что постепенно они складываются в плотную сеть взаимосвязанных прочтений, каждое из которых подкрепляет предыдущее и подсказывает последующее, как во внезапно полностью раскрывающемся кроссворде. В целом можно сказать, что мы нашли еще одно подтверждение реальности микенской цивилизации — Шлимана — на сей раз в документах хеттов. Но наш поиск еще не закончен. Мы еще не нашли пока в этих документах никакого упоминания о том ахиявском триумфе в Вилусе, который греческая традиция описывает как осаду и взятие великой Трои ахейцами, как победное завершение Троянской войны. Чтобы приблизиться к этой цели, нам придется двинуться несколько обходным, на первый взгляд, путем — вернуться в Троаду-Вилусу и ее великую столицу. Великая Троя… Раскопки Шлимана лишь обнаружили ее истинное расположение; Дорпфельд углубился чуть дальше в ее прошлое, но только многолетние труды Карла Блегена позволили наконец выявить главные даты в биографии могучей крепости на равнине Скамандра и со всей несомненностью установить, что ее начало, первые следы поселения людей на Гиссарлыке, восходит к поистине баснословной древности — примерно 3600 лет до н. э.! До своего окончательного исчезновения, скажем, в XV веке нашей эры, Троя, следовательно, прожила свыше пяти тысячелетий, всего на пару тысяч лет меньше, чем Йерихо, этот древнейший город на Земле. В том культурном слое, который Шлиман, открыв его во время своего второго цикла раскопок, считал «древнейшим», поселение было заложено около 2500 года до н. э., то есть через целую тысячу лет после основания городища на холме. Знаменитая шлимаиовская Троя-2, которую он поначалу считал современницей Троянской войны — «Приамовой Троей», возникла в действительности за две тысячи лет до нашей эры, а это значит — как минимум за шесть столетий до предполагаемой даты этой войны. Судя по найденным там Шлиманом развалинам дворца и многочисленным золотым украшениям (пресловутая «диадема Елены»), Троя уже в то время была центром какого-то небольшого царства, властители которого, надо полагать, обогащались за счет выгодного стратегического положения своего города вблизи Дарданелл. Видимо, уже и тогда эти «таможенные поборы» троянцев вызывали чье-то сильное недовольство, ибо Троя-2 погибла в результате штурма: об этом свидетельствуют следы пожара и разрушений, а также тот факт, что «диадема Елены» вместе с прочим золотишком были брошены просто на землю, словно жителям, торопливо бежавшим из города, было уже и не до золота. Можно думать, однако, что это же «проклятие» Трои было одновременно и ее «благословением», ибо местоположение города у Дарданелл побуждало людей снова и снова возвращаться в эти края и основывать здесь поселение или даже крепость, — уже через сто лет после разрушения Трои-2 на ее развалинах (поверх них) возник очередной город — Троя-3, а еще через сто лет — на развалинах этого города — следующий, Троя-4. Проходит еще столетие, и его сменяет Троя-5 — по предположениям историков, именно тогда в здешние места пришли новые, индоевропейские племена, умевшие приручать и использовать лошадей (вспомним, что Гомер в «Илиаде» тоже говорит о «троянских конях», да и хетты тоже, как полагают, вывели свое название всего западного побережья Малой Азии, «Ассува», из слова, означавшего у них коня). Некоторые историки полагают, что племена, пришедшие тогда в Трою, составляли часть огромного воинства, основная масса которого осталась на противоположном берегу Дарданелл, на севере Балкан, и много позже стала называться фракийцами; они видят подтверждение этой гипотезы в совпадении множества названий околотроянских мест и народностей с фракийскими топонимами и этнонимами. Лишь позднее, говорят они, Троя обособилась, стала отдельным царством, и ее жители стали называть себя «троянцами» или «дарданцами». Что ж, возможно; возможно даже, что из тех же протофракийских племен, что троянцы, вышли (и двинулись на юг) и будущие греки; это могло бы объяснить их последующую, роковую, многовековую тягу к Троаде — неосознанное родство, почти по Фрейду. Впрочем, оставим. Несколько позже, на грани 1600–1500 годов до н. э., в культурных слоях Трои-5 обнаруживается микенская посуда, то есть следы прямых контактов между Троей и Микенами. Эти следы сохраняются до 1200 года до н. э., но за это время совершаются четыре важнейших события в истории Трои: возникает Троя-6 с ее крепостными стенами и бастионами, дворцом и аристократическими зданиями, напоминающими описания Гомера; происходит землетрясение, разрушающее этот город; окрестные жители возвращаются на развалины и строят там убогие, тесные и скученные лачуги — Трою-7а; и спустя 50 лет после своей предшественницы Троя-7а гибнет, как и та, только уже от рук людей — в огне и разрушениях, военного штурма. Последнее событие Блеген помещает между 1270–1250 годами до н. э. Снова проходит каких-нибудь полвека, и над развалинами Трои-7а возникает новый, тоже небольшой город — Троя-7б. Ее остатки тоже свидетельствуют о насильственном разрушении, но не таком полном, как раньше, — следы жизни переходят в следующий культурный слой непрерывно, как если бы часть жителей осталась на месте и продолжала поддерживать существование, города; более того, останки посуды свидетельствуют о смешении этих коренных троянцев с какими-то пришельцами из-за Дарданелл, возможно — опять из той же Фракии. Такая же посуда обнаруживается несколько выше по течению Скамандра, в Бурунбаши, — видимо, часть троянцев переселилась туда, так что недаром в новое время кое-кто считал, что Троя находилась именно в Бурунбаши, а не на Гиссарлыке. Однако примерно к 1000 году до н. э. последние следы жизни и там, и там исчезают древняя Троя окончательно уходит в прошлое. Но место «свято», и оно не опустевает: еще 200–300 лет спустя в Троаду (или, как она еще называлась, Илион, а у хеттов — Вилуса) приходят поселенцы с соседнего греческого острова Лесбос и основывают здесь «Эллинскую Трою» — «маленький торговый городок», как сообщают первые древнегреческие историки. Возможно, именно здесь побывал когда-то Гомер; возможно, в этих местах еще сохранялись тогда следы Древней Трои и, кто знает, даже легенды о героическом прошлом этого города. Как бы то ни было, с этого момента Троя вступает в период письменно зафиксированной истории: «Новый Илион» сменяется городом Александрова полководца Лизимаха, «Александрией Троянской», потом римской колонией Новый Илион, это уже Троя-9, по датировке Блегена; ее сменяет центр христианского епископата — «Византийская Троя», но к 1000 году нашей эры это поселение тоже угасает, и спустя еще 500 лет тут возникает последнее на Гиссарлыке поселение — деревня Гиплак, позднее покинутая жителями; останки ее поросли диким кустарником, не гнущимся даже под здешними ветрами. Очертим границы нашего поиска: весь наш предшествующий рассказ сосредоточен практически в пределах одного-полутора столетий — от гибели многовековой Трои-6 до гибели скоротечной Трои-7б. Как мы помним, поначалу Дорпфельд решил, что «Приамовой» («гомеровской») является именно могучая Троя-6. Но затем Блеген объявил, что этот богатый и укрепленный царский город был на самом деле разрушен мощным землетрясением, зато следы пожара, убийств и разрушений, которые могла причинить только война, присущи жалкой, «лачужной» Трое-7а, находившейся в полуразрушенных стенах предыдущей крепости. На первый взгляд, такая последовательность событий соответствует греческой мифо-эпической традиции. Эта традиция утверждает, что задолго до Агамемнона великий Геракл уже предпринял поход против троянского царя Лаомедонта, которому помогал бог моря Посейдон. Естественно Геракл победил: он захватил и разрушил Трою и посадил в ней нового царя — Приама, но предварительно ему пришлось схватиться врукопашную с неким «Посейдоновым чудищем», которое бог послал на защиту любимого города. Остается вспомнить, что греки считали Посейдона «сотрясателем земли», т. е. приписывали ему причину землетрясений, и тогда в эпизоде сражения Геракла с «Посейдоновым чудищем» легко усмотреть подернутое мифопоэтическим туманом воспоминание о реальном землетрясении, некогда разрушившем город Лаомедонта. Поскольку, по Блегену, землетрясение разрушило именно Трою-6, то именно ее он и объявил «Лаомедонтовой». По его расчетам, это «первое взятие Трои» (Гераклом) произошло примерно в 1300 году до н. э. (Заметим, что такая дата хорошо согласуется с описанной в «Письме о Тавакалавасе» распрей хеттов с Ахиявой за Вилусу, при царе Муватталисе.) Здесь уместно объяснить, на чем основывались эти расчеты. Подобно всем другим археологам до и после него, Блеген руководствовался в определении дат типом посуды, или, точнее, типом обработки керамической посуды, обнаруживаемой в том или ином культурном слое. В истории микенской керамики (которая сама датируется по египетским памятникам и, в свою очередь, позволяет датировать те раскопки, где она обнаруживается) существует очень важная и отчетливо прослеживаемая граница — примерно 1240–1190 годы до н. э., скорее, ближе к последней дате: до этого перелома керамика принадлежит к типу 3В (или еще более ранней 3А), после него — к типу 3С (более примитивному и грубому, который еще иногда называют «варварским»). Считается, что упрощение способов обработки керамики связано с общим падением ремесел в микенской Греции, а оно — с распадом и крахом микенской цивилизации в целом, павшей под натиском неведомых пришельцев с севера. Об этих загадочных пришельцах, разрушивших не только Микенский союз древнегреческих царств, но заодно и Хеттскую империю, и вообще радикально переменивших лицо древнего Средиземноморья, мы уже однажды упоминали, обещая поговорить о них в конце нашего рассказа; и нам действительно придется сейчас о них говорить. Но пока вернемся к Блегену и его расчетам. Раскапывая Трою-7а, Блеген не нашел в ее слоях признаков керамики типа ЗС и потому заключил, что этот город погиб раньше роковой даты варварского вторжения, т. е. раньше 1240 года до н. э.; поэтому он отнес дату взятия Трои-7а на 1270–1260 годы. Мы следовали этой схеме, когда в одной из предыдущих глав закончили рассказ о раскопках Трои выводом, что «Приамовой Троей» оказалась блегеновская Троя-7а. Теперь я вынужден с огорчением сказать, что нам придется изменить этот вывод. Дело в том что через несколько десятилетий после Блегена, в серии работ 1970–1980 годов самый авторитетный в мире специалист по микенской керамике Фурумарк сообщил, что повторное изучение некоторых керамических обломков, найденных Блегеном в Трое-7а, заставляет отнести их к типу 3С. Но керамика этого типа могла появиться в городе только после 1240–1230 годов до н. э. как минимум. Значит, Троя-7а существовала после этой переломной даты. Однако в ту пору Микенский «союз греческих героев» уже никак не мог осадить, захватить и разрушить Трою-7а, ибо сам был к тому времени подорван, а то и вовсе разрушен пришельцами с севера. Стало быть, блегеновская Троя-7а никак не могла быть той «Приамовой» Троей, которую осаждал и захватил Агамемнон. Прямым следствием этих сенсационных выводов Фурумарка было то, что археологи и историки. в подавляющем своем большинстве отвергли схему Блегена, и последние годы основная часть специалист тов снова вернулась к мнению Дорпфельда, признав «Приамовой» (гомеровской) могучую Трою-6. Английский историк Майкл Вуд сформулировал это новое представление следующим категорическим образом: «Если Троянская война была столь величественной, как описано у Гомера, она могла быть только войной против Трои-6». В поддержку этого утверждения сегодня приводится ряд новых фактов. Как показали археологические открытия последних лет, Трою-6 действительно постигло мощное землетрясение, и в этом Блеген был прав, но окончательное разрушение ее дворцов и аристократических зданий (на месте которых возникли позднее лачуги и времянки Трои-7а) было все же делом рук человеческих, а точнее — греческих, микенских: археологи нашли в слоях Трои-6 многочисленные останки микенского оружия, следы пожара, возникшего при захвате и разграблении города, и некоторые признаки нарочитого разрушения крепостных стен. Этот бесславный конец могучей Трои-6, просуществовавшей несколько столетий, сегодня датируется 1270–1260 годами до н. э. Новая датировка обоснована надежнее блегеновской, потому что базируется на более точном и детальном анализе типа керамики, но фактически она совпадает с датировкой Блегена. «А что же Троя-7а?» — немедленно спросите вы. Если поход Агамемнона («Троянская война») имел целью захват и разрушение Трои-6, то кто же и когда разрушил следующую по счету Трою, возникшую на развалинах предыдущей? И что означали найденные Блегеном в этом следующем городе признаки подготовки его жителей к осаде — скученность жилищ, врытые в землю кувшины с запасами продовольствия и т. п.? Упомянутое «большинство специалистов» располагает ответами и на эти-заковыристые вопросы. Они утверждают, что Троя-7а просуществовала вплоть до начала XII века до н. э., примерно до 1190–1180 годов. Но надо иметь в виду, что вся вторая половина XIII и начало XII веков до н. э. были эпохой нашествия северных варваров, которые накатывались на Средиземноморье несколькими последовательными волнами. То были времена всеобщего разрушения, хаоса и неустойчивости, и поэтому можно думать, что особенности жизни в Трое-7а попросту отражали общую неуверенность тогдашних людей в завтрашнем дне, их постоянную настороженность в предчувствии возможного набега бродивших повсюду варварских отрядов. «Не исключено, — говорит тот же М. Вуд, — что именно один из таких отрядов и разрушил Трою-7а, ведь она была слишком бедна и слаба, чтобы долго защищаться даже против небольшой группы захватчиков; не исключено также, что в числе этих захватчиков были и примкнувшие к варварам микенские ахейцы; но в любом случае то не были уже дружины Агамемнона и других греческих героев — времена героев давно прошли; скорее то была жалкая кучка искателей приключений и легкой наживы». Так выглядит новая схема «троянских событий», сложившаяся в самые последние десятилетия и принятая, как уже сказано, большинством современных исследователей. А как выглядит в свете этой схемы наш поиск отголосков Троянской войны в хеттских документах? Всмотримся снова в даты, и мы поймем, что искать в этих документах следы грабительского набега варваров на Трою-7а попросту безнадежно: в то время, к которому Вуд и другие относят это событие, в 1190–1180 годах до н. э., Хаттуса уже лежала в развалинах, ибо хеттская империя и сама уже рухнула под натиском тех же варваров. Но поход Агамемнона (если он вообще реален) происходил по этой схеме в 1270–1260 годах до н. э., а в это время хеттская империя еще существовала. По нашей «хронологии хеттских царей», это годы правления воинственного Тудхалияса Четвертого, того самого, при котором произошло вторжение «царя Ахиявы» в Страну реки Сеха (точности ради заметим, что сторонники новой схемы пользуются несколько иной хронологией и потому считают, что в это время в Хаттусе еще правил Хаттусилис Третий). Об этом вторжении упоминается в одном из хеттских документов, связанных с Ахиявой, — в письме правителя Страны реки Сеха к хеттскому царю. Так вот, говорят современные историки, это упоминание и есть искомый «хеттский отголосок» Троянского похода микенского царя Агамемнона, если угодно — прямое подтверждение реальности этого похода. Если принять это толкование, то наши поиски становятся излишними: мы, оказывается, давно нашли то, что искали; мы только не опознали найденное. Разумеется, такое разочаровывающе будничное завершение долгих поисков напоминает скорее сырое шипенье намокшего заряда, чем тот эффектный громовой взрыв, который от него ожидался, но что делать, если авторитетные специалисты думают именно так? Только развести руками. Хорошо еще, что мы выбрали в качестве представителя мнения большинства цитату из Майкла Вуда, который все-таки верит в реальность Троянской войны; много более авторитетный Шахермайр, к примеру, в это не верил и в свете новых данных считал, что Троянской войны не было вообще: «Илиада» — это переработка мифа о походе Геракла, а Троянский конь — это преобразованное воображением Гомера «Посейдоново чудище». Есть, однако, еще и мнение меньшинства, которое не согласно ни с Вудом, ни, тем более, с Шахермайром. Это меньшинство предлагает совершенно иное решение загадки Троянской войны, и этому меньшинству мы и предоставим сейчас, как давно обещали, последнее слово в нашем историческом расследовании. >ГЛАВА 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. НАРОДЫ МОРЯ Мы обещали в заключение предоставить слово тому меньшинству среди современных историков и лингвистов, занимающихся загадкой Троянской войны, которое энергично отстаивает свой особый взгляд на эту проблему. Судить об их правоте или неправоте мы, конечно, не сможем, но несомненную увлекательность возникающей из их рассуждений картины наверняка сумеем оценить. Начать хотя бы с того, что первые, кто во весь рост появляется на этой картине, — это те самые загадочные «северные варвары», о которых мы уже несколько раз говорили. Теперь мы, наконец, узнаем, кто они такие. Это — «народы моря», разгадке происхождения которых посвящены сотни исследований и десятки толстых научных книг. Их название восходит к двум египетским документам времен фараонов Мернепты и Рамзеса Третьего, один из которых правил в, 30-е годы XIII века до н. э., а второй — лет на сорок позже. Как сообщает рассказ Мернепты (точнее, его писца), на 5-й год правления этого фараона «пришли с моря народы» — лувийцы, шардана, ахейцы, турша, сикелы и многие другие — и пытались ворваться в Египет. Мернепта дал им бой и разгромил. На поле битвы осталось около двух с половиной тысяч пришельцев. Египтяне разделили убитых на два класса: обрезанных, как и они, — у этих они для счета отрубали одну руку, и необрезанных, у которых для счета отрубался пенис. Все эти руки и половые члены были свалены в кучу у ног фараона-победителя, как немецкие флаги некогда на Красной площади, и отсюда мы знаем, что необрезанных лувийцев и прочих было тысячи полторы, а все остальные были ахейцы (которые в ту пору, представьте, практиковали обряд обрезания). Благодаря историкам мы знаем также, что означают некоторые из упомянутых выше этнонимов: «шардана» — это балканский народ, который впоследствии заселил остров Сардиния, «турша» — это тирсены, поначалу северо-балканское племя, позднее переселившееся на юг Троады (о нем упоминает Гомер), после распада первой коалиции «народов моря» они мигрировали в Италию, где, по-видимому, дали начало этрускам; «сикелы» — будущие сицилийцы; ахейцы же нам знакомы — это микенские греки. Вся эта огромная масса племен, по мнению историков, двигалась с севера, из нынешней Фракии, сметая на своем пути прежние государства, в том числе Микены и Хатти, вынуждая к бегству одни народы (в это время началось великое переселение греков на периферию своего мира), обращая в рабство другие и увлекая за собой третьи. В документах из древнего ближневосточного города-государства Угарит сохранились письма от царя хеттов, который панически просит прислать ему на помощь угаритский флот, чтобы отбить нашествие варваров; известно (из египетских источников), что Мернепта послал царю Хатти пшеницу, чтобы прокормить население, оставшееся среди растоптанных полей; дипломатическая, переписка великих держав того времени запечатлела ощущение страха и судорожные попытки организовать совместный, отпор чудовищному потоку диких воинов на конях, повозках и идущих пешком. Попытки эти не увенчались успехом. Новое вторжение удалось лишь оттянуть — лет на тридцать, — но не предотвратить. На 5-й год правления Рамзеса Третьего, сообщает его стела, «народы моря» пришли вновь. На сей раз они окончательно сокрушили Хатти (впрочем, считается, что этому немало помогли внутренние распри), Арцаву, Аласию (Кипр), Угарит, полностью разорили микенскую Грецию и Крит, угрожали самому существованию Египта. Свою победу над ними Рамзес Третий считал главным достижением своей жизни. Он утверждал, что их вторжение было опасней гиксосского. В этот раз основу пришельцев составляли тевкры (из протофракийских племен, родственных троянцам) и пелашти; отброшенные Рамзесом от границ Египта, эти пелашти осели на восточном берегу Средиземного моря, дав название своей стране — Палестина, а сами стали теми «филистимлянами», что так хорошо известны Библии (там они называются «плиштим»); их культура (керамика, захоронения, обычаи) была во многом микенской, заимствованной по дороге; их предыстория связывает наш рассказ с предысторией евреев в Земле обетованной, но мы не будем сейчас отвлекаться в эту интереснейшую сторону (желающие могут обратиться, например, к книге копавших древнюю Филистию израильских археологов Моше Дотана и его жены Труды «Народы моря в поисках филистимлян», Нью-Йорк, 1993). Сейчас нам важнее узнать, что, оказывается, греческая традиция хранит некие смутные воспоминания о том, что когда-то в незапамятные времена ахейцы действительно вторгались в Египет и что это вторжение напрямую связано с Троянской войной! В поэмах догомеровского «Эпического цикла» рассказывается, что греки, взяв Трою, рассорились: Менелай обиделся на Агамемнона, отделился от главного отряда, вернувшегося на родину, и двинулся со своей дружиной в Египет, где был, однако, разбит. Гомер в «Одиссее» (песни 3 и 4), переиначивая тот же мотив, говорит, что на обратном пути из Трои буря занесла корабли Менелая в Египет, где он скитался целых 10 лет. В той же поэме, в песнях 13 и.14, Одиссей (уже на Итаке) рассказывает, будто во время своих скитаний пытался вторгнуться со своей дружиной в Египет, но был отогнан. И много позже Геродот собирает, повторяет и дополняет своими вымыслами все эти истории. По расчетам археологов, вторжение «северных варваров» в Грецию произошло примерно в 1240–1230 годах до н. э. — именно к этому времени относится появление керамики «варварского» стиля. Согласно египетской хронологии (она допускает несколько толкований, но здесь берется самая ранняя дата), первое вторжение «народов моря» произошло примерно в 1230 году. Главной ударной силой этого вторжения были ахейцы, видимо, примкнувшие к северным варварам, и жители южной Троады — турша, или тирсены. Что свело их вместе? Не могло ли быть так, осторожно спрашивают Гиндин и Цымбурский («Гомер и история восточного Средиземноморья»), что они объединились в Троаде, куда ахейцы вместе с другими северными варварами пришли для захвата Трои? Именно там, взяв город, разграбив и разрушив его, обретя дополнительных сильных союзников и гонимые мечтой о новых грабежах и новой добыче, ахейцы могли повернуть дальше на юг и, пройдя страну Хатти, ворваться в Египет фараона Мернепты. Если дело действительно обстояло так, то нельзя ли предположить, продолжают наши авторы, что это и был тот поход ахейцев, который много позже разросся в воображении потомков до размеров Троянской войны и последующей вооруженной высадки Менелая и Одиссея на египетских берегах? В таком случае придется признать, что Троянская война происходила не на взлете Микенского царства, а на его излете, когда оно уже рушилось под натиском северных варваров. Не случайно царствовавший именно в те времена Тудхалияс Четвертый велел вычеркнуть Ахияву из списка великих держав. И не случайно и Гомер, и народная традиция греков утверждают, что конец Троянского похода совпал с гибелью его царственных героев, распадом их царств и концом «героического века». Суммируя эти факты и предположения, сторонники новой гипотезы рисуют следующую, уже третью по счету, возможную картину событий (она третья, если первой считать блегеновскую трактовку Троянской войны как «похода на Трою-7а», а второй — новейшую трактовку этой же войны как «похода на Трою-6а»). В этой третьей трактовке никакой «великой» Троянской войны не было; а было вот что — где-то около 1240 года до н. э. Греция пережила первое нашествие северных варваров, резко ослабивших ее царства, но после их возвращения на Балканы предприняла попытку восстановить свои прежние позиции. Именно тогда царь Микен (Ахиявы) послал хеттскому царю Тудхалиясу Четвертому письмо с напоминанием договора о Вилусе; царь Хатти, однако, игнорировал это напоминание, и микенцы решили силой отвоевать Вилусу-Трою, но, увы, по ошибке высадились в Стране реки Сеха (Каик) и потерпели поражение. С этого момента начинаются их беспрестанные попытки расквитаться за позор, поэтому неудачную высадку у Сехи можно считать началом Троянской войны. В таких мелких попытках проходит почти 20 лет, но потом ахейцы все же добиваются своего благодаря помощи вновь пришедших в Грецию северных варваров, «народов моря». Объединившись с ними, они наконец захватывают Трою (по датам это Троя-7а, так как дело происходит примерно в 1230–1220 годах до н. э.), после чего движутся на Египет, где терпят поражение, откатываются и рассеиваются по берегам Средиземного моря. Этот уход из Греции множества ее самых отчаянных, предприимчивых молодых воинов (не забудем — только в бою с Мернептой их погибло свыше тысячи двухсот — огромное по тем временам число) окончательно ослабляет страну, и в образовавшийся вакуум вскоре вторгается новое северное племя, на сей раз родственное грекам, — дорийцы. Наступают «темные века» греческой истории. В отличие от двух первых гипотез, базирующихся в основном на археологических фактах, эта третья опирается преимущественно на факты лингвистические. Но нельзя не видеть, что и в этой схеме есть множество хронологических и прочих натяжек. В целом выводы из всего сказанного представляются, скорее, неутешительными. То, что во времена Шлимана казалось таким ясным и определенным, сегодня снова подернулось туманом зыбкой неопределенности. Хотя новейшая «археологическая гипотеза» объявляет «Троянской войной» поход ахейцев против Трои-6, она не исключает возможность их второго, крайне незначительного, похода против Трои-7а совместно с варварми. Со своей стороны, новейшая «лингвистическая гипотеза» считает подлинной «Троянской войной» именно этот поход (с ее точки зрения, единственный). А в схеме стоящего особняком Шахермайра никакого Троянского похода, как мы видели, не было вообще. Так что нам, скорее всего, так и не удастся до конца решить загадку этой воспетой Гомером войны — была она в действительности или нет? И если была, то когда? Пройдя по текстам Гомера, через данные археологических раскопок, тексты линейного письма Б хеттские клинописные документы, мы нигде не отыскали совершенно однозначных свидетельств «за» или «против» ее реальности. Каков же итог? Скорее всего, правы Гиндин и Цымбурский, когда заключают: «Видимо, слияние некого многовекового лейтмотива (прежних походов — Геракла или хеттской «Ахиявы» — на Трою. — Р.Н.) с порывом «бегства за моря», охватившим массы ахейцев после первого нашествия северных варваров и придавшим новому походу на Илион общеахейский размах, и породило тот грандиозный облик, какой обрела в памяти греков Троянская война». Та «Троянская война», что была, добавим, последней. Больше уже, если верить названию пьесы Жана Жироду, «Троянской войны не будет»… >Комментарии id="c_1">1 Самыми последними из этих книг по времени уже в наши дни стали многочисленные произведения, посвященные т. н. «теории разумного дизайна» («Intelligent Design», или ID). Этими словами ее создатели сокращенно называют утверждение, будто сложность живых существ и обнаруженное астрономией точное соответствие космических параметров всем требованиям возникновения разумной жизни якобы свидетельствуют о том, что космос был «сконструирован» (причем именно для появления жизни и человека) неким высшим Разумом, или Разумным Конструктором. С благословения сочувствующих этому тезису американских политиков-республиканцев, в том числе и самого президента Буша, эта теория, по сути возрождающая креационизм в новом обличье, сейчас внедряется в американские школы в качестве «научной» альтернативы теории эволюции. id="c_2">2 В еврейской системе летосчисления, изложенной в летописи «Седер Олам Рабба» и ведущей счет годам от Сотворения Мира, «баhарад» — сокращенное название для новолуния первого месяца от начала мироздания; это первое новолуние называется также «новолунием хаоса» (молад ТОРУ). id="c_3">3 Цепочка рава Элиягу Залмана замечательна и другими своими особенностями. Например, между «мэм» в слове «мишнэ» и «тав» в слове «тора» пропущено ровно 613 букв, что равно числу мицвот (заповедей) в Торе; первые буквы последних четырех слов стиха 11:9 — это «рэйш», «мэм», «бет» и «мэм», что складывается в «Рамбам»; один из стихов той же главы содержит дату «четырнадцатое нисана», что является днем рождения Рамбама; и, наконец, 49 — это священное для евреев число — количество дней Омер между праздниками Песах и Шавуот. Между прочим, рав Вейсмандель тоже обратил внимание на тот факт, что его буквенные цепочки «т-о-р-а» имеют пропуск в 49 букв. Правда, в последней цепочке пропуск на одну букву меньше, но рав Вейсмандель объяснил это тем, что последняя книга, «Дварим», рассказывает о смерти Моисея, а Моисей однажды согрешил перед Всевышним самовольным чудотворством, и за это перед ним была закрыта одна из дверей мудрости Торы. id="c_4">4 Первая (еврейская) буква этого слова — «хэй», что может означать «ha» — это определенный артикль. Вообще-то слово «ханука» (название еврейского религиозного праздника) пишется без такого артикля, но мы пока отложим разговор о том, почему оно в данном случае написано именно так. id="c_5">5 «Хашмонай» — представитель знаменитого в еврейской истории рода Хасмонеев, которые во II в. до н. э. возглавляли борьбу евреев за религиозную независимость; праздник Ханука был учрежден как раз в честь победы в этой войне. Отметим важный факт — то, что буквы второго слова («Хашмонай») не образовали вертикальный столбик, а идут по диагонали, связано с тем, что пропуск между ними другой: им нужна чуть более длинная окружность оборота нити, чтобы улечься друг под другом. Но если бы мы выбрали цилиндр с чуть большей окружностью, то не легли бы друг под другом буквы слова «hа-ханука». Два слова стали бы столбиками только при одной и той же длине оборота, т. е. если бы интервалы между буквами обоих слов были одинаковыми. id="c_6">6 Под наименованиями понимаются сокращенные прозвища, аббревиатуры или акронимы, с которыми те или иные еврейские мудрецы вошли в историю, — например, Рамбам или Маймонид (рав Моше бен Маймон), «Бейт-Исраэль» или просто «Бейт-Йуд» (так назвали рава Йосефа Каро по заглавию его важнейшей книги) и т. п. У некоторых мудрецов есть по 3–4 таких наименования. id="c_7">7 Например, одна и та же дата может быть словами записана как «шени бэ нисан», «бэ шени бэ нисан» и т. п. id="c_8">8 Сухие определения — такой-то век до н. э. — вряд ли способны создать правильное ощущение времени. Та «классическая эпоха» греческой истории, которую мы знаем из школьных учебников истории, — война греков с персами, Афины, Перикл, Парфенон, война Афин со Спартой — очень близка к нам, это V век до н. э. Гомер жил за 300–400 лет до возвышения Афин, а описанная им «героическая эпоха» имела место в совсем уж глубоком прошлом — за 800 лет до Перикла! Это лет на сто раньше еврейского Исхода из Египта и на 2000 лет раньше Киевской Руси. id="c_9">9 Сокровищам, которые Шлиман нашел в Микенах, повезло больше: они сохранились полностью, и сегодня каждый желающий может увидеть поразительной, красоты золотую маску Агамемнона в афинском музее. Стоит, однако, предупредить, что маска эта по мнению современных ученых, на несколько столетий старше гомеровского Агамемнона, даже если последний действительно существовал. Современный американский специалист проф. Калдер примерно 30 лет назад поставил вопрос, не является ли и эта находка Шлимана его фальсификацией: это вызвало продолжающуюся по сей день оживленную дискуссию; отчет о которой можно найти в журнале Archeology (т. 52. 4, 1999). id="c_10">10 Впоследствии ему и это лыко поставили в строку; в мае 1995-го тот же журнал «Археология» сообщил, что потомки Кальверта решили потребовать возвращения принадлежащих им по праву наследования двух золотых мечей, найденных Шлиманом на восточной оконечности холма Гиссарлык, принадлежавшей Франку Кальверту (он купил ее у оттоманских властей). В момент публикации сообщения мечи эти находились в Пушкинском музее. Чем кончилось дело, мне неизвестно. id="c_11">11 Много позже, в ходе раскопок 1930 года, золотые предметы были найдены и во многих других местах второго слоя, словно жители того давнего города бежали из него в панике, теряя на бегу драгоценности и пожитки: это, кстати, доказывает, что Шлимана, видимо, зря обвиняли в фальсификации сокровищ. id="c_12">12 Самое интересное во всей этой истории то, что спустя семьдесят с лишним лет греческие археологи обнаружили второй такой же круг гробниц, но уже вне стен крепости, снаружи от Львиных ворот — там, где некогда простирался древний город (внутри крепостных стен находились в древности лишь дворцовые постройки). Скорее всего, именно этот круг и был тем, который когда-то видел Павсаний. Так что в итоге оказалось, что Шлиман неправильно понял Павсания, но как раз эта ошибка и принесла ему сказочную удачу. id="c_13">13 Принятая сегодня хронология различает три главные эпохи греческой предыстории: ранний бронзовый век, 2800–1900 гг. до н. э.; средний бронзовый век, 1900–1600 гг. до н. э.; и поздний бронзовый век, 1600–1100 гг. до н. э.; далее начинается век железный. Эти абсолютные даты базируются на синхронности определенных критских и греческих находок с аналогичными находками в Древнем Египте и наоборот; египетская же хронология благодаря сохранившимся надписям известна с достаточной точностью. id="c_14">14 Уже в наши дни некоторые ученые выдвинули предположение, что причиной этой катастрофы могло быть знаменитое извержение вулкана на близлежащем острове Санторин, он же Тера (эта же катастрофа, по их мнению, положила начало мифу об утонувшей Атлантиде). Имеются, однако, убедительные основания считать, что это извержение произошло почти на столетие раньше. id="c_15">15 Любопытно, что следов микенской посуды почему-то почти нет на северо-западе, если не считать раскопанной Трои: здесь, видимо, не было других крупных городов, или же местные жители, будучи более воинственны, успешно отражали попытки ахейского проникновения. id="c_16">16 Некоторые хеттологи видят в «Аттариссии» прародителя микенских царей Дтрея, но, как указывают другие, такое отождествление противоречит законам хеттской и греческой фонетики. Л. Гиндин и В. Цымбурский отмечают, однако, что эти противоречия можно обойти, если принять, вслед за О. Семереньи, что хеттское «Аттарисий» не столько тождественно греческому «Атреус» по фонетическому звучанию, сколько передает тот же смысл («бесстрашный»), только на хеттский лад, поскольку восходит к анатолийскому корню «a-trs-io», имеющему значение «не знающий страха». ЧАСТЬ 5 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ >ГЛАВА 1 ВЕЛИКИЙ ИЕРИХОН Опустевшая синагога в Иерихоне находится теперь на территории палестинского автономного анклава. Доступ евреям в город временно, запрещен. В один день древний Иерихон, некогда взятый еврейскими войсками, перед которыми, по преданию, пали его стены, превратился в палестинский административный центр. Что называется — росчерком пера. Предание о стенах, павших от рева еврейских военных труб, увековечило имя Иерихона в человеческой памяти. Но для историков это название звучит еще весомее. Иерихон — одна из важнейших вех на пути человечества из древнего каменного века в век бронзовый. Это один из древнейших, а может быть — и самый древний город на Земле. В сокровищнице исторических ценностей, которыми столь богата Земля Израиля, Иерихон — одна из ценнейших. Самому древнему из сохранившихся народов западной цивилизации вполне приличествовал самый древний ее город. Это не говоря уже о собственно еврейских памятниках Иерихона. Хотя бы о тех же Иродовых дворцах. По странной случайности совпало так, что одновременно с этой утратой вышел в свет специальный номер журнала «Сайентифик америкэн», под обложкой которого были собраны все ранее опубликованные в журнале статьи, посвященные древним городам мира. И конечно, открывала этот сборник статья, рассказывающая о раскопках в Иерихоне. Принадлежала она перу Кэтлин Кеньон, дочери бывшего директора Британского музея и знаменитой исследовательнице, которая в середине нашего века впервые открыла миру долгую и славную историю древнего Иерихона. Листая эту по существу мемориальную статью, вглядываясь в фотографии раскопок и найденных предметов, вчитываясь в рассказ автора, невольно ощущаешь, как ты все глубже и глубже опускаешься по ступеням веков в прошлое. Вот уже скрылись из виду гигантские метрополии современности, пустыннее стала Земля, все меньше на ней людей и людских поселений, в сотнях и тысячах километров находятся они друг от друга, разделенные безлюдными и дикими пространствами; вот уже одни только охотничьи племена с их каменными орудиями остались на поверхности планеты, и именно тут, в этой дали туманного прошлого, взгляд натыкается на нечто неожиданное и явно искусственное: мощные каменные стены, взметнувшиеся к небу из пустыни. Иерихон… Человечество не сразу перешло к оседлому образу жизни. Этот переход произошел лишь с окончанием последнего ледникового периода, «каких-нибудь» десять тысяч лет назад, в конце каменного века. Именно тогда в Западной Азии возникли первые оседлые поселения — то, что впоследствии стало называться городами. Значение их в истории цивилизации огромно — недаром англичане подчеркивают, что слово «city» одного корня со словом «цивилизация». Город — это нервный узел любой цивилизации, средоточие ее административных, религиозных, культурных и всех прочих функций, символ ее непрерывности и преемственности. Сегодня две трети человечества живет в городах. Но так было не всегда. Первые деревни сосредоточивали в себе каких-нибудь несколько сот, а то и всего несколько десятков жителей. Первым городом на Земле стало место, население которого впервые в истории перевалило за тысячу. Это и был Иерихон. На приведенной в журнале исторической шкале, протянувшейся от 8000 года до новой эры к 1000 году после ее начала, длинной цепочкой вытянулись самые древние города Земли. Открывает этот список Иерихон. За ним с разрывом в полтысячи лет следует Тель-Абу-Хурейра, что в Сирии. Проходят еще полторы тысячи лет, и появляются Чатал Хююк в Анатолии (современная Турция) и Мергар в нынешнем Пакистане. Только за пять с половиной тысяч лет до нашей эры возникли первые города Месопотамии — знаменитые Ур, Урук и другие, а за ними, с разрывом еще в три с половиной тысячи лет — Иерусалим и Кноссос (в русском написании Кнос) на Крите. Большинство этих городов ныне занесены песками, а Кноссос — вулканическим пеплом. И только в Иерихоне и Иерусалиме все эти нескончаемые тысячи лет-непрерывно продолжают жить люди — до наших дней. Что уж тут говорить о Помпеях или Петре, а тем более о первом русском городе Новгороде, возникшем практически уже в «наши» исторические времена, где-то на рубеже первого тысячелетия новой эры! Младенцы… Как ни странно, еще несколько десятков лет назад такой список немыслимо было себе представить. Историки знали, конечно, что Иерихон существовал еще во времена завоевания евреями Ханаана, но никогда не думали, что его стены уходят в такую седую древность. Да и стен этих давно уже не было. Первых археологов привела в Иерихон вовсе не эта древность (о которой никто не догадывался), а жгучее желание проверить библейскую легенду. Поиски рухнувших от «иерихонского рева» стен начал британский археолог Джон Гарстанг, который прибыл сюда в 1930 году. Именно он первым обратил внимание на древний холм неподалеку от города и пришел к выводу, что именно под этим холмом должны скрываться остатки библейского Иерихона. Холм (или курган) в семитских языках — «тель» — созвучен английскому «teil», что означает также «рассказывать». И раскопанный Гарстангом тель Иерихо действительно рассказал о прошлом города. Нет, археолог не нашел подтверждения библейской легенды. Зато он нашел кое-что куда более важное для исторической науки. Глубоко в раскопе его сотрудники обнаружили бесспорные свидетельства того, что люди жили в этих местах уже в конце каменного века. Иерихон стал сенсацией в мировой археологии. Не удивительно, что вслед за Гарстангом сюда пожаловала следующая археологическая экспедиция, которую возглавляла Кэтлин Кеньон. К тому времени она уже прославилась своим участием в раскопках в Родезии и Англии. В январе 1952 года ее сотрудники первый раз вонзили свои лопаты в землю Иерихонского теля и стали слой за слоем снимать его покровы. Основы современной археологии заложил еще в прошлом веке английский ученый Флиндерс Петри. Он указал, что датировка прошлого может производиться с помощью оставшихся от этого прошлого предметов, т. н. артефактов. В особенности красноречива в этом смысле глиняная посуда. Петри показал, что. каждой стадии истории Востока соответствовала своя особая посуда, виды которой можно классифицировать по эпохам и сопоставить с клинописными и иероглифическими надписями Египта и Месопотамии. Это позволяет в конечном счете датировать все такие эпохи, а с ними и те слои, в которых были обнаружены «говорящие артефакты». Важно только снимать эти слои один за другим, тщательно и терпеливо отделяя эпоху от эпохи. Разумеется, это не очень удобный, а главное — не очень точный метод. Отдельные слои порой идут под наклоном, углубляясь в землю и пересекаясь там с другими слоями. Черепки нередко перемешиваются временем и человеческой рукой. Впоследствии методы Петри были усовершенствованы и дополнены приемами радиографического (радиоуглеродного) определения дат, которые оказались несравненно более точными. Именно с их помощью удалось доказать, что даже Кеньон ошиблась в своей датировке иерихонских руин. Она определила возраст города в 7000 лет, тогда как радиографические методы показали, что он на добрую тысячу лет старше. Ошиблась Кеньон и во многом другом. Тем не менее ей принадлежит несомненная заслуга: она извлекла из небытия доселе практически неведомый древний город и показала его человечеству. Процесс раскопок — это нечто вроде послойной вивисекции прошлого. Снимая слой за слоем, археологи уходят в глубь истории, порой на десятки метров, если в данном месте, как в раскопанной Шлиманом Трое, каждое следующее поселение строилось на развалинах предыдущего. В Иерихоне глубина культурного слоя оказалась чудовищной — до 70 метров! Уже одно это говорило о глубочайшей древности и непрерывной преемственности жизни в этих местах. Оно и не удивительно. В раскаленной Иудейской пустыне первобытные охотники, первыми сменившие кочевой образ жизни на оседлый, могли поселиться только там, где есть вода и подходящая для земледелия почва. Иерихон — оазис среди пустыни, это видно еще и сегодня, когда спускаешься с Иудейских гор и едешь в сторону Мертвого моря. Зеленый пальмовый остров Иерихон кажется маревом среди окружающей каменистой пустыни. Оазис обязан своим существованием многочисленным подземным источникам, среди которых еще в древности выделялся т. н. «Фонтан Элиши». Экспедиция Гарстанга вскрыла неолитические слои только на самом крайнем, северо-западном углу холма. Да и то пришлось для этого рыть глубокую шахту. Кеньон сразу же обнаружила, что артефакты каменного века находятся и на западной оконечности холма, где древние слои подходят намного ближе к поверхности земли и залегают на глубине всего четырех метров. Первое поразительное открытие не заставило себя ждать: оказалось, что площадь поселения уже в каменный век была куда больше, чем думалось. По размеру оно явно превосходило примитивные поселения той эпохи (вроде Чатал-Хююка), которые археологи время от времени раскапывали на Ближнем Востоке. Это означало, что и по количеству жителей Иерихон уже в те времена значительно превосходил обычную деревню. Кеньон оценила его первоначальное население примерно в 2000 человек. Произвести эту оценку ей позволило второе крупное открытие. Доведя раскопки до скального слоя, то есть до максимальной глубины, сотрудники экспедиции вскрыли в этом первом, самом раннем слое остатки глиняных сооружений — те грубые хижины, в которых жили основатели Иерихона. Эти хижины напоминали собой глийяные подобия круглых шатров кочевых охотников. Но эта фаза иерихонских построек оказалась довольно короткой. Уже следующий период (следующий слой) продемонстрировал исследователям огромный прогресс в строительстве и архитектуре. Дома (а их уже можно было без преувеличения назвать не хижинами, а настоящими домами) приобрели прямоугольную форму, стены стали толще и солиднее, в них появились четко прорезанные входы, а внутреннее пространство жилья было разбито на отдельные комнаты, тесно группировавшиеся вокруг общего двора. Но самым интересным было то, что во многих таких домах стены и полы хранили следы штукатурки, что придавало им законченный, даже отчасти современный вид. Это уже были жилища прочно устоявшейся, сложившейся общины. К тому же общины весьма организованной, судя по тому, что все поселение было, по-видимому, обнесено массивной каменной стеной. У иерихонцев каменного века еще не было посуды, и этот вроде бы малозначительный факт показывает, как глубоко ушли археологи в глубь времен, к самому началу оседлой жизни человечества: ведь горшки и миски — это одно из первых изобретений оседлых людей. Несомненно, причиной, по которой бывшие охотники облюбовали и решили укрепить это место, была прежде всего его пригодность для земледельческой жизни. Обилие воды и тропический климат оазиса делали необычайно плодородной его землю, и пришельцы могли рассчитывать, что сумеют добыть себе здесь пропитание. Судя по тому, как расцвел и продолжал расти Иерихон впоследствии, они не обманулись в этих ожиданиях. Но прогресс этих первых поселенцев не ограничивался только областью материальной культуры. Одно из самых поразительных открытий, совершенных экспедицией Кеньон, состояло в обнаружении среди руин каменного века особого помещения, явно служившего ритуальным, то есть религиозным целям. В глубине небольшой комнаты археологи нашли нишу, где возвышался грубо обработанный каменный пьедестал, а рядом с ним — тщательно обработанный кусок вулканического камня, который, судя по виду и месту обнаружения, когда-то был предметом неизвестного нам религиозного культа. Окружавшие камень глиняные фигурки животных свидетельствовали о том, что религия первых иерихонских поселенцев скорее всего представляла собой культ плодородия. По сути, эта находка в Иерихоне позволила историкам воочию увидеть, как зарождались древнейшие религии оседлого человечества и как возникали их первые храмы. Но что еще более поразительно — оказалось, что культура древнейших земледельцев каменного века не исчерпывалась одним лишь культовым поклонением богам плодородия. Кеньон нашла целую галерею портретных масок! Их было семь, и каждая представляла собой высохший череп, на который какой-то неведомый древний художник наложил слой глины, грубо изобразив на нем черты человеческого лица. До сих пор историки искусства знали только о раскрашенных человеческих портретах из знаменитого Фаюмского оазиса в Египте. Теперь перед ними предстали, на несколько тысячелетий более древние, возможно первые в мире, изображения людей, к тому же — людей каменного века. Археологи увидели не просто глиняные или каменные фигурки божков и богинь — перед ними были лица реальных людей, живших семь — восемь тысяч лет назад! Иерихон оказался настоящей «машиной времени». Кто же были эти люди? Почему они удостоились такой почести? Не исключено, что это были портреты почитаемых в поселении предков-основателей вроде римских Ромула и Рема. Но если это так, то значит, искусство живого портрета (а не просто схематического изображения оленей и охотников, как во французских пещерах) возникло уже в седой древности. Уже тогда первобытный Рембрандт вглядывался в лица своих соплеменников, чтобы запечатлеть их для вечности. И видимо, отдавал себе отчет в том, что он творит… Говорят, что искусство особенно расцветает в суровые и опасные эпохи. Судя по толщине каменных стен первого города, иерихонский Рембрандт жил именно в такую эпоху: стены не воздвигаются для защиты от друзей. Иерихонцы одними из первых на Земле перешли к оседлому земледелию; вокруг еще бродили дикие охотничьи племена, и врагов у горожан, надо думать, было предостаточно. Тем не менее первый город просуществовал на удивление долго — об этом свидетельствует толщина культурного слоя, в пределах которого техника изготовления изделий практически не меняется. Жизнь людей в ту пору была короткой, умирали (или погибали) в среднем в возрасте тридцати лет. В городе успело смениться не одно поколение: сложились традиции, устоялись обычаи, проглядывалась в смутной дали непонятного времени какая-то своя легендарная история, о которой рассказывали детям и внукам. Всему этому пришел внезапный конец где-то в начале раннего бронзового века. Палестина, как ее станут в будущем называть, стала тогда местом бурного городского строительства. Как грибы после теплого дождя поднимались вокруг поселения, защищенные стенами, воздвигались дома и жилища, строились храмы и капища; там, где раньше на всю огромную пустынную округу был один Иерихон, слухи о котором наверняка уже обросли сказками и легендами, теперь появилось множество конкурентов. А где города, там цивилизация, а где цивилизация, там войны. К тому времени неолитический Иерихон уже высоко поднимался на своем холме — ведь столько поколений оставляли здесь следы своего пребывания на Земле. Примерно к 3000 году до новой эры (когда настоящие города на всей планете еще можно было пересчитать на пальцах) стены Иерихона окружал холм 20-метровой высоты. Из ворот города в разные стороны разбегались торговые дороги. Об этом можно судить по тому факту, что в слоях этой эпохи уже обнаруживается не только местная посуда, на и черепки глиняных изделий из других мест, подальше к северу, западу и востоку. Сотрудники Кэтлин Кеньон нашли в раскопках и другие признаки цветущей и широкой торговли. Город еще более расширился — видимо, разбогател. Надо полагать, что окрестное население массами тянулось под прикрытие иерихонских стен: ведь город защищал вход в Ханаан со стороны южных и восточных пустынь, откуда непрестанно рвались к этим плодородным землям племена кочевых охотников. С каждым разом они все ближе подступали к городу, а порой даже нападали на него. Судя по раскопкам Кеньон, стены Иерихона разрушались не менее 17 раз! И далёко не всегда виной этому были землетрясения. В 2100 году до н. э. стены были разрушены полностью и до основания. На сей раз виновники известны точно — это были воинственные племена амореев, именно в ту пору захватившие большую часть здешних земель. Они не только разрушили стены Иерихона — они еще вдобавок сожгли город дотла. После слоев с обожженными пламенем остатками стен пошли «пустые» слои — видно, жители бежали из города или были уведены в рабство. Почти двести лет угрюмые и безлюдные руины Иерихона одиноко высились в пустыне. Другие города, помоложе, став жертвой такой катастрофы, уходят в небытие, заносятся песками. Но не таков этот древнейший город. Уже на рубеже 2000 года до н. э. в археологических слоях снова стали появляться остатки жилищ. И опять, как в начале заселения, это грубые, примитивные постройки. Их явно создавали пришельцы, не знавшие навыков городской жизни, ее архитектуры и методов строительства. Видимо, на развалины Иерихона пришли жители других мест, привлеченные древней славой города и его плодородными землями. А к 1900 году до н. э. появляются новые крепостные стены и добротные, просторные дома. В развалинах этих построек археологи нашли бронзовое оружие и украшения из бронзы. Это позволило установить, что новые поселенцы пришли откуда-то с севера, несколькими волнами, причем каждая следующая волна несла с собой всё более высокую культуру бронзового века. Не удивительно, что город стремительно разрастался, и уже через несколько сотен лет периметр городских стен охватил огромную по тем временам площадь — самую большую, которую когда-либо занимал Иерихон. Сами стены тоже были построены по новой системе — вдоль основания их был насыпан вал, для того, видимо, чтобы воспрепятствовать приближению боевых колесниц. Культуру новых жителей Иерихона сохранили их гробницы. Археологи раскопали десятки таких гробниц с уцелевшими в них остатками изделий из дерева, текстиля, плетеных корзин и даже пищи. И снова Иерихон оказался непохожим на других: во всех остальных местах здешней земли такие артефакты давно истлели, а здесь время их совершенно не тронуло. Благодарить за это следует сухой и жаркий климат Иорданской долины. Он — и только он — позволил историкам узнать, как жили люди в Святой Земле в эпоху прихода сюда праотца Авраама. Каждая гробница содержала богатый набор вещей и провизии. Можно думать, что люди того времени верили в загробную жизнь и старались снабдить покойников всем необходимым для продолжения существования на том свете. Предполагалось даже, что они будут есть, сидя за столами, и поэтому в гробницах были обнаружены целые комплекты тогдашней мебели — деревянные столы, стулья и кровати, отделанные с немалым искусством. Деревянные и глиняные горшки и кувшины содержали запасы пищи, а большие, с четырьмя ручками сосуды — питье. На полах были расстелены плетеные матрацы, в деревянных чашках или алебастровых сосудах были приготовлены туалетные принадлежности, в плетеных корзинах навалом лежали деревянные и металлические гребни вперемежку с одеждой. Разумеется, все это сохранилось лишь фрагментарно, но и в таком виде позволяет увидеть, что люди в Иерихоне жили зажиточно. То была уже настоящая и довольно высокая по тем временам цивилизация. Конец ее наступил вместе с концом среднего бронзового века, с началом становления и расширения великих ближневосточных империй. Лежавший на скрещении путей Ханаан оказался, как и сейчас, предметом внимания и интереса великих держав. Около 1560 года до н. э. (Иерусалим уже был тогда столицей племени иевуситов) в страну вторглись египтяне. Иерихон был захвачен, разграблен и сожжен; С этого момента культурный слой снова становится стерильным. Предшественник Кэтлин Кеньон, уже упоминавшийся выше Гарстанг, нашел, правда, на краю иерихонского холма какие-то жалкие остатки невысоких стен и временных жилищ, которые он датировал 1350 годом до новой эры, но можно с почти полной уверенностью утверждать, что к концу этого столетия, то есть ко времени, которым большинство современных историков датирует завоевание Ханаана евреями, не высился вблизи Мертвого моря богатый и сильный город и не было тех стен, которые мог бы сокрушить рев еврейских боевых труб. Предание о рухнувших от трубного гласа стенах Иерихона — всего лишь красивая легенда. Йегошуа бин-Нун не был ни первым, ни последним среди тех полководцев, кто слегка преувеличил свои боевые заслуги, — достаточно глянуть на победные стелы египетских фараонов и ассирийских царей того времени. Впрочем, у бин-Нуна были вполне реальные причины гордиться взятием Иерихона — вступив в этот древний город, он вместе со своим народом вступил в историю. С этого времени первый город на планете продолжил свою жизнь уже как еврейский город. Пока в наши дни не стал палестинским. >ГЛАВА 2 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ А вот еще кое-что о древних строителях, хотя, скорее, из области забавного. Как многим, наверно, известно, по всей территории Британского королевства рассеяно множество древних каменных монументов, состоящих из ряда вертикальных подпорок, поддерживающих поперечную. Они получили название «хедж». Самый знаменитый и интересный из них, Стоунхедж, расположен на равнине Солсбери, что на юго-западе Англии. Историки полагают, что его строительство заняло примерно четыреста лет и закончилось 4800 лет назад. Комплекс Стоунхеджа состоит из наружного кольца П-образных каменных сооружений из песчаника — это вертикально стоящие камни высотой около 4,5 м, которые поддерживают горизонтальные каменные «перекладины». Кроме того, имеется также внутреннее кольцо из камней пониже, которое повторяет форму наружного. Множество разнообразных гипотез высказывалось по поводу назначения этого монумента. Многие ученые считают, что это был храм, в котором в период неолита происходили культовые процессии священников и мистические празднества, а вокруг, в открытом поле, располагались зрители. Возможно также, что это было место для некультовых зрелищных представлений. Так вот, недавно была выдвинута новая, весьма забавная гипотеза, согласно которой дизайн Стоунхеджа основан на женской сексуальной анатомии. Автор гипотезы — доктор Антони Перке, отставной профессор гинекологии и акушерства университета Британской Колумбии в Ванкувере и врач университетской женской больницы. Внимательно рассматривая камни Стоунхеджа, он заметил, что некоторые из них тщательно отполированы, а другие остались необработанными. Это навело его на мысль о связи отполированных камней с профессионально хорошо знакомыми ему особенностями женской кожи. Гладкость женской кожи по сравнению с мужской давно известна и связана с женским гормоном эстрогеном. «Каких же гигантских усилий стоило древним людям шлифовать камни вручную», — подумал доктор Перке и решил проанализировать весь монумент в анатомических терминах женского полового аппарата. Он увидел, что камни внутреннего кольца расположены скорее по эллиптической, яйцеобразной кривой, нежели по кругу. Сравнение ее формы с формой женских половых органов показало неожиданный параллелизм. Дальнейшее изучение монумента выявило другие интересные детали, и в результате у Перкса родилась законченная и оригинальная гипотеза. Согласно, этой гипотезе, наружный каменный круг и невысокий холм в его центре, возможно, имитируют т. н. большие срамные губы (две покрытые волосами кожные складки, которые окаймляют отверстие влагалища и сзади от него срастаются вместе) и лобок, тогда как внутренний круг изображает малые срамные губы (две другие складки, не покрытые волосами, вокруг женского влагалища, у передней точки соединения которых находится клитор). Тогда камень алтаря (или жертвенника) должен соответствовать самому клитору, а пустой геометрический центр, очерченный камнями малого круга, — символ детородного канала. При всей своей кажущейся забавности гипотеза Перкса содержит некое здравое научное зерно. Перкс обращает внимание на тот факт, что, в отличие от других холмов на просторах Англии, в холмах, окружающих Стоунхедж, найдено очень мало захоронений. Он трактует это как подтверждение своей гипотезы: «Я думаю, что это место было символом жизни, а не смерти». По мнению Перкса, комплекс Стоунхеджа был посвящен богине Матери-Земле. Поклонение этой богине было распространено среди ранних кельтов и людей других европейских неолитических культур. В Европе найдены сотни статуэток, так или иначе выражающих идею богини-Матери. Они были созданы в те времена, когда роды сопровождались высочайшей смертностью младенцев, и поэтому вполне возможно, что богине-Матери молились также о выживании новорожденных и вообще о плодородии. Поэтому Стоунхедж, по мнению Перкса, мог служить для таких «церемоний плодородия», которые связывали рождение и выживание человека с рождением и выживанием растений и животных, от которых зависели тогдашние люди. Любопытно, что почти одновременно с Перксом проблемой Стоунхеджа занялся другой ученый, голландский профессор философии Джон Давид Норт. Он выдвинул совершенно иное (и более консервативное) предположение, заявив, что камни Стоунхеджа расположены так, что образуют точную проекцию определенных звезд, а потому следует думать, что Стоунхендж служил астрономической обсерваторией и картой звездного неба. Доктор Перке признает, что монумент, возможно, был связан и со звездным небом, но видит это в ином свете. «В Стоунхедже мы видим на открытой равнине Солсбери небесный свод вместе с Землей. Как будто бы Отец-Солнце встречается с Матерью-Землей на середине пути, в месте, обращенном к будущему». Так что правило «Шерше ля фам», то бишь «Ищите женщину», иногда, как видим, помогает и в поисках разгадок доисторических тайн. Если и не очень убедительных, то весьма увлекательных разгадок. Не оглянуться ли и нам на иные наши древности? >ГЛАВА 3 СЕКСУАЛЬНЫЕ РАБЫ ИШТАР В гипотезе доктора Перке есть и другое рациональное зерно. Древние люди действительно много размышляли о женщинах. Оно и понятно — женщины рожали детей, т. е. были залогом будущего. Может быть, потому и секс играл огромную роль в древней культуре — чему доказательством нижеследующая занимательная история. Она начинается словами (кое-где попорченной) вавилонской рукописи:
Эта пространная эротическая поэма, лишь небольшой отрывок из которой приведен выше, описывает длинную череду сексуальных сношений вавилонской женщины по имени Иштар со 120 юношами ее города. Сей примечательный текст, в котором то и дело повторяется припев: «Вот так милуются девки с парнями в нашем городе!», был обнаружен в собрании клинописных текстов религиозного толка в развалинах главного центра вавилонской религии, города Ниппур, который историки иногда называют «Ватиканом Ново-Вавилонского царства». Глиняная табличка с текстом поэмы была найдена во время раскопок древнего Вавилона в 1880 году одним из пионеров современной археологии Германом Хильпрехтом. Судя по всему, поэма была написана во время царствования знаменитого Хаммурапи, но найденный Хильпрехтом текст, представлял собой более позднюю копию, что свидетельствует о большой популярности данного произведения. Сорок лет царствования Хаммурапи (XVIII век до н. э.) были временем расцвета Вавилонии. В те времена царство это было религиозным, культурным и научным центром всего Ближнего Востока. Именно тогда было создано первое в истории собрание законов, известное под названием «кодекса Хаммурапи». И одновременно то была эпоха бурного расцвета литературного творчества. «Тексты, описывающие сексуальные отношения вавилонян, представляют собой органическую часть этой богатой литературной традиции, — говорит профессор израильского Беэр-Шевского университета Авигдор Гурвиц, посвятивший этому гимну древнего распутства статью в вышедшем недавно в США сборнике «Разгадывая загадки и распутывая узлы». — Секс был такой же законной темой искусства, как в наши дни, когда, например, в кинофильме, не имеющем никакого отношения к порнографии, можно встретить постельные сцены. Так же и в знаменитой вавилонской поэме «Деяния Гильгамеша» имеется эпизод, в котором дикое лесное существо Энкиду семь суток подряд совокупляется с блудницей». По словам проф. Гурвица, вавилонское общество было значительно более терпимым и открытым в отношении секса, чем еврейское или христианское, и вавилоняне свободно обсуждали любые сексуальные проблемы. Секс был также и куда более доступен. Так, например, в городе Ашшур (на территории нынешнего Ирака) существовал храм богини любви Иштар, в развалинах которого были найдены медальоны с изображениями храмовых проституток мужского и женского пола; как полагают исследователи, сношения с ними считались своего рода магическим ритуалом. «Напротив, в еврейских источниках, — продолжает Авигдор Гурвиц, — о сексе, как правило, говорится весьма сдержанно, и всякое описание сексуальных отношений, выходившее за рамки общепринятого, считалось предосудительным». Так, в известном рассказе Книги Судей о Яэли и Сисаре так и не сказано напрямую, сопровождалась ли их встреча половым актом. Впрочем, согласно талмудическому комментарию рава Йоханана, стих «Между ног ее встал на колени, опустился и лежал, между ног ее встал на колени и опустился, там, где встал на колени, лежал, убитый» следует понимать в том смысле, что Сисара успел семь раз овладеть Яэлью, прежде чем она его убила. Подобно древним еврейским авторам, современные ассириологи относятся к проблеме секса весьма консервативно, и, например, в одном из известнейших английских переводов «Деяний Гильгамеша» переводчик Александр Хейдель предпочел перевести слишком скабрезную сцену… по-латински! Возможно, по тем же причинам и эротические гимны, повествующие о вавилонском разврате, оставались неизвестными в течение многих лет (с самого момента их обнаружения), и лишь в самое последнее время они нашли своих переводчиков. Немецкий ассириолог Вольфрам фон Зоден перевел их на немецкий, но при этом ограничился обсуждением лишь грамматических особенностей текста. Тем не менее даже на основании этого анализа фон Зоден пришел к выводу, что найденная глиняная табличка, по всей видимости, представляет собой отрывок более обширного текста — возможно, культового или ритуального характера. Исследование Авигдора Гурвица основывается на переводе фон Зодена, но, в отличие от труда немецкого исследователя, представляет собой первый в ассириологии чисто литературный анализ поэмы. По мнению Гурвица, «этот текст представляет собой одно из древнейших порнографических произведений вавилонской письменности. А то, что текст этот написан по-аккадски — на древнем языке богослужения, — не более чем прием. В поэме масса юмористических моментов и остроумной словесной игры, что свидетельствует об определенной литературной изощренности автора». В процитированном отрывке речь идет о женщине по имени Иштар (судя по всему, вполне обычной, живой женщине, а не одноименной богине), с которой хотят совокупиться юноши города. Один из них предлагает, ей усладить себя. Его товарищ, видимо, сочтя, что это вежливое предложение не будет оценено по достоинству, добавляет перца и предлагает Иштар нечто более грубо-откровенное. Ответ Иштар превосходит все ожидания юношей: она предлагает себя не только им, но и всему городу, и приглашает городских юношей «в тень стены». Речь идет, по-видимому, о том районе, который в древности служил эквивалентом современных «кварталов красных фонарей», ибо и о блуднице Рахав в Библии сказано, что «дом ее вблизи стены и у стены она живет». 120 юношей решают воспользоваться соблазнительным предложением Иштар, и каждый из них совокупляется с ней по «семь раз спереди и семи раз сзади». Но даже эти сотни половых актов не удовлетворяют женского сластолюбия. Юноши изнемогли, но Иштар требует еще. Рассказ кончается тем, что изнуренные юноши все же удовлетворяют ее желание. «Все мужчины хотят послужить этой женщине, но Иштар оказывается сильнее и выносливей своих сексуальных рабов», — отмечает проф. Гурвиц. По его мнению, автор поэмы выражает здесь — быть может, впервые в истории — феминистскую позицию: «Иштар — это высшее воплощение сексуального объекта; она предлагает всем свое тело, но на самом деле никому не подчиняется и никому не принадлежит. Женщина здесь изображена существом высшего ранга, а мужчины — низшими существами, которые служат ей и подчиняются ее воле». Вместе с тем профессор Гурвиц признает, что поскольку мы имеем дело с литературой, всегда существует опасность переноса наших нынешних представлений на древний текст со всеми его очевидными и неизбежными неопределенностями. Что, может быть, и так. >ГЛАВА 4 ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ В АККАДЕ Поскольку мы уже упомянули об аккадском языке, поговорим об Аккаде. Катастрофы, как известно, происходят не только в природе. Вопросительными знаками загадочных катастроф кончаются также страницы человеческой истории, посвященные взлету и упадку многих великих империй прошлого. И эта история — как раз об одной такой загадке, связанной с древним Аккадским царством великого Саргана, и о новейшей гипотезе, предлагающей ее объяснение. Одна из самых популярных книг об истории Древнего Ближнего Востока называется решительно и кратко — «История начинается в Шумере». В пику этому — и со значительно большим правом — наш рассказ можно назвать «История начинается в Аккаде», ибо если Шумер и был самой процветающей частью древней Месопотамии, то все же первыми объединили все города Двуречья, включая шумерские Ур, Лагаш, Урук и другие, именно цари Аккада. Давайте, однако, для начала поставим, как говорится, текст в контекст. Набросаем общие историко-географические контуры происходящего. Итак, место действия — Месопотамия, или Двуречье (долина Тигра и Евфрата); время действия — 3-е тысячелетие до новой эры. Еще должны пройти добрые полтысячи лет, прежде чем древние евреи переселятся в Египет, и почти тысячелетие до того, как они совершат Исход оттуда. Но уже и в. середине 3-го тысячелетия в Египте существует могущественное государство, именуемое сегодня Древним царством; в нынешней Палестине и Сирии там и сям возникают торговые города и земледельческие поселения; на Крите и Эгейских островах развивается культура раннего бронзового века. Свой островок цивилизации существует и в Двуречье. Южная часть страны, или Шумер, с ее Уром, Уруком, Лагашем и другими городами пересечена ирригационными каналами — благодаря им речные воды оплодотворяг ют пахотные земли, на которых дважды в год ячмень приносит 50-кратные урожаи; северная часть, Аккад, славится бескрайними пшеничными полями, среди которых высятся города-государства Вавилон, Киш, Сиппар, Кута, Акшак. В сущности, все это — территория нынешнего Ирака, пограничная с нынешним Ираном, и вот здесь-то и начинается в те времена трехтысячелетняя история великих империй Древнего Ближнего Востока. Перечислим их в порядке появления и смены друг друга: Аккадское царство; Вавилонское царство; Ассирийское царство; Нововавилонское царство; Персидская империя; империя Александра Македонского. На этом фоне со 2-го тысячелетия до н. э. развивается и более знакомая нам история древних евреев. А началось все, как уже было сказано, в Аккаде. В 2360 году до н. э. царь аккадских земель Сарган (позднее прозванный Великим) завоевал не только все города шумеров, но и раздвинул границы созданного этими завоеваниями государства на восток далеко за Персидский залив, в земли Элама; на запад — до берегов Средиземного моря (так что в пределах этих границ оказались Сирия, Ливан и Палестина); на юг — до нынешнего Омана; и на север — до равнин. Анатолии, что в сердце нынешней Турции. Поистине грандиозная получилась империя, территориально, вероятно, самая большая в мире по тем временам. Историкам известно (из надписей и раскопок), что при сыновьях и внуках Саргана (сам он умер в 2305 году до н. э.) созданное им государство процветало и укреплялось. Вдоль северных границ, откуда то и дело пытались прорваться воинственные племена горцев, были воздвигнуты многочисленные могучие крепости; на юге расширялась и совершенствовалась система оросительных каналов; повсюду строились ступенчатые храмы-зиккураты и величественные дворцы для придворной аристократии и бюрократической элиты. Так продолжалось ещё около ста лет после смерти Саргона, а затем произошло что-то непонятное: почти внезапно и одновременно все эти цветущие города, могучие крепости и плодородные поля были заброшены и отданы во власть свирепым песчаным ветрам; люди, населявшие северную часть Аккада, покинули свои жилища и бежали на юг, словно гонимые каким-то непонятным страхом; великое царство в одночасье развалилось и стало добычей варваров, спустившихся с гор. Крушение Аккадского царства было таким основательным, что больше оно уже не возродилось, а первые робкие признаки возрождения Двуречья появились лишь спустя 300 лет, в 1900 году до н. э.! И понадобилось еще целое столетие, прежде чем земли Двуречья снова объединил (на сей раз уже в виде Вавилонского царства) великий завоеватель и законодатель Хаммурапи. Вот это и есть та загадка, которой посвящен наш рассказ. Что вызвало бегство горожан и крестьян Аккада на юг? Что вообще вызвало этот неожиданный, ничем вроде бы не предвещавшийся крах Аккадского царства? И почему все это произошло не просто «очень быстро», а буквально «в одночасье», в течение нескольких считанных лет (сегодня это событие датируется вполне точно — оно произошло около 2200 года до н. э.)? Первая мысль — вторжение каких-нибудь пришлых завоевателей. Но нет, исторические памятники и данные раскопок не подтверждают такой гипотезы. Вторжение с гор действительно произошло, только не до, а после развала империи; иными словами, оно было не причиной этого развала, а его следствием. Мысль вторая — какой-нибудь гигантский природный катаклизм вроде того, который, как сегодня все более уверенно считается, 65 миллионов лет назад уничтожил динозавров. Но нет, не сохранились в истории следы такого катаклизма, а должны были бы обязательно сохраниться, если бы он был столь грандиозных масштабов — ведь Аккадское царство охватывало практически весь Ближний Восток. Надо заметить, что большинство историков — «древнеближневосточников» долгие десятилетия весьма единодушно игнорировали все эти вопросы. Более того — они вообще не видели здесь загадки. По их мнению, развитие Аккада следовало обычному закону развития всех древних империй: они оказывались не способны интегрировать завоеванные ими отдельные города-государства в рамки единого государственного целого; в результате в их основах рано, или поздно обнаруживалась «имперская слабость» и они становились легкой добычей очередных, вторгавшихся извне варваров. В случае Аккада эта схема была сформулирована авторитетнейшим ассириологом Норманом Иоффе из Мичиганского университета, который даже не потрудился хоть как-то ее конкретизировать, заявив без всякого стремления к оригинальности: «Неспособность включить традиционную знать городов-государств в процесс расширения империи усилила центробежные тенденции и тем самым сделала фланги империи чересчур уязвимыми». Понятно, что подобные теории могли держаться лишь до тех пор, пока датировка Аккадской катастрофы была расплывчатой и туманной. Но постепенно в археологии Ближнего Востока стали накапливаться данные, свидетельствовавшие о том, что эта катастрофа была исторически «внезапной» и явно связанной с какими-то природными причинами… На такие причины издавна указывала народная традиция — например, знаменитая древняя поэма «Аккадское проклятие», приписывавшая падение Аккада гневу бога Энлиля, храм которого якобы разрушил последний из аккадских царей, в наказание за что, Энлиль-де наслал на Аккад засуху, голод и вторжение варваров. Разумеется, поэма, да еще древняя, не очень серьезное свидетельство, согласимся. Однако в конце 40-х — начале 50-х годов с аналогичными «стихийно-природными» объяснениями Аккадской катастрофы выступили некоторые серьезные ученые. Например, французский археолог Шеффер высказал предположение, что эта катастрофа была вызвана повсеместными землетрясениями, а британский археолог Мелларт выдвинул гипотезу, что ее основной причиной были затяжные засухи. Однако в те времена большинство специалистов сочли эти объяснения чересчур «фантастическими». Ученые, подобные Иоффе, продолжали считать причиной катастрофы постепенное накопление неблагоприятных социально-политических факторов; другие, как израильский археолог Арлена Розен из университета имени Бен-Гуриона, признавая возможную «частичную роль» экологических причин, тем не менее, основную вину возлагали на «негибкость древних властителей», не сумевших-де «приспособиться к изменившимся условиям»; наконец, третьи, как американский археолог Бутцер, соглашаясь признать за экологическими причинами «весьма значительную» роль, все же объявляли их чем-то вроде последней соломинки, сломавшей спину уже до того перегруженного «имперского верблюда». А меж тем ни одна из этих групп ученых не могла объяснить тот важнейший, к тому времени неоспоримо установленный факт, что в 2200 году до н. э. «что-то» произошло не только в Аккаде, но одновременно чуть ли не на всей территории тогдашнего средиземноморского мира. И раскопки с применением более точных методов датировки, и углубленное изучение новонайденных памятников действительно показали, что практически одновременно с крахом Аккадского царства в Месопотамии произошло и падение Древнего царства в Египте, и массовое и повсеместное обезлюдение городов и поселений Сирии и Палестины, и почти внезапное крушение раннебронзовой крито-эгейской культуры. Тут уже «центростремительными процессами» и «уязвимостью имперских флангов» ничего не объяснишь. Налицо была серия несомненных и весьма масштабных исторических катастроф, практическая одновременность которых требовала каких-то иных, столь же крупномасштабных объяснений. Может быть, историки и археологи по-прежнему продолжали бы держаться за свои излюбленные социально-политические концепции постепенно нараставшего «имперского кризиса», но к этому времени в науке произошло еще одно существенное изменение: стал ощутимо меняться характер представлений о ходе исторических процессов в целом. Прежние представления о постепенном, медленном, «градуальном» характере биологической и исторической эволюции стали все более уступать место новым теориям, подчеркивавшим чрезвычайно важную, порой, возможно, решающую роль «точечных», «одномоментных» событий катастрофического характера. Короче, в науку стал возвращаться «катастрофизм», сформулированный в Начале XIX века Жоржем Кювье, а после Дарвина изгнанный из научного обихода. Важнейшей вехой этого поворота стала выдвинутая в 1980 году отцом и сыном Альварецами гипотеза о столкновении Земли с астероидом (или крупным метеоритом) как главной причине внезапной, массовой и практически одновременной гибели динозавров. Поначалу высмеянная чуть ли не всеми специалистами, эта гипотеза спустя десять лет была блестяще подтверждена обнаружением вполне реальных следов такого столкновения, сохранившихся во многих местах планеты (в частности, следов иридия метеоритного происхождения), а затем и остатков соответствующего кратера на дне Мексиканского залива. Успех Альварецов вдохновил тех молодых историков и археологов, которым давно не давала покоя загадка Аккадской катастрофы и которых не удовлетворяли ее традиционные объяснения, и в 1993 году группа этих ученых (американец Харви Вейсс, француженка Мари-Агнес Курти и другие) выступила в журнале «Сайенс» с оригинальной гипотезой, основанной на совокупности множества новых фактических данных и предлагавшей новое решение давней исторической проблемы Аккада. Те фактические данные, которые легли в основу этой нашумевшей (и открывшей длящийся по сей день яростный спор историков), статьи, были собраны ее авторами в течение почти 15 лет раскопок на холме Тель-Лейлан в Северной Сирии. Здесь, под многовековыми песками, были обнаружены остатки древнего города, который в свое время был одним из торговых и политических центров Аккадского царства. Результаты раскопок Тель-Лейлана во многом перевернули прежние представления специалистов о развитии цивилизации Двуречья. Раньше считалось, что хотя объединителями здешних земель были цари Аккада, но подлинную культуру — земледелия, строительства и т. д. — привнесли; в Аккадское царство жители юга — шумеры (отсюда. и упомянутое в начале этого рассказа название — «История начинается в Шумере»). Теперь выяснилось, что в действительности развитие севера и юга Месопотамии происходило практически одновременно и параллельно. Тель-Лейлан начал стремительно расширяться и застраиваться уже в 2600 году до н. э., задолго до объединения страны под властью Саргона Великого и появления на севере шумеров. К 2400 году до н. э. город увеличился в шесть раз, заняв общую площадь в 20 гектаров. Его жилые кварталы были тщательно распланированы, прямые улицы — пересечены дренажными каналами, в центре высился величественный акрополь. При Саргоне, его детях и внуках этот рост продолжался за счет переселения в Тель-Лейлан жителей окрестных городов. Судя по найденным документам, такие переселения одновременно происходили и в других местах царства; переселенцы направлялись затем на государственные работы по освоению новых земель и прокладку торговых дорог, что способствовало дальнейшему росту процветания страны. Иными словами, вплоть до 2200 года до н. э. ни раскопки, ни документы не содержат и намека на какой бы то ни было «подспудный кризис империи», который якобы стал причиной ее последующего краха. Второе обстоятельство, неопровержимо установленное раскопками в Тель-Лейлане, — несомненная историческая «внезапность» этого краха. Вот только что (в 2250 году до н. э.) были воздвигнуты новые, мощные крепостные стены и переселены в город окрестные жители, а спустя каких-нибудь 40–50 лет Тель-Лейлан уже покинут и занесен песком! Исследователи обнаружили, что песчаные слои, покрывающие рухнувшие городские строения, не содержат ни малейших признаков человеческой деятельности на протяжении всех последующих 300 лет — только около 1900 года до н. э. в этих слоях вновь появляются следы пепла, бытового мусора, а затем и развалины новой имперской крепости. Любопытно также, что первыми на руины аккадского Тель-Лейлана легли слои песка, смешанного с вулканической пылью. Откуда она взялась в этих местах, где уже сотни тысяч лет не было никаких вулканов, непонятно, но еще интереснее, что та же картина была обнаружена и во многих других местах, где молодые исследователи подняли древние песчаные слои. Развалины Тель-Тайя, Хагар-Базара, Тель эль-Хавы и других древних аккадских крепостей тоже оказались засыпаны смесью песка и вулканической пыли, а затем — безжизненными слоями чистого песка толщиной около 20 см. Применяя методы радиоактивной датировки, исследователи установили, что начальный слой песка во всех этих местах относится к 2200-у, а последний — к 1900 году до н. э. Иными словами, все данные свидетельствовали о том, что равнины Северной Месопотамии были покинуты их жителями на целых 300 лет, начиная с 2200 года до н. э. Те же методы датировки, примененные другими археологами к развалинам других великих культур Средиземноморья (в Египте, на Крите и т. д.), показали, что и там крах первых цивилизаций произошел в то же самое время. Более того, обнаружены следы «разрыва исторической непрерывности», а проще говоря — некой загадочной исторической катастрофы, причем в столь отдаленных от Средиземноморья местах, как долина Инда и равнины Кении. И опять в то же самое время — около 2200 года до н. э. Добавим к этому, что результаты недавнего (1996 год) исследования отложений на дне Оманского залива обнаружили и там следы того же катаклизма: слой этих отложений, относящийся к 2300–2200 годам до н. э., оказался впятеро более богат осадками, чем все предыдущие и последующие, и к тому же насыщен все той же вездесущей вулканической пылью. Таким образом, картина катаклизма 2200 года до н. э., первые штрихи которой были прочерчены загадочной «Аккадской катастрофой», постепенно расширилась, охватив почти все известные тогда очаги человеческой цивилизации. Аккадская катастрофа оказалась не только вполне реальным историческим событием, но и одним из многих аналогичных катастрофических событий того же времени. Толчок, полученный исторической мыслью в результате новых исследований молодых западных археологов в покинутых городах Аккада, постепенно привел к становлению совершенно неожиданной концепции крупномасштабного катаклизма, одновременно затронувшего весьма отдаленные друг от друга регионы земного шара. И в этом смысле можно лишь повторить, что вся эта история, действительно, началась в Аккаде. Но что же все-таки было причиной данного катаклизма? Несомненно, главную, так сказать, непосредственную роль в нем сыграло наступление длительного периода устойчивых песчаных бурь и засух, растянувшихся на долгие десятилетия и сделавших невозможной жизнь в городах Северной Месопотамии. Бегство тамошних жителей на юг было, видимо, прямым следствием этих экологических бедствий. Можно думать, что какие-то аналогичные причины привели к произошедшим в те же времена изменениям в течениях Нила и Инда. Все это, вместе взятое, ознаменовало наступление длительного, почти трехвекового периода засух и холодов на огромном пространстве Азии, Северной Африки и Южной Европы. Но исходной причиной катаклизма были, надо думать, еще более масштабные события. Некоторые указания на их возможный характер дают последние результаты, полученные при исследовании отложений на дне Атлантического океана между Гренландией и Исландией. В этих отложениях обнаружены слои того же времени, особенности которых свидетельствуют о резком изменении климата всего северного полушария. Некоторые климатологи высказывают на этом основании гипотезу о связи этого похолодания с неким длительным и устойчивым «эффектом Эль-Ниньо». Ведь и в наше время этот эффект, вызываемый изменениями океанских течений, оказывает существенное влияние на погоду в общепланетарном масштабе. Однако окончательного ответа на вопрос о причинах катаклизма 2200 года до н. э. пока еще нет, и, как выразился один из исследователей, тот, кто этот убедительный и однозначный ответ найдет, может наверняка рассчитывать на Нобелевскую премию. Так что загадка «Аккадской катастрофы» все еще ждет своего решения. >ГЛАВА 5 ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПОТОПУ Перефразируя начало предыдущей истории, можно сказать: катастрофы происходят не только в человеческой истории, куда чаще они происходят в природе. О многих мы знаем, другие остаются предположительными. Об одной из таких «предположительных катастроф» шла речь на конференции Археологического института Соединенных Штатов, состоявшейся в городе Сан-Диего. Главным событием конференции была встреча американских археологов и историков с геологами Вильямом Райаном и Уолтером Питманом — авторами нашумевшей книги «Ноев потоп, или новые научные открытия, связанные с событием, которое изменило мир». Чем же прославились эти геологи, что с ними захотели встретиться специалисты совсем другой профессии, казалось бы, от геологии весьма далекой? Десять лет назад, в 1996 году, Райан и Питман, специалисты по геологии морей, выдвинули дерзкую гипотезу, согласно которой Ноев потоп действительно происходил — только не на всей Земле, а лишь в определенной ее части, в Черном море. Опираясь на результаты своих многолетних исследований подводной периферии этого моря и древних осадков вдоль нее, Райан и Питман пришли к выводу, что примерно 7600 лет тому назад (то есть около 5600 года до н. э.) Черное море весьма быстро и резко изменило свою акваторию. Найденные авторами факты указывали, что площадь моря за какие-нибудь считанные месяцы (максимум — за два года) увеличилась почти на 30 процентов, залив при этом свыше 150 тысяч квадратных километров прибрежных земель. По мнению Райана и Питмана, это произошло в результате внезапного прорыва скалистого перешейка, который до того отделял Черное море от Средиземного. В образовавшийся пролив (ныне мы его называем Босфорским) хлынули средиземноморские воды. Обрушиваясь в более низко лежавший черноморский бассейн, они создали гигантский водопад, по мощности превышавший двадцать Ниагарских водопадов, который в короткое время изменил не только облик самого Черного моря, но и всю культурную географию региона. Спасаясь от быстро наступавшей воды, прибрежные жители вынуждены были покинуть давно освоенные и обжитые берега и в панике рассеяться кто куда. Райан и Питман высказали убеждение, что именно это «великое бегство народов» привело к тому, что-навыки сельского хозяйства, впервые выработанные людьми как раз у берегов благодатного Черного моря, были перенесены, с одной стороны, в Центральную и Западную Европу, а с другой — на Ближний Восток и в Месопотамию. Такое огромное бедствие, такой гигантский природный катаклизм не мог не запечатлеться в памяти перенесших его людей, и вот сказание о потопе, содержащееся как в библейском рассказе о Ноевом ковчеге, так и в предшествовавшем ему месопотамском мифе о Гильгамеше (там роль Ноя играет бессмертный Утнапиштим) как раз и является, по словам авторов, отражением и косвенным свидетельством реальности «черноморского потопа». Впечатляющая гипотеза Райана и Питмана не могла не вызвать споров и дискуссий, и таковые не замедлили последовать. Геологи, ознакомившиеся с доводами коллег, нашли их достаточно убедительными. С гипотезой согласились и некоторые археологи и историки. Так, Альберт Аммерман из университета Колгэйт заметил, что первое появление оседлых поселений и признаков сельского хозяйства в современной Венгрии датируется временем, на 200 лет более поздним по сравнению с предполагаемым «потопом», что вполне согласуется с гипотезой об «исходе» носителей оседлости и агрикультуры с берегов Черного моря. Сами авторы гипотезы, продолжая свои изыскания, обнаружили в донном иле у берегов Черного моря раковины, принадлежащие мелким морским животным, характерным именно для Средиземного моря, причем, судя по радиоактивной датировке, животные эти погибли как раз 7600 лет тому назад. Еще более интересное и отчасти загадочное открытие Райан и Питман сделали вблизи пролива Босфор, в Мраморном море. Они нашли здесь на морском дне странное подводное образование, имеющее характер длинной (почти полукилометровой) дамбы, постепенно поднимающейся на высоту пятиэтажного дома. Если дальнейшее изучение покажет, что дамба имеет искусственный характер, это может быть еще одним свидетельством того, что в древние времена на месте Мраморного моря была обжитая суша, разделявшая Черное и Средиземное моря. Но самые любопытные доказательства в пользу справедливости гипотезы «черноморского потопа» нашел пенсильванский археолог Фредрик Хиберт, в течение нескольких лет изучавший подводное побережье Черного моря вблизи турецкого города Сйноп. В ходе своих исследований он применял подводные эхолокаторы и другие средства дистанционного фотографирования. Недавно на телеэкранах был показан сенсационный научно-документальный фильм, сделанный Хибертом с помощью этих методов. На снимках отчетливо видны наполовину ушедшие в донный ил остатки обработанных камней, образующих нечто вроде древнего жилища, и другие приметы явно существовавшего здесь в древности и позже затопленного поднявшимся морем оседлого человеческого поселения. Ободренные всеми этими доказательствами справедливости своей гипотезы, Райан и Питман собрали их в книгу под вышеупомянутым заглавием. Именно эта книга и послужила предметом споров, развернувшихся вокруг гипотезы «черноморского потопа» на конференции Национального археологического института в Сан-Диего. Дело в том, что, в отличие от немногочисленных энтузиастов вроде Хиберта, большинство историков и археологов и прежде не соглашалось с далеко идущими выводами Райана и Питмана; теперь же, после выхода в свет их обобщающего труда с «новыми научными доказательствами», это большинство и вовсе восприняло идею в штыки. Надо, однако, заметить справедливости ради, что главные возражения историков и археологов вызывает не столько геологическая сторона аргументации авторов, сколько их культурно-исторические выводы. Выступая на конференции в Сан-Диего, английский историк Стефани Далли из Оксфорда указала, что намеченные Райаном и Питманом параллели между их описанием «потопа» и его описанием в ближневосточных мифах крайне сомнительны. Как в истории Гильгамеша, так и в рассказе о Ное говорится, что потоп был вызван дождём, который шел непрерывно в течение длительного времени, так что покрыл «всю землю»; между тем в случае постепенного, пусть даже быстрого подъема уровня моря суша все время должна была быть видна. Весьма странно также, что память о потопе сохранилась почему-то лишь в ближневосточных мифах: если бы он происходил так, как описано у Райана и Питмана, воспоминания о нем должны были отразиться и в легендах Центральной Европы, куда, если верить авторам, ушла значительная часть «беженцев». Но в европейской мифологии следы «потопа» начисто отсутствуют. Поэтому куда более вероятно, что ближневосточные мифы о потопе были все-таки порождены не «черноморским потопом» Райана — Питмана, а теми катастрофическими наводнениями, которые в древности периодически происходили на месопотамских землях в устье Тигра и Евфрата. А если это так, то следует признать, что культурное влияние «черноморского потопа» (предположим, что он имел место) было куда менее значительным, чем это утверждают авторы гипотезы. И, скорее всего, появление сельского хозяйства в Европе вызвано другими миграциями и более сложными культурными процессами. Мнение осторожного большинства подытожил на конференции в Сан-Диего ее председатель, археолог Эндрю Мур, заявив, что «преувеличенные заявления, связывающие затопление Черного моря и Ноев потоп, не нашли поддержки в исторических и культурных фактах». Но энтузиасты не согласились с. этим приговором. По их мнению, проблема потопа по-прежнему остается актуальной. >ГЛАВА 6 ЕЩЕ ОДНА АТЛАНТИДА Актуальной, судя по всему, остается и загадка знаменитой Атлантиды. С тех пор как более 25 веков назад великий Платон в своем диалоге «Тимей» рассказал о затонувшей стране Атлантиде, поиски местонахождения этой легендарной страны никогда не прекращались. Хотя многие ученые считали рассказ Платона попросту отголоском древних мифов, энтузиасты продолжали (и, как мы сейчас увидим, продолжают) выдвигать различные догадки о том, где могла находиться затонувшая держава атлантов. Атлантиду помещали вблизи острова Куба, у побережья Великобритании, на месте нынешних Азорских островов и т. п. Впрочем, сам Платон указал это место вполне однозначно: «Остров, находившийся впереди Геркулесовых Столбов», если пользоваться терминологией Платона (сегодня они называются Гибралтарскими) т. е. западней нынешнего Гибралтарского пролива, в Атлантическом океане. Но так как одновременно он утверждал, что остров этот был «больше Ливии и Азии, вместе взятых, и с него можно было перейти к другим островам и по ним проделать весь путь к противоположному континенту, а с них перебраться», то речь могла идти лишь об обширном архипелаге или даже целом континенте. Однако никакие глубоководные поиски в восточной части Атлантики не показали там наличия архипелага или затонувшего материка. И хотя Атлантиду так и не находили, она постепенно стала для многих своего рода исчезнувшей утопией — страной высочайшей культуры и цивилизации, которой кое-кто приписывал все культурные и технические достижения древнего человечества. В подтверждение ее существования привлекались различные аргументы — от смутных указаний древних источников до общности определенных скал, растений и животных по обе стороны Атлантического океана. Что касается этой общности, то сегодня после утверждения в науке теории дрейфа континентов уже ясно, что общность геологического и животно-растительного мира двух отдаленных материков может объясняться просто тем, что в давние времена Северная Америка и Евразия составляли единый сухопутный массив. Однако в последнее время в качестве доказательства реальности Атлантиды были выдвинуты новые аргументы. Французский историк Жак Коллина-Жерар обратил внимание на тот факт, что, согласно некоторым археологическим данным, во время последнего ледникового периода, около 19 тысяч лет назад, имела место значительная миграция населения тогдашней Европы в Северную Африку — часть древних людей бежала на юг от наступающих на Европу ледников. Такая заметная миграция, по мнению Коллина-Жерара, могла происходить лишь в том случае, если между Европой и Северной Африкой в те времена существовал сухопутный мост, расположенный либо в Средиземном море, либо в прилегающем к нему районе Атлантики, то есть впереди Геркулесовых Столбов, если пользоваться терминологией Платона. Таким мостом могла быть как раз Платонова Атлантида. Эти соображения побудили ученого заняться новыми поисками, и на сей раз эти поиски как будто увенчались неожиданным успехом — вблизи Гибралтарского пролива Коллина-Жерар обнаружил место, подозрительно напоминающее искомую и доселе ускользавшую от внимания всех других исследователей «Атлантиду». Увы, не совсем такую, как описывал Платон, но все же… Место это — находящийся в самой близкой к Гибралтару части Атлантики грязевой остров Спартель, лежащий на глубине около 100 метров ниже уровня моря. К поискам именно в этой точке профессора Коллина-Жерара привели не только литературные источники, но и строго научные рассуждения. Он использовал геологические данные о наиболее вероятной скорости подъема воды в Атлантическом океане после таяния последних европейских ледников, наступившего 11 тысяч лет тому назад. Правда, оказалось, что эта скорость составляла всего два метра в столетие, так что погружение Атлантиды, если она находилась именно здесь, должно было растянуться на столетия, а не произойти в одночасье, в один день, как описывает Платон. Но зато совпадает другое важное обстоятельство. Платон, живший почти две с половиной тысячи лет назад, в рассказе о гибели Атлантиды указывает, что он говорит о событии, которое произошло за 9 тысяч лет до него. Это означает, что Платонова Атлантида затонула примерно 11 тысяч лет назад. А это как раз то время, когда начали подниматься атлантические воды, отмечает Коллина-Жерар. К профессору Коллина-Жерару с энтузиазмом примкнули известные искатели «Титаника» Джордж Тулок и Поль-Анри Наржело. Они встретились с ним на археологической конференции, где профессор делал доклад о своей гипотезе, и были ею впечатлены. Незадолго до этого их подводная экспедиция к этому затонувшему кораблю, не менее легендарному, чем Атлантида, увенчалась триумфальным успехом — были найдены и подняты со дна многочисленные останки, переданные затем в специальный музей. И теперь, услышав о (вероятном) обнаружении Атлантиды, они сочли ее поиск таким же перспективным и стоящим делом, как поиск «Титаника», и предложили Коллина-Жерару свои услуги и свой двухместный батискаф. «Я слушал его на конференции, — рассказывает Наржело, — и, по-моему, я был его единственным слушателем. Но я тогда же подумал: «Это стоящая штука!» Ребенком я много читал об Атлантиде и, разумеется, был увлечен прочитанным, а то, что рассказывал Жак, открывало совершенно новый взгляд на вещи. Район, который он описывал, выглядел точно так, как его описывал Платон, — прямо за Геркулесовыми Столбами. Как только я это увидел, я подумал: «Это оно, Господи!» Я не мог поверить, что никто до сих пор не пришел к тому же выводу». В настоящее время остров Спартель представляет собой грязевую отмель длиной около 8 км и шириной 3,5 км, лежащую в Атлантике примерно в 100 км к западу от Гибралтара, и, как уже сказано, его максимальная глубина составляет около 100 метров ниже уровня океана. Исследователи намереваются в скором будущем произвести там двухнедельную разведку, главная цель которой — выявление каких-то следов древней жизни на острове. «Мы уже обнаружили место, которое могло быть гаванью острова; — утверждает Наржело, — и если это подтвердится, то там же должен был быть и населенный пункт, а может, и центр тамошней цивилизации». Он признает, что в истинной Атлантиде вряд ли существовали величественные храмы и дворцы — ведь речь идет о культуре раннего каменного века, — но собирается искать с помощью подводной фотосъемки пещеры и другие места, где могли бы жить древние люди 11 тысяч лет назад. «Если мы найдем их, то вернемся на более длительный срок для более подробного исследования». Деньги, необходимые для такой разведывательной экспедиции — порядка 250–500 тысяч долларов, — Наржело намерен собрать из частных пожертвований и научных грантов. Что ж, остается пожелать удачи этим искателям очередной Атлантиды. Их успех может принести много интересных сведений для науки. Если же они не обнаружат свою Атлантиду, нам тоже нечего беспокоиться — обязательно объявится следующая. >ГЛАВА 7 ТАК ВСЕ ЖЕ — КОЛОМБО ИЛИ КОЛОННО? Проплывем над (возможной) грязевой Атлантидой и направимся дальше, по пути Колумба. На этом пути тоже много занимательных загадок, и главная из них, конечно, связана с самим Колумбом. На протяжении столетий, прошедших с его смерти (в 1506 году в испанском городе Вальядолиде), сложилась и утвердилась легенда, будто этот великий мореплаватель и первооткрыватель Америки родился в итальянском городе Генуя, в ту пору — независимой и богатой морской державе, обладавшей многочисленными колониями в Средиземном море и спорившей за гегемонию в этом ареале с Венецианской республикой. Генуя охотно эксплуатировала эту легенду, щедро воздавая хвалу своему великому сыну и поминая его везде, где только возможно — от памятника в морской гавани до названия своего главного аэропорта. Туристам показывали увитый плющом «домик Колумба» в пригороде Порта Сопрана, где якобы прошло Колумбово детство, и рассказывали трогательные истории: о том, как он пристрастился к плаваниям, глядя на корабли, возвращавшиеся из дальних плаваний в генуэзскую гавань; как в возрасте 21 года впервые сам отправился в море; как три года спустя участвовал в морском сражении при мысе Сан-Винцент; как был ранен и спасся вплавь, держась за обломок бревна с утонувшего судна, и как чудесным образом был вынесен на побережье Португалии. Существовала, правда, небольшая деталь, которая слегка нарушала стройность и убедительность этого рассказа: в документах тогдашней Генуи практически отсутствовали какие бы то ни было упоминания о семействе «Коломбо» (как, согласно генуэзской легенде, назывался Колумб в Италии), не говоря уже о самом «Кристофоро Коломбо» (как, по той же легенде, должен был именоваться Колумб). Некоторых исследователей это наводило на малопочтительные (по отношению к легенде) предположения, вплоть до того, будто «Христофор Колумб был на самом деле Христофор Коломб, генуэзский еврей», как писал в эпиграфе к своему известному стихотворению Владимир Маяковский. Отсюда было рукой подать до совершенно уж непочтительных гипотез новейших русских авторов, которые вообще отрицают, будто Колумб куда-то плавал и что-то открыл (А. Бушков: «Россия, которой не было», стр. 36–44). Легко понять, до какой степени эти домыслы и предположения оскорбляли слух и вкус исследователей — уроженцев Иберийского полуострова, ревнивая национальная гордость которых уступает разве что их же титаническому национальному самоуважению. Здесь, в Иберии, давно уже считали, что Колумб всецело принадлежит Испании или, на худой конец, Испании и Португалии, месте взятым, что и составляет упомянутый полуостров. Считали, но доказать не могли. И вот сенсация. Профессор Альфонсо Энсенат де Вильялонга из департамента американских исследований в университете города Вальядолида (того самого, где умер наш герой) выступил в газетах с утверждением, что его многолетние исследования неопровержимо свидетельствуют, что Колумб был фактически испанцем. Историки ошиблись в отождествлении генуэзской семьи, к которой он якобы принадлежал. Он родился не в 1451-м, как всегда считали, а в 1446 году. И его семья эмигрировала из Генуи на Иберийский полуостров вскоре после этого, так что называть его итальянцем просто смешно. Он говорил только по-кастильски и по-португальски, а не по-итальянски, и никогда не возвращался в Италию. А как же корабли в генуэзской гавани, средиземноморские плавания, связи с пиратами, служба при дворе герцога Рене, сражение при мысе Сан-Винцент, ранение, чудесное спасение? А никак, говорит профессор Вильялонга. Всего этого просто не было. А если и было, то относилось к другому человеку — какому-то «Коломбо». А наш — испанский великий мореплаватель — должен по справедливости именоваться «Христофор Колон» — и в этом-то вся загвоздка! Как говорится, «Что в имени тебе моем?» А все в нем! И мы сейчас это увидим. Профессор Вильялонга, который последние 10 лет своей 71-летней жизни затратил на изучение ранней биографии Колумба, утверждает, что все прежние исследователи ошибались в своем предположении, будто Колумб родился Христофором Коломбо и только в Испании превратился в Кристобаля Колона. Коломбо, говорит профессор, не мог превратиться в Колона — для этого он должен был звучать по-итальянски Колонно или даже просто Колон. Не случайно многовековые поиски генуэзских документов, проливающих свет на детство и юность «Христофора Коломба», оказались безрезультатны. Нужно было искать документы о семье «Колонно» или что-то в этом роде. И действительно, стоило профессору заняться такими поисками, как он тут же-обнаружил, что в архивах Генуи, Мадрида и Барселоны сохранилось нетривиальное число документов о богатой генуэзской купеческой семье Колонне, проживавшей в Генуе XV века и имевшей тесные связи с правительством Генуэзской республики. Обнаружился также и документ о том, что некий разорившийся купец Доменико Скотто попросился под покровительство рода Колонне и в благодарность за оказанную ему милость изменил свою фамилию на Доменико Колонне. У этого-то Доменико был, как показывают другие документы, сын Христофоро, 1446 года рождения, вместе с которым Доменико и его жена Мария Спинола эмигрировали в 1451 году в Лиссабон, надеясь поправить свои дела в Португалии. Здесь Кристобаль Колон, как стали называть 5-летнего мальчика, был отправлен для изучения латыни в училище португальского (а не итальянского, как ошибочно считалось до сих пор) города Павия, а затем — в мореходную школу, некогда основанную португальским принцем Генрихом Мореплавателем. Свое образование он завершил кратким пребыванием во францисканском монастыре в религиозном португальском центре Эвора (чем, возможно, и объясняется то, почему на свою первую встречу с королевой Изабеллой и королем Фердинандом он явился в рясе францисканского монаха). Свои изыскания профессор Вильялонга изложил в подготовленной к печати книге «Жизнеописание Христофоро Колонне», которая должна, по его мнению, положить конец всем прежним легендам, развеять вековые предрассудки и вернуть Колонне-Колона в испано-португальское лоно. Что же до того, почему великого мореплавателя так долго называли Колумбом, то профессор Вильялонга объясняет, что в некоторых документах имя «Колон» было ошибочно записано как весьма созвучное «Колом», откуда уже было недалеко и до «Колумба». Можно думать, что следующим шагом испанских историков будет требование именовать первооткрывателя Америки только «Колоном» — и никаких «Колумбов». Не исключено, что некоторые пылкие головы потребуют и государство Колумбию переименовать в «Колонию»… Что же до нас, то мы позволим себе остаться при мнении, что историческая истина, конечно, важна, но не до такой же степени, как историческое деяние. Назовите хоть горшком, только в печку не сажайте. И не преувеличивайте значение родословных. Допустим, не был Христофор Колумб ни Христофором Коломбом, ни генуэзским евреем, ни даже итальянцем Христофоро Коломбо — ну так что? Америку все-таки открыл он, а не мы с вами… >ГЛАВА 8 ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ КИТАЙЦЫ Если вы думаете, что открытие профессора Вильялонга исчерпало все загадки, связанные с Колумбом, то глубоко заблуждаетесь. Как мы предупреждали выше, на колумбовом пути есть много проблем. К примеру, в осведомленных кругах давно уже поговаривают, что Америку вообще открыли задолго до Колумба. Одни грешат на исландских викингов, другие на островитян Тихого океана, этих «мореплавателей солнечного восхода», как красиво назвал их некогда некий писатель, третьи — на неведомых уроженцев Древней Африки. Кто бы это ни был, все они уходили на своих парусных кораблях, катамаранах или выдолбленных из бревна лодках в тысячекилометровые плавания и порой, гонимые ветрами и течениями, оказывались совсем не там, куда плыли. Все эти доколумбовы гипотезы одинаковы тем, что их авторы никаких достоверных доказательств представить не могут, так — одни лишь скудные исторические намеки да блеклые следы. Но чем меньше у них доказательств, тем больше свобода и полет их фантазий и тем более они волнуют и разжигают наше воображение. Да и вообще, разве рассказы о неведомых плаваниях неведомых корабелов в поисках неведомых земель в неведомые времена — не один из самых увлекательных жанров историко-географической беллетристики? У меня самого была когда-то замечательная книга, посвященная всем этим гипотетическим плаваниям, книга, которую я регулярно перечитывал, — она называлась «Неведомые земли», автор Хеннинг, четыре объемистых тома в сине-красном твердом переплете, — но я однажды, дурак, этаким широким жестом подарил все эти тома случайному гостю-коллекционеру с радиостанции «Свобода». Он так долго и нудно у меня их выпрашивал за деньги, что я не смог устоять от соблазна шикануть, о чем теперь мучительно жалею. Тем более что гость этот впоследствии оказался советским шпионом на «Свободе» — в прямом и переносном смысле. Недавно в этом замечательном жанре «историй мореплаваний» появилась очередная гипотеза. Автор ее — британский моряк, бывший командир подводной лодки, а также эксперт по навигации Гэйвен Мензис. Свои изыскания он проводил много лет и вот некоторое время назад доложил наконец о результатах этих исследований на очередном заседании Королевского географического общества Великобритании. Сам факт, что его заслушали в столь уважаемом и авторитетном кругу, включавшем ученых-географов и историков, специалистов по картографии, морских офицеров и дипломатов, свидетельствует, что к гипотезе Мензиса и нам стоит отнестись, по крайней мере, с благожелательным вниманием. Чем мы хуже дипломатов? Тем более что гипотеза и впрямь весьма любопытна. Подобно многим другим выступавшим на этом поле до него, Мензис говорит, что все началось со случайного обнаружения им такого факта: уже в 1428 году в распоряжении португальцев имелась карта, на которой (обратите внимание — за 70 лет до Колумба!) были показаны Африка, Австралия, Америка и множество островов — и все это в поразительно точных деталях. Например, на карте явственно виднелись мысы Доброй Надежды (оконечность Африканского материка) и Горна (оконечность Южной Америки), хотя, как известно, португальцы не проплывали там вплоть до конца XV века. По утверждению Мензиса, именно эта карта, попав каким-то образом в Венецию, а из Венеции, в 1428 году, в Португалию, стала предшественницей нескольких аналогичных ей карт, получивших хождение в Европе в конце XV — начале XVI века. На основании 14-летнего изучения вопроса Мензис утверждает, что первые европейские мореплаватели, включая Колумба и Магеллана, имели в своем распоряжении такие карты. По мнению Мензиса — и тут начинается самая интересная и оригинальная часть его гипотезы, — загадочную карту привез в Венецию богатый купец и путешественник, некий Николо де Конти, только что вернувшийся тогда в родной город из Китая. А в Китае, продолжает Мензис, де Конти, видимо, был знаком (не исключено, что в силу личного участия) с географическими открытиями, сделанными во время недавно закончившегося плавания адмирала Чэнг Хе. Дальше следует рассказ. В начале XV века, напоминает Мензис, Китай был крупной морской державой и располагал большим флотом. Командовал этим флотом ближайший доверенный человек императора, его евнух Чэнг Хе. Адмиралу было поручено двинуться во главе могучей эскадры из 100 с лишним судов в плавание на запад! чтобы проложить новые торговые (а возможно, и завоевательные) пути по Индийскому океану, омывающему земли Южного Китая. Корабли Чэнг Хе достигли восточных берегов Африки, говорит Мензис, но не вернулись на родину, а поплыли дальше, обогнули мыс Доброй Надежды и двинулись на запад через весь Атлантический океан. Они добрались до Карибских островов, которые Колумб открыл лишь 70 лет спустя, спустились оттуда вдоль берегов Южной Америки, обогнули мыс Горн, поднялись снова на север, вошли в нынешний Калифорнийский залив, оттуда опять спустились на юг и повернули на запад, в результате чего наткнулись на Австралию, открыв ее чуть ли не за 200 лет до европейцев, и лишь оттуда наконец двинулись на родину, обогнув тем самым весь земной шар почти за 100 лет до Магеллана. Это во всех отношениях выдающееся плавание состоялось, по расчетам Мензиса, с марта 1421 по октябрь 1423 года. В доказательство правильности проложенного им гипотетического маршрута экспедиции Чэнг Хе Мензис указывает на упомянутые выше особенности карт (очертания Южной Африки, Австралии и Калифорнийского залива, мысов Доброй Надежды и Горна, правильные определения широты и долготы этих пунктов земного шара), а также на остатки огромных старинных деревянных кораблей, найденные на берегах некоторых островов Карибского моря и в Австралии, й некоторые китайские предметы того времени, обнаруживаемые в весьма удаленных местах Америки и Африки. Он выражает предположение, что китайские навигаторы определяли свое положение в море, а также широту и долготу посещаемых ими мест как с помощью Полярной звезды (когда их путь проходил в Северном полушарии), так и руководствуясь звездой южного ночного неба — Канопусом. К этому выводу он пришел, реконструировав на своем домащнем компьютере возможную систему небесной навигации, которую могли применять китайские мореплаватели начала XV века. Судя по отчетам газет, сенсационное сообщение Мензиса (подкрепленное семнадцатью страницами документальных доказательств и обещанием привести все остальные доказательства в готовящейся к публикации книге) было встречено со смешанными чувствами. Историческая его часть не нашла оппонентов, географическая и собственно «корабельная» стороны тоже были признаны вполне правдоподобными. Больше всего сомнений вызвали его рассуждения о «секретных» китайских картах, якобы имевшихся у Колумба и Магеллана, а также сообщения о найденных им остатках девяти китайских судов на карибских берегах. Тамошние берега так хорошо обследованы, заявили некоторые оппоненты, что такие остатки были бы наверняка замечены много раньше. Но более всего против гипотезы Мензиса говорил тот факт, что ни одна современная история картографии не упоминает о том, будто Чэнг Хе посещал какие-либо иные земли, кроме берегов Восточной Африки. Стоит, однако, сказать, что, невзирая на эти скептические замечания, издатели, присутствовавшие на заседании, сразу же по окончании прений заторопились в зал, где был назначен аукцион на покупку прав для издания книги Мензиса. Их можно понять — мы ведь тоже живем сейчас в век великих географических открытий, не менее великих, чем во времена Колумба и Магеллана: то кто-то откроет местоположение Рая, то другой, прямо с самолета — остатки Ноева ковчега, то третий — гору Синай в Аравийской пустыне — и жадное до сенсаций человечество хочет обо всем этом узнать — и поскорее, чтобы потолковать на очередной «тусовке». И правильно. Ведь этого даже у Хеннинга не узнаешь… >ГЛАВА 9 ЗАГАДКИ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ Не только Королевское географическое общество интересуется всякими загадками прошлого (см. предыдущий рассказ) — Королевское астрономическое общество, оказывается, тоже их не чурается. Иллюстрацией этого является нижеследующая история, связанная не просто с какой-нибудь обычной загадкой прошлого, а с тайной самой Вифлеемской звезды. Евангелии, рассказывающие о жизни Иисуса Христа, утверждают, что его рождение сопровождалось появлением над Вифлеемом (тогдашним и нынешним Бейт-Лехемом) чудесной звезды. Вот как описывает это событие апостол Матфей: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться Ему… Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и, когда найдете, известите меня… Они, выслушав царя, пошли: и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец». Люди, убежденные в правдивости каждого слова Боговдохновенных книг, вроде Евангелий, разумеется, не нуждаются ни в каких объяснениях этого необычного феномена, поскольку знают, что в мире нет ничего необычного или «чудесного», ибо все в нем — одни только деяния Всевышнего — и ничего больше. Люди, совершенно не верящие во Всевышнего, не верят также в Боговдохновенность каких бы то ни было книг, и поэтому для них загадка Вифлеемской звезды — тоже не загадка, а просто «очередная выдумка мракобесов». Трудность возникает для тех, кто посредине и хотел бы согласовать каждое слово этих книг с представлениями современной науки, или, иначе говоря, дать этим словам некое «научное объяснение». Самую внушительную попытку такого рода предпринял не так давно сэр Патрик Мур, бывший британский королевский астроном, опубликовавший в сентябре 2001 года книгу «Вифлеемская звезда». В ней он последовательно проанализировал все возможные небесные явления, которые могли бы лежать в основании «мифа о Вифлеемской звезде»: вспышка сверхновой, совмещение нескольких планет, прохождение кометы и т. п. — и пришел к оригинальному заключению, что наиболее удачно удовлетворяет всем описанным в Евангелии обстоятельствам явление «падающих звезд», то есть потока метеоров, представляющихся земному наблюдателю вылетающими из одной точки неба, из одного созвездия. Еще до выхода в свет книги сэра Мура та же проблема была рассмотрена в двух других сочинениях. Британский астрофизик Марк Киджер опубликовал книгу «С точки зрения астронома» (1999), в которой предлагал свое объяснение Вифлеемской звезды как редкого сочетания двух явлений — вспышки сверхновой звезды и необычного совмещения планет. Киджер нашел такой момент в древней истории, когда два этих события произошли почти в одно и то же время. В 5-м году до н. э. на небосводе появилась вспыхнувшая новая звезда, а в 6-м и 7-м годах происходили неординарные совмещения нескольких планет. По убеждению Киджера, появление новой звезды сразу вслед за этими необычными совмещениями планет вполне могло показаться древним людям явным предзнаменованием чего-то незаурядного. Тем, кого насторожит кажущееся несовпадение дат, напомним, что, согласно современным представлениям, Христос родился не в нулевом году той эры, которую христиане называют его именем и отсчитывают со дня его рождения. В результате нескольких ошибок в календарных расчетах средневековых христианских богословов нулевой момент нынешнего календаря несколько сместился. Действительная дата рождения Христа приходится на 4-й или даже на 5-й год «до рождества Христова», так что в этом отношении гипотеза Киджера вполне совпадает с историей. Труднее представить себе, чтобы древние волхвы не бросились в Вифлеем уже по первому зову — совмещению планет — и ждали бы целый год, а то и два до появления новой звезды на небосводе. И вот не так давно в «Ежеквартальнике Королевского астрономического общества» (вот оно, это общество!) — в 36-м его томе, на 109-й странице — появляется вдруг статья американского астронома Майкла Мольнара, в которой утверждается, что хотя гипотеза Киджера абсолютно неверна, поскольку никакая новая звезда в то время на небосводе не появлялась, но Вифлеемская звезда все-таки существовала, причем именно в нужное время и в нужном месте. Только она была не совсем звезда, не совсем тогда, а главное — не совсем видима. Точнее — совсем невидима. Тем не менее нечто незаурядное — по крайней мере, с точки зрения тогдашних астрологов (они же — тогдашние астрономы), — несомненно, происходило. И вот это «невидимое» вполне могло породить рассказ о пресловутой «звезде». В таком описании гипотеза Мольнара выглядит, как попытка одной загадкой объяснить другую. На самом деле, однако, никакой новой загадки тут нет. Мольнар попросту произвел расчет движения видимых небесных тел с 10-го по 1-й годы до новой эры и показал, что во второй половине этого промежутка, а именно в марте — апреле 6 года, произошли два астрономических события, которые не могли не взволновать тогдашних астрологов, в просторечии — «волхвов» (то есть мудрецов). Этими событиями были два подряд затмения Юпитера Луной, причем оба раза в одном и том же месте — в юго-западной части неба, в созвездии Овна. Чтобы понять, почему это могло взволновать астрологов-волхвов, нужно иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, астрология, зародившаяся в Древней Вавилонии и распространившаяся оттуда по всей эллинистической, а позднее — Римской империи, была к тому времени весьма развитой областью знания, и тогдашние астрологи умели рассчитывать движения планет с точностью, которая поражает современных астрономов. Во-вторых, их расчеты всегда имели прикладное значение: они лежали в основе предсказаний, к которым и рядовые люди, и венценосные особы вроде римских императоров относились с глубоким уважением и полным доверием. Поскольку планеты, звезды и созвездия связывались с судьбами отдельных людей и даже целых стран, любые незаурядные астрономические события вроде затмений тотчас объявлялись предзнаменованиями или отражениями незаурядных, житейских и политических событий. Подтверждение последнего тезиса приносят не только сочинения древних авторов, но такие неожиданные, казалось бы, источники, как монеты. Римляне традиционно чеканили на монетах некие символы, отражающие те или иные важные события, и эти символы, как правило, были астрологическими. Например, во времена императора Нерона была выпущена монета с изображением барана (знак созвездия Овна), оглядывающегося на полумесяц и звезду. Это должно было напоминать о затмении Луной Венеры, произошедшем 25 апреля 51 года. Римский историк Светоний сохранил для нас предсказание тогдашних астрологов, которые связали это затмение с судьбой Нерона: они предсказали, что он будет свергнут в Риме, но воцарится вновь в Иерусалиме, потому что созвездие Овна считалось тогда астрологическим символом Иудеи (об этом говорится в сочинении александрийского астролога Клавдия Птолемея «Тетрабиблос» («Четверокнижие»): «Если что-нибудь важное должно произойти в Иудее, то знак этому должен появиться в созвездии Овна»). Мольнар, давний любитель древних монет, хорошо знал всю эту символику, и когда, рассматривая монеты 7 года новой эры, найденные в Антиохии (столице римской провинции Сирия), увидел на каждой из них изображение бога Юпитера, а на оборотной стороне — изображение овна, взирающего на звезду, то сразу же понял, что эти монеты должны были быть отчеканены в честь какого-то астрономического и политического события, связанного с Иудеей. Поскольку Юпитер считался у римлян символом императорской власти, событие, видимо, было связано с каким-то очередным достижением императорской политики. Перелистав исторические труды, он нашел, что в 6 году новой эры римляне сместили Иродова сына и наследника Архелая и присоединили Иудею к провинции Сирия. Монеты же, найденные в сирийской столице, датировались следующим годом, и, исследуя движение планет за этот год, Мольнар обнаружил, что в 7 году новой эры Юпитер сначала виднелся вблизи Меркурия, а затем почти рядом с Луной. Видимо, эти сближения и были сочтены небесными знамениями, свидетельствующими о том, что боги одобряют действия римлян в отношении Иудеи. В честь такого совпадения явно стоило отчеканить специальные монеты. Что же касается собственно «Вифлеемской звезды», то догадка о природе этого явления родилась у Мольнара из случайной находки. Он купил старинную римскую монету, относящуюся к 6-му году до н. э., на которой опять увидел изображение барана («овна»), глядящего, обернувшись через плечо, на звезду. Поскольку знак Овна в зодиаке покрывает период с 21 марта по 20 апреля и поскольку вблизи Луны в 6-м году до н. э. находился Юпитер, Мольнар, будучи астрономом, подумал, что стоило посмотреть, что было с Юпитером и Луной в марте — апреле того года. А посмотрев (т. е. рассчитав движение этих светил вспять), обнаружил, что как раз в те дни, 20 марта и повторно 17 апреля 6-го года до н. э. Юпитер претерпел — редкое совпадение! — два лунных затмения подряд — и притом именно тогда, когда был «на востоке», то есть в восточной части неба. Теперь мы уже можем понять ход дальнейших рассуждений американского астронома. Юпитер, как мы уже видели на примере Нерона, был, по представлениям астрологов, связан с судьбами императоров; не случайно римский астролог Фигулус, увидев знак Юпитера в гороскопе будущего императора Августа, предсказал сенату: «Ныне родился вождь мира». В Иудее же издревле существовало другое пророчество, процитированное апостолом Матфеем как раз в приведенном вначале отрывке о Вифлеемской звезде: «Ибо написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля». Всякий грамотный астролог, увидев такое совпадение, должен был немедленно понять, что у евреев родился (или должен вот-вот родиться) кто-то, кто затмит императоров и царей. Астрологов же в древнем мире хватало. И вера в астрологию была распространена невероятно. Как и сегодня, кстати. Но в наши дни эту веру труднее понять. Ведь людям сегодня прекрасно известно, что планет куда больше, чем думали создатели астрологических расчетов (уже после них были открыты Уран, Нептун и Плутон), так что уже хотя бы поэтому такие расчеты выглядят весьма сомнительно. Впрочем, кому хочется верить, тем ничто не помеха. А во времена, о которых идет речь, были — известны пять планет (не считая Земли), которые вместе с Солнцем и Луной образовывали «семь небес» и своим положением относительно «неподвижных» звезд давали астрологам указания на предстоящие события. Порой даже весьма детальные указания, как, например, то, которое приводит великий астроном древности Птолемей: «Если Венера совместится с Марсом и Юпитер будет виден в то же время, а Марс появится в лучах Солнца, то женщины начнут совокупляться со слугами и вообще всяким низкородным сбродом и даже с чужестранцами и бродягами». Так что уж на рождение «иудейского царя» астрологические книги наверняка могли указать. И потому «Волхвы», т. е. тогдашние мудрецы-астрологи, полагает Мольнар, могли истолковать эти незаурядные астрономические события в свойственном им духе. Вычислив предстоящее затмение Юпитера в созвездии Овна, они могли прийти к выводу, что и оно знаменует собой «рождение Вождя», только среди евреев, — того самого «вождя-спасителя», предсказанного еврейскими пророками. Взволнованные столь выдающимся событием, они явились ко двору Ирода, чтобы выяснить, где именно, по еврейскому пророчеству, оно должно произойти. Узнав, что в Вифлееме, они должны были еще больше взволноваться: ведь Вифлеем находится к юго-западу от Иерусалима, то есть как раз в той стороне, где происходили оба юпитерианских затмения. Судя по тому, что второе из этих затмений произошло, согласно Евангелию, как раз в тот момент, когда волхвы от Ирода направились в Вифлеем, их визит в царский дворец имел место именно 17 апреля 6 года до новой эры: говорит же Матфей, что «звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними». На самом деле, утверждает Мольнар, эта «звезда», то есть Юпитер, как раз и не была видна, но волхвы шли так уверенно, будто она их и в самом деле «вела», — ведь они ее «вычислили». А Матфей, не знавший тайн астрологии, конечно, не мог и помыслить, что волхвы шли согласно своим расчетам, и в простоте душевной записал, что их вела чудесная Вифлеемская звезда. Из гипотезы Мольнара вытекает чрезвычайно важное следствие: если Иисус действительно существовал, то родиться он должен был не в 1 году новой эры, названной его именем, а в день затмения Юпитера, то есть 17 апреля 6 года ДО новой эры (дату 20 марта Мольнар отверг, т. к. она чуть-чуть выходила за границы периода созвездия Овна). И этот свой вывод Мольнар подтверждает еще одним дополнительным совпадением: Ирод умер в 4 году до новой эры и незадолго до смерти приказал перебить «всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от ДВУХ лет и ниже, по времени, которое он выведал у волхвов». Почему «от двух лет», а не старше? Потому что «по времени, которое он выведал у волхвов» (то есть по времени вычисленного ими первого затмения Юпитера), Иисусу в 4-м году до новой эры как раз и должно было быть чуть меньше двух лет — но лишь в том случае, если он родился в 6-м году до н. э. Как говорилось выше, историки давно подозревали, что Иисус, если он существовал, родился раньше исчисленной Церковью даты, и вот сейчас Мольнар нашел дополнительное и независимое подтверждение правоты их сомнений. Все это, разумеется, не доказывает реальности существования Иисуса. Ведь, в сущности, Мольнар всего лишь показал, что в 6 году до новой эры произошли два астрономических события, которые МОГЛИ дать составителям Евангелий повод для создания рассказа о Вифлеемской звезде (которую на самом деле никто не видел, потому что попросту не мог увидеть). Но никаких доказательств связи этих астрономических событий с рождением «реального» Христа Мольнар привести не может. Более того, из его же рассуждений следует, что дело скорее всего обстояло с точностью до наоборот: сначала произошли указанные астрономические события а уже затем эти события в общем духе тогдашней астрологической символики и веры в фантастические «пророчества» были привязаны к рассказу о «рождении Спасителя». Так что достоверность этого главного евангелического рассказа по-прежнему остается под сомнением. Но Мольнар и не ставил своей задачей анализ достоверности евангелий. Он попросту хотел предложить вниманию ученых новую гипотезу, объясняющую миф о Вифлеемской звезде. И с этой задачей, следует признать, он справился весьма успешно. На этом, однако, эта занимательная история не закончилась. Гипотеза Мольнара подверглась критике. Сэр Патрик Мур указал, что затмение Луной Юпитера 17 апреля 6-го года до н. э. происходило средь бела дня и не могло быть увидено никем, даже волхвами. А специалисты по истории астрологии усомнились в том, что «волхвы» могли истолковать невидимое затмение как указание на «рождение царя». Мольнар, разумеется, не сдался, стал искать, как бы опровергнуть возражения критиков, и вот недавно объявил, что ему удалось наконец «решающее» подтверждение выдвинутой им гипотезы. По его словам, это подтверждение содержится в книге астролога Матернуса, написанной в 334 году н. э. По словам Мольнара, ему удалось разыскать творение Матернуса «Матесис», в котором черным по белому описано астрологическое явление, включающее затмение Юпитера Луной, и сказано, что это предвещает рождение великого царя. Правда, царь этот не назван по имени, хотя автор — христианин и книга написана спустя три столетия после рождения Иисуса, но, как говорит Мольнар, «в те времена все читатели книги прекрасно понимали, что это замечание относится именно к Иисусу, а указанное астрологическое событие — это знаменитая Вифлеемская звезда». Матернус, по мнению Мольнара, просто не хотел вовлекать христиан в астрологические дебаты, которые только смутили бы их умы и отвлекли от мыслей о самом Иисусе. И вполне возможно, что Мольнар в этом прав. Во всяком случае, одного человека ему уже удалось убедить — Овен (!) Гингрич, историк астрономии из Гарвардского университета, заявил, что гипотеза Мольнара кажется теперь «очень серьезной». Но вот переменил ли свое мнение сэр Патрик Мур, нам пока неизвестно. >ГЛАВА 10 ЕЩЕ ОДНА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ История, которую я намереваюсь рассказать, тоже связана с Евангелиями, но произошла сравнительно давно, в декабре 1993 года, в Иерусалиме. В научных кругах она тогда произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Сегодня, во времена поголовного увлечения «Кодом да Винчи», она звучит особенно актуально, показывая, что Ничего нового Браун не написал, он лишь добросовестно переписал то, что давно было известно, только слегка разбавил это детективной интригой — надо сказать, весьма примитивной. Итак, некий археолог по имени Леон Декур несколько месяцев вел бесплодные раскопки в одном из старинных уголков древней еврейской столицы. В тот декабрьский вечер 1993 года стояла обычная для израильской зимы пасмурная и пронизывающе холодная погода, и Декур отправил рабочих домой пораньше. Сам же он решил еще немного поковыряться в раскопе. Рассеянно разгребая груду земли в углу глубокой ямы, он вдруг заметил, что в пыли блеснуло что-то металлическое. Руки его заработали энергичнее и осмысленнее, бережно расчищая находку, и вот он уже увидел ее целиком. Можно представить себе его восторг: его глазам открылась старинная медная чаша с остатками какого-то темного вещества. В тусклом вечернем свете Декур не мог разобрать, что это за вещество и к какому времени относится чаша. Какое-то время он задумчиво смотрел на нее, и вдруг его пронзила ослепительная догадка. Нет, он не воскликнул, как когда-то Архимед: «Эврика!» Но он воскликнул нечто, не менее знаменитое: «Грааль!» И в этом месте я вынужден остановиться. Даже в наши времена поголовного увлечения романами Брауна далеко не все знают, что такое Грааль, и потому не все могут в полной мере оценить восклицание Декура. Слово «Грааль», или «святой Грааль», произошло от латинского «gradalis», которое, в свою очередь, восходит к древнегреческому «кратер» — сосуд для смешивания вина с водой. Но в старофранцузском сочетание «Святой Грааль» — «Сангреаль» — имеет еще и иной смысл: «истинная кровь». А древнеирландское cryo, из которого тоже выводят слово «Грааль», означает «корзину изобилия». Итак, «Грааль» — это сосуд для вина и одновременно — чаша со святой кровью, да еще и корзина изобилия. Почему у этого слова так много смыслов? А потому, что это непростое слово. Оно связано со старинной христианской легендой, даже с несколькими сразу. Согласно рассказам о жизни и смерти Иисуса Христа, составляющим содержание т. н. Евангелий (по-гречески — «Благая весть»), свой последний вечер перед арестом, судом и казнью Иисус провел в Гефсиманском саду, где вместе с учениками (апостолами) отмечал великий еврейский праздник Песах (христианской Пасхи тогда еще не было, поскольку Иисус был еще жив и до появления христианства было еще далеко). Евангелия утверждают, что, подняв чашу с пасхальным вином и кусочек мацы, Иисус произнес, указывая на вино: «Се кровь моя», а затем, указывая на мацу: «А се плоть моя». Закончив вечерю, он вышел в сад, где его вскоре и схватили римские легионеры. Выданный Пилатом Синедриону, Иисус был признан смутьяном и бунтовщиком и осужден на смертную казнь. В духе римских обычаев он был распят на кресте. Далее легенда утверждает, будто некто Иосиф Аримафейский снял его тело с этого креста и бережно собрал кровь Иисуса в ту самую чашу, из которой Иисус пил вино на своей «тайной вечере». Таким образом, пророчество Иисуса исполнилось: в чаше оказалась Христова кровь. А дальше, если верить легенде, было вот что. С этой святой кровью Иосиф Аримафейский отправился проповедовать христианство европейским варварам. Так чаша оказалась в Европе. Вскоре, повествует легенда, она обнаружила свои чудодейственные свойства. Чудеса сыпались из нее как из рога изобилия: слепые, прикоснувшись к чаше, становились зрячими, увечные — здоровыми, бесплодные женщины — беременными. Вся эта история и чудесные свойства чаши привели к тому, что она получила собственное имя — «Сангреаль», или попросту «Грааль» (говорят еще — чаша святого Грааля). Позже Грааль затерялся или был спрятан — в каком-то из монастырей, и это положило начало длительным поискам чаши, каковыми рыцари занимались все средние века — в свободное от крестовых походов время. История этих поисков легла в основу знаменитых средневековых романов — «Персиваль» Кретьена де Труа и «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, главным героем которых является один из рыцарей «Круглого стола» короля Артура по, имени Парсиваль (франц. Персиваль, нем. Парциваль или Парсифаль); в XIX веке еще один небезызвестный человек, по имени Рихард Вагаер, написал по мотивам этих романов оперы «Лоэнгрин» и «Парсифаль» (о сыне Парсифаля). Теперь, надеюсь, вы уже понимаете, что побудило Леона Декура издать свой восторженный возглас. Еще бы — ведь он нашел древнюю винную чашу именно в том городе, где происходила «тайная вечеря», и вдобавок неподалеку от того самого Гефсиманского сада, где она происходила! А кроме того, ко дну чаши прилипло темное вещество, которое весьма походило на засохшую человеческую кровь. Как было не предположить, что это именно та самая чаша святого Грааля, с которой связано столько легенд и столько веков бесплодных поисков?! А если это действительно так, то громадные последствия столь сенсационного открытия сразу становятся очевидны — ведь в результате в руках историков впервые в истории могло оказаться прямое доказательство реального существования Иисуса Христа! (Вопрос о том, каким образом чаша вернулась из Европы в Иерусалим, Декура почему-то не заинтересовал.) Какой-нибудь другой археолог, возможно, воздержался бы от столь скоропалительного вывода. Он бы поначалу исследовал находку, определил ее возраст и лишь потом вынес суждение. Но дело в том, что Декур давно, напряженно и страстно желал найти следы существования Иисуса. За 15 лет до этого он уже потряс однажды весь научный и околонаучный мир сообщением, будто ему удалось найти пергамент с «оригиналом» знаменитой «Нагорной проповеди» Христа — той самой, что начинается словами «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Декур действительно нашел тогда какую-то древнюю рукопись, свет в тот раз тоже был вечерний и тусклый, рукопись была в плохом состоянии, исследователь был необыкновенно возбужден находкой — ничего удивительного, что ему почудилось, будто он нашел именно то, что искал. Но в тот раз предположение Декура быстро опровергли: пергамент оказался намного моложе Иисусовых времен. И вот теперь, через 15 лет, в руках Декура оказалась загадочная чаша — как было не подумать первым делом о святом Граале? В кругах археологов Декур вообще-то считался хорошим ученым: его послужной список содержал всего лишь один случай излишней поспешности — тот самый, с «Нагорной проповедью». Поэтому его сообщение о небывалой находке было опубликовано в серьезном научном журнале. Разумеется, археологический мир отнесся к этой новой сенсации с должной осторожностью, но зато мир околонаучный был необычайно взволнован публикацией. Слухи о необычайной находке в Иерусалиме передавались из уст в уста. А вскоре последовала еще одна сенсация: анализ вещества, налипшего на дне найденной Декуром чаши, подтвердил, что это действительно остатки человеческой крови, к тому же самой универсальной группы, «ноль плюс», пригодной для переливания всем без исключения людям. Что дало Декуру повод в очередной раз воскликнуть: «А чего иного вы ожидали от крови Иисуса?!» Увы, больше о загадочной чаше мир ничего не услышал. То ли ее придирчивое изучение показало, что она тоже «не того времени», то ли обнаружилось еще что-то неприятное, но разговоры о ней прекратились. Ясно, что Декур опять поторопился со своей сенсационной гипотезой. Верно учит нас знаменитое правило, именуемое «бритвой Оккама», — не следует громоздить гипотезы без надлежащей надобности. Вся сенсация Декура была основана на том, что в какой-то старинной чаше были найдены остатки чьей-то крови. Стоит ли выдвигать для объяснения этой находки столь монументальные гипотезы, если те же факты могут быть объяснены куда более просто и прозаически? Мало ли чья это может быть чаша, мало ли чья кровь… Разумеется, верующие и склонные к мистике люди такими прозаическими объяснениями не удовлетворятся. И действительно — известие о находке «чаши святого Грааля» возбудило эти круги самым неимоверным образом. Некоторые из самых возбужденных — видимо, под впечатлением нашумевшей картины «Юрский парк», где рассказывается о «воскрешении» динозавров по остаткам их хромосом, — тут же предложили применить ту же (на самом деле — еще не существующую) «методику» для воскрешения… Иисуса Христа. Они призвали ученых выделить из остатков крови, найденной в декуровской чаше, «хромосомы Иисуса» и из них «вырастить», а затем «оживить» его тело. К чести самого Леона Декура, надо сказать, что даже на пике славы он категорически отверг всякую возможность, да и желательность искусственного воссоздания основоположника христианства. Тем не менее и он тоже какое-то время (пока сенсация не умерла) уговаривал биологов попытаться выделить из остатков найденной в чаше крови хромосомы ее древнего хозяина. Декура, как он заявил тогда, больше всего интересовало, будут ли эти хромосомы похожи на человеческие. Лично он был убежден, что они окажутся принципиально иными. А какими же? — наверняка удивитесь вы. Ясно, какими, отвечает Декур. Божественными. Иисус ведь, согласно Евангелиям, был «Сыном Божьим»! И родился он, как утверждают Евангелия, от «непорочного зачатия» Девы Марии. Как же должен современный человек понимать легенду о таком зачатии?. — спрашивал Декур. И сам себе отвечал: ее следует понимать как рассказ об искусственном оплодотворении девушки Мириам с помощью «Божественного сперматозоида». «Не может же, в самом деле, разумный человек поверить в россказни древних греков, будто боги совокуплялись с людьми в виде быков или лебедей», — убежденно заявлял Декур. Действительно, не может. Но и в «Божественный сперматозоид», доставленный в Мириамнино лоно в клювике усердного голубка, — тоже не может. На то он и современный человек, худо-бедно разбирающийся в технике искусственного оплодотворения. Почему же Леон Декур — тоже вполне современный человек — так энергично настаивал на проверке древней легенды? Наверно, хотел в модном сегодня духе сочетать науку с верой, — как Леду с лебедем. Но, как видите, не получилось. История, как видите, действительно интересна — уже хотя бы тем, что напомнила нам о знаменитой чаше Грааля. Ведь легенды, связанные с этой чашей, далеко не исчерпываются тем, что я вам по необходимости коротко здесь рассказал. С той же чашей связана, например, и еще одна сенсационная гипотеза: будто она на самом деле представляет собой не что иное, как исчезнувший Ковчег Завета! История Ковчега тоже окружена многочисленными легендами, на сей раз — еврейскими, и вот несколько лет назад английский журналист Грэм Хэнкок опубликовал толстую книгу под названием «Знак и печать», в которой заявил, что Ковчег и Грааль — это одно и то же, и вдобавок — что ему в результате многолетних поисков удалось наконец найти этот знаменитый Ковчег, но уже не в Иерусалиме, а… в Эфиопии. Поэтому я лучше продолжу еще одним очерком на библейскую тему. >ГЛАВА 11 БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ БИБЛЕЙСКИХ СЕНСАЦИЙ Перефразируя известный афоризм, можно сказать, что патриотизм — это не только прибежище негодяев, это еще и прибежище фальсификаторов. Желание подтвердить героический характер своей древней истории обуревает многих патриотов и зачастую толкает их к бессознательной и даже весьма сознательной фальсификации или к жадному потреблению такой фальсификации, сочиненной другими. Спрос, как известно, порождает предложение, и вот уже некто Петухов (фамилия и библиография хранятся в Интернете) сочиняет новую историю государства российского, начиная с появления славного народа россов, каковое состоялось 40 тысяч лет тому назад. Нет, вы не ослышались — 40 тысяч. И вот уже некто Фоменко сотоварищи (см. тот же Интернет) извещает «урби ет орби», что вся древняя, средневековая и новая история человечества, есть не что иное, как история великой империи россов, простиравшейся на всю индоевропейскую ойкумену. И вот уже некто Бушков… впрочем, несть числа этим лжеутешителям патриотических вожделений, этим отечественным баснописцам, этим лукавым и небескорыстным сказителям-исказителям, и многотомные подвиги их на ниве занимательного фальсификаторства еще долго будут развлекать наших детей и недорослей. Нельзя, однако, не признать, что все эти попытки создать узко отечественную присыпку от патриотического зуда, как правило, грубы и топорны. То ли дело — фальсификация библейско-евангельская, ставящая своей целью подтвердить реальное существование царя Соломона или Иисуса Христа! Такие сенсации не ограничиваются пределами отечества, для них воистину несть ни эллина, ни иудея, и захватывающе интересны они не для сотен тысяч или даже миллионов, а для сотен миллионов людей. Да что там «интересны»! С чудной, волнующей силой играют они на струнах глубочайших верований этих сотен миллионов. А за веру люди, как известно, шли и на костер. А посему человек, избравший профессией подделку такого рода древностей, в буквальном смысле играет с огнем. И бывает, что огонь его и лизнет. Как в случае, который побудил нас к написанию сего очерка. Мы имеем в виду суд над Одедом Голаном. Фальсификаторов всегда было достаточно — хотя бы потому, что всегда доставало недалеких патриотов всякого толка, готовых ухватиться за любую желанную подделку. Каждая эпоха знала своих знаменитых фальсификаторов, об их бесславных деяниях написаны увлекательные тома, и вполне может оказаться, что Одед Голан будет когда-нибудь причислен к их списку. Надо думать, израильская полиция, предъявившая ему не так давно свои обвинения, и израильское Управление древностей, давно точившее на Голана клык, именно такого мнения. Обвинительное заключение перечисляет несколько выдающихся подделок, которые Голан выбросил за последние годы на мировой рынок. Все они вызывали международную сенсацию, заставляя сердца вышеупомянутых сотен миллионов людей учащенно забиться в радостном предвкушении, а руки сотен специалистов — тотчас схватиться за перья. Да и как не схватиться? Ведь вот уже много лет историки и археологи сетуют, что у них нет или почти нет никаких документальных или археологических свидетельств существования сильного Иудейского царства с Соломоновым храмом в Иерусалиме, с развитой культурой и письменностью. И вдруг — пожалуйста: Одед Голан предлагает Израильскому музею обломок древней каменной плитки с вырезанной на ней надписью, в которой сообщается о перестройке иудейским царем Иоашем Соломонова храма в 812 году до н. э. И эта надпись разом снимает несколько дамокловых вопросительных знаков, томительно нависших над библейской историей: напрямую подтверждает существование первого храма; косвенно подтверждает историческую верность библейских списков иудейских царей и других спорных деталей библейских рассказов и попутно демонстрирует явное существование в Иудее ивритской письменности и письменных исторических источников уже в то древнее время, а также убеждает историков-специалистов во многом другом, в чем они сомневались, но не знали, у кого спросить. О таких подарках судьбы говорят, что если бы их не было, их надо было бы придумать. Подумать только — одним (несколькими) ударом (ударами) резца по камню решен многовековой спор об исторической достоверности библейского рассказа! Посрамлены скептики. Укреплены в вере патриоты. Обогащена наука. Так и хочется добавить: «Поднято ярости масс — 3». Тем более что поначалу несколько специалистов высказались в том смысле, что находка заслуживает самого серьезного отношения. В смысле — не фальсификация. Как минимум 50 % шансов, что нет. Лишь потом, задним числом, выяснилось, что правильные 50 % относятся к камню — вот он действительно был древний. А надпись, как вся контрабанда в Одессе, была изготовлена если не на Большой Арнаутской, то где-нибудь в таком же месте в сегодняшнем Иерусалиме. Не будем описывать детали этого разоблачения — надо думать, вскоре появятся книги, посвященные этой поистине детективной истории. В них будут и детали второго «подарка судьбы», изготовленного, Голаном. На этот раз его адресатом стали не евреи, а христиане. Хитроумно проведя за нос Управление древностей и высмеяв при этом тупую бюрократическую неповоротливость его правил (то-то оно наточило на него клык), Голан сумел переправить на Запад — причем на специальную выставку — некий древний ларец для хранения костей с очередной сенсационной надписью, извещавшей, что ларец этот был в свое время (а по времени он — первого века н. э.) предназначен для хранения костей «Якова, брата Иисуса». Сами понимаете. Некоторые западные христианские специалисты так ухватились за этот ларец (по-научному он называется оссуарий), что не хотят признать его фальшивость даже теперь, когда она доказана вне всяких сомнений. Оно и понятно: трудно расставаться — мелькнула высокая надежда и исчезла, как Жар-птица. Хотя, если вдуматься, разве вера требует «научных» доказательств? Это не оксюморон? Сказал же Тертуллиан: «Верую, потому что абсурдно». Вот это понятно. Настоящая вера не требует даже чудес. А если требует, то вот вам, пожалуйста, адрес — «Одед Голан и компания, Ltd, изготовление и продажа желанных подтверждений религиозных и исторических преданий». Ltd означает «ограниченная ответственность», но в данном случае это звучит насмешливо. Судя по всему, ответственность Голана не ограниченная, а полная. В конце минувшего года его группе (в которую входит еще пара израильских торговцев древностями и один палестинец) предъявлено в Иерусалимском окружном суде формальное обвинение в том, что эти несколько людей, вступив в преступный сговор, на протяжении двух десятилетий производили и успешно распространяли по всему миру сфальсифицированные артефакты (так называют в археологии материальные предметы, изготовленные в прошлом), заработав на этом миллионы долларов. За эти годы Голан (по его собственным словам) стал самым крупным в мире коллекционером израильско-иорданских древностей, а его коллеги — самыми крупными торговцами этими древностями. Разумеется, сами обвиняемые свою вину отрицают, их друзья, естественно, в нее не верят, наши патриоты, понятно, негодуют, а нам остается сказать, что в эти самые дни выяснилось (совпало!), что и знаменитый гранат из слоновой кости, гордость Израильского музея, крохотная древняя вещица, которая 16 лет. считалась единственным (до появления «надписи Иоаша») бесспорным подтверждением реальности Соломонова храма, — этот гранат тоже, увы, является подделкой. Конечно, это уже другая история, и к Голану она отношения не имеет. Но она имеет прямое отношение к тому, как бесславно рушатся одна за другой библейские сенсации. >ГЛАВА 12 РОНГО-РОНГО И ВСПЯТЬ К ШУМЕРАМ Существует множество фундаментальнейших для жизни вещей, о происхождении которых мы ничего или почти ничего не знаем. К ним относится лук, весло, лодка, таран (о котором некоторые историки думают, что это и был Троянский конь). К ним относится и письменность. Вот сию секунду, подняв руку, я нанес на экран компьютера, с помощью его внутренних механизмов, некие значки. Спустя несколько дней или недель эти значки, преобразованные с помощью типографских механизмов в несколько иные значки будут перенесены на газетный лист. В конце концов эта газета ляжет на ваш стол. Вы раскроете ее и поймете, что я хотел вам сказать. Разве это не чудо? Кто ж его придумал? Если не имя человека, то по крайней мере имя народа, первым придумавшего письменность, можно назвать? Расскажем по этому поводу занятную историю, которая имеет прямое отношение к загадке возникновения письменности. Пару лет назад высокоуважаемый журнал «Nature» впервые за много-много лет вдруг отвел пару-другую страниц обзору двух в высшей степени экзотических научных изданий — «Журнала Полинезийского общества» и «Рапа-Нуи журнала». Причиной столь неожиданного внимания была публикация в этих изданиях двух статей молодого новозеландского лингвиста Стивена Фишера, посвященных одной из самых запутанных загадок знаменитого острова Пасха — загадке так называемого ронго-ронго. Ронго-ронго — это деревянные таблички, на которых нанесены довольно примитивные картинки, изображающие преимущественно птиц, рыболовные крючки, человечков с хвостами и без, деревья, палки и прочее в том же роде. Вообще-то такими рисунками впору заниматься детишкам, но в данном случае перед нами явно недетское усилие. Картинки расположены в определенном линейном порядке, каждая линия образует строку, каждая табличка содержит несколько таких строчек, и каждый символ повторяется в ней множество раз. Так и хочется сказать, что перед нами очевидная попытка выразить, сообщить или передать некую информацию, иными словами — попытка письма. Что-то вроде письма в рисунках. Об острове Пасха написано много. Тур Хейердал (тот, что с «Кон-Тики»), да и не он один, посвятил ему и его знаменитым статуям (еще одна островная загадка) специальную книгу. Этот затерявшийся в Тихом океане остров был открыт европейцами в 1722 году. Однако долгие десятилетия подряд ни один из европейцев, побывавших на острове, ни звуком не обмолвился о существовании там табличек ронго-ронго. И вдруг в 1864 году некий миссионер сообщил, что видел такие таблички, причем не одну-две, а буквально в каждой хижине. Вскоре это стало подтверждаться другими сообщениями, и кое-кто из наблюдателей утверждал даже, что эти деревянные таблички хранятся в особых хижинах как нечто сакральное и охраняются запретами — табу. У исследователей, занявшихся изучением ронго-ронго, сложилось впечатление, что это довольно позднее явление, вызванное к жизни скорее всего первыми письменными объявлениями испанских властей острова о его аннексии Испанией. Эти испанские листовки были. вручены вождям и жрецам местных племен, чтобы те «расписались в извещении». Вожди и жрецы «расписались» оттисками пальцев. Дело было примерно в 1770 году, но семена были посеяны, желание обрести такую же, как у белых пришельцев, способность выразить свои мысли значками, видимо, запало в души островитян, и не прошло и ста лет, как это желание воплотилось в загадочные деревянные таблички с их примитивными письменами-рисунками. С тех пор прошло сто с лишним лет, и из всего множества таких табличек во всем мире сохранилось лишь 25, рассеянных по разным национальным музеям. На этих 25 табличках имеется в общей сложности 14 тысяч рисунков. После того как в 1862 году правительство Перу вывезло с острова последних вождей и жрецов, не осталось ни одного островитянина, который умел бы читать ронго-ронго. Усилия немецкого лингвиста Томаса Бартеля, занявшегося уже в середине нашего века расшифровкой загадочной письменности, привели лишь к подтверждению того, что это действительно письменность, скорее всего — рудиментарная, зачаточная письменность, значки-картинки которой изображают как конкретные объекты (птиц, людей и т. д.), так и некие идеи, но не алфавитные знаки, звуки или слоги. Прочесть написанное ни Бартелю, ни другим исследователям не удалось. И вот теперь, через полвека после Бартеля, Стивен Фишер, пройдя путем Шамполиона, добился желанного успеха. Таким образом, письменность ронго-ронго, возможно самая молодая, самая недавняя из созданных человечеством письменностей, наконец-то расшифрована. Таблички острова Пасха прочитаны, как тот роман, о котором говорил классик. И что же они содержали? Об этом чуть позже. Давайте сначала вдумаемся, какой вывод для истории письменности как таковой можно извлечь из истории письменности ронго-ронго. Прежде всего можно думать, что возникновение этой письменности должно в определенной степени повторять процесс возникновения всякой другой, более древней письменности, а может быть, и всякой письменности вообще. Несомненно, письменность рождалась из потребности сберечь некую важную информацию (вспомним, что таблички ронго-ронго держали в специальных хранилищах («библиотеках»)? — были они защищены сакральным табу). Но уже изначально у них была и вторая, не менее важная функция — передать информацию другим людям. Об этом выразительно свидетельствует древняя шумерская легенда, найденная среди памятников шумерской письменности и рассказывающая о том, как эта письменность была создана («изобретена», если угодно). Легенда говорит, что однажды к царю Урука прибыл гонец, настолько измученный дальним путешествием, что был уже неспособен даже говорить. Царю же было необходимо послать его снова в путь. Как сделать, чтобы он мог передать нужную информацию? Хитроумный царь, говорит легенда, взял глиняную табличку и начертал на ней слова послания, так что отныне гонцу не нужно было их произносить. Очаровательная легенда, в наивности своей даже не задумывающаяся над тем, как же получатели этого первого в истории письменного послания прочтут неизвестные им знаки, выцарапанные царем Урука в глине таблички. Ведь письменность, как и речь, процесс двусторонний: и отправитель, и получатель должны предварительно «сговориться» об общем значении применяемых символов (знать, понимать или выучить это значение). Главное, однако, даже не в этом. Легенда не рассказывает о том, как именно царь придумал свои знаки. И тут история ронго-ронго, кажется, может нам помочь. Из нее явно следует, что придуманные островитянами знаки были изображениями, или, как говорят, пиктограммами (от «пиктос» — рисовать). Это рисуночное письмо не воспроизводило звуки какого-либо реального языка, известного только его носителям, а имело общий характер: носители иного языка тоже могли, в принципе, понять эти рисунки (но только в принципе — как мы видели, понять написанное удалось только после почти столетних усилий). Если создание ронго-ронго повторяло историю создания письменности вообще (как развитие эмбриона повторяет историю развития вида), то, может быть, и всякая письменность начиналась с пиктограмм? Давно известно, что люди рисовали с незапамятных времен, — в пещерах Франции и Испании найдены замечательные реалистические изображения бизонов, мамонтов и людей в процессе охоты. Не могло ли быть так, что эти рисунки, постепенно упрощаясь, стали основой каких-то значков, постепенно все более абстрактных и в конце концов сложившихся в письменность? Это действительно одна из гипотез, выдвинутых исследователями, изучающими становление письма. И ее разделяют многие из них, но не все. Другие исследователи указывают, что среди древнейших письменностей — Месопотамии, Египта, Китая, Индии и некоторых других регионов — очень мало образцов рисуночного письма. Даже китайские и египетские иероглифы не очень походят на изображения реальных объектов, хотя некоторые из них такие объекты напоминают. Что же, например, до шумерской клинописи или критского «линейного письма», то угадать в их значках рисунки людей или животных никак не удается. Поэтому скептики выдвинули другую гипотезу. Первой ее предложила — почти 20 лет тому назад — американская лингвистка д-р Дениза Шмандт-Бессерат из Техасского университета. Сегодня ее предположение кажется многим более правдоподобным, чем «пиктографическая теория». На недавнем симпозиуме специалистов по истории письма, проходившем в Пенсильванском университете, представители обеих теорий яростно оспаривали аргументы друг друга и в конце концов согласились, что имеющегося материала еще недостаточно, чтобы решить, какая из этих теорий верна. Чтобы понять гипотезу Шмандт-Бессерат, лучше всего начать… с гомеровской «Илиады». Там есть огромная, как считают, более ранняя вставка, в которой перечисляются корабли, посланные различными греческими городами для участия в походе на Трою. Список этот так огромен, однообразен и скучен, что даже такой ценитель классики, как Мандельштам, признавался: «Я список кораблей прочел до середины…» Специалистам, однако, этот список дает благодатный материал для размышлений. Дело в том, что, расшифровав шумерскую письменность и критское «линейное письмо», — исследователи с немалым удивлением обнаружили, что значительная часть всех этих текстов тоже представляет собой «списки», «перечни», «каталоги» и тому подобное. Так, среди 150 тысяч критских текстов такие «списки» составляют около трех четвертей. Что же там перечисляется? В основном вещи, товары, утварь, драгоценности, мешки зерна и животные, доставленные в царскую казну для уплаты налогов, и тому подобные хозяйственные объекты. Перед нами — явная бюрократическая отчетность. И это не удивительно. Мощные (для своего времени) державы вроде критской, шумерской, микенской, древнеегипетской и других не могли бы существовать без налаженной (и обслуживаемой армией чиновников) экономики. Кто-то должен был кормить двор правителя, армию, жрецов, самих чиновников; правители покоряли другие страны и возвращались с рабами и материальной добычей — ее тоже нужно было скрупулезно подсчитать и отметить; другие цари присылали подарки, и эти дары тоже подлежали тщательной регистрации; в каждом таком реестре указывалось число и характер вещей, пленников, драгоценностей и всего прочего, а также отмечалось (для памяти) место их хранения и так далее. Эта огромная, неутомимая, каждодневная бюрократическая работа тенью сопровождала всю политическую и хозяйственную жизнь страны, ее царей и ее народа. Как же она велась в отсутствие письменности? Можно представить себе, говорит Шмандт-Бессерат, что поначалу для обозначения каждого вида предметов использовались камешки или черепки определенного вида: скажем, для мешков зерна — округлые камешки, для стрел и копий — продолговатые и т. п. Число камешков соответствовало числу предметов данного вида. Камешки хранили в специальных глиняных сосудах. Чтобы знать, что находится в каждом сосуде, на нем снаружи оттискивали один из вложенных в него камешков или черепков. Следы таких черепков, оттиснутые в глине, и были предшественниками первых письменных знаков. Действительно, сосуды с такими оттисками в превеликом множестве найдены в раскопках древних месопотамских городов — Ура, Урука и других. Дальнейшее развитие уже нетрудно представить: какой-то неведомый месопотамский гений сообразил, что оттиск можно делать просто палочкой («стилом») во влажной глине и даже просто на специальной глиняной табличке; другой придумал особые оттиски-значки для обозначения тех или иных мест хранения; третий догадался, что таким же способом можно обозначать не только предметы и места их хранения, но и некоторые простейшие, основные понятия, и так далее. Сначала все эти значки были достоянием одних лишь чиновников и понятны только им одним. Но им можно было обучиться и обучить других. И других учили. Тому есть замечательное доказательство. Среди прочих клинописных и «линейных» древних «реестров» были обнаружены такие, которые были специально предназначены для обучения будущих чиновников, для заучивания наизусть — ради обретения навыков записи и чтения новых «списков». Надо думать, что жрецы и придворная знать тоже постепенно приобщались к новинке. Впрочем, в тех же первых памятниках шумерской письменности есть указания на то, что цари и правители, как правило, писать и читать не умели — за них это делали специально обученные писцы и чтецы. Эти специалисты были совершенно необходимы при дворе: древние державы, как опять же обнаруживается в памятниках их письменности, вели огромную дипломатическую переписку. В одной только столице Хеттской империи 2-го тысячелетия до н. э. были обнаружены десятки писем хеттских царей к фараонам Египта, правителям стран Малой Азии, царям Ассирии и даже вождям древнегреческих городов. (Надо полагать, что все это не сами послания, а их копии, на всякий случай хранившиеся в царском архиве.) Итак, перед нами две гипотезы, по-разному объясняющие происхождение письменности: одна видит ее начало в рисунках, другая — в оттисках, с помощью которых регистрировались объекты в «реестрах» и «списках». В чем, однако, сошлись все специалисты на упомянутом выше симпозиуме, так это в убеждении, что первые варианты письменности не отражали какого-либо определенного языка — лишь на более позднем этапе некоторые из них перешли к обозначению значками звуков родной речи. Как сказал д-р Питер Дамеров, «каким бы ни был исходный импульс для создания письменности, с момента ее появления она быстро приобретает достаточную независимость и гибкость, чтобы адаптировать свои кодовые знаки для передачи специфических особенностей своего языка». Впрочем, «быстро» — это примерно полтысячи лет: именно такой срок отделяет первые клинописные значки на черепках из Урука от поздней клинописи, представляющей запись шумерской речи. Таким образом, шумерские клинописные знаки постепенно стали знаками шумерского языка, древнеегипетские иероглифы были приспособлены для передачи понятий древнеегипетской культуры, хеттские письмена — для транскрипции хеттской фонетики и так далее. Но где же начался этот процесс? Мы уже знаем, где и когда было изобретено последнее по счету письмо — на острове Пасха, в конце XVIII — начале XIX века. А где и когда возникла первая письменность? Вокруг этого вопроса тоже идут ожесточенные лингвистические споры. До недавних пор считалось, что самые древние значки-письмена появились в Шумере примерно за 3200–3300 лет до н. э. — не случайно известная книга об этой первой месопотамской цивилизации называется «История начинается в Шумере». Но на пенсильванском симпозиуме было сообщено, что новейшие методы радиоуглеродного датирования позволяют думать, что некоторые древнеегипетские иероглифы, обнаруженные на обломках костей и на глиняных сосудах, были нацарапаны за 3500 лет до н. э. Теперь и в этом вопросе будут существовать две теории — египетского и шумерского происхождения письменности. Все другие древние системы письма появились явно позже, но опять-таки «вскоре»: уже в начале 3-го тысячелетия до н. э. письменность становится весьма распространенной — она встречается, например, у эламитов Южного Ирана; затем она появляется в долине Инда (в нынешнем Пакистане) и в Западной Индии, в Сирии, на Крите («линейное письмо») и в Анатолии (империя хеттов). В конце 2-го тысячелетия до н. э. письменность появляется в Китае, а в начале 1-го — в Центральной Америке (государство майя). Эта последовательность заставляет некоторых исследователей думать, что письменность не столько изобреталась в каждом месте отдельно, сколько распространялась, видоизменяясь в ходе этого процесса. Однако другие специалисты считают, что каждая из этих древнейших систем письма была автохтонной, т. е. придуманной независимо от других. (Ситуация тут отчасти напоминает знаменитый спор палеоантропологов: появился вид гомо сапиенс на каждом континенте независимо или возник в Африке и оттуда распространился по планете?) Думается, что и для решения этого спора пока нет достаточного материала. Неслучайно чуть не каждое новое открытие весьма круто меняет представления лингвистов. Раньше, к примеру, считалось, что письменность проникла в долину Инда из Месопотамии. Теперь, на том же симпозиуме, было сообщено об открытии в Индии еще более древних письменных знаков; относящихся к 3300 г. до н. э. и отдаленно похожих на знаки более поздней индусской письменности следующего тысячелетия. Если это открытие подтвердится, оно может означать, что письменность в Индии возникла независимо от Шумера. О Китае раньше вообще не спорили: древняя китайская письменность считалась автохтонной, возникшей на основе изображений на бронзовых изделиях («рисуночное письмо») и на костях для гадания («черепковая письменность»). Но, выступая на пенсильванском симпозиуме, один из специалистов заявил, что ему удалось обнаружить 22 знака финикийской письменности на глиняной посуде и одеяниях мумий, найденных в пустыне Западного Китая. При этом мумифицированные тела имеют характерные признаки людей кавказской расы, а их одеяния — западные приметы, так что можно думать, что эти (а может быть, и более восточные) места Китая посещались людьми из Месопотамии уже во 2-м тысячелетии до н. э. Они могли занести сюда и свою письменность. Известно ведь уже, что повозки и бронзовая металлургия проникли в Китай именно с запада. Таково состояние научных знаний о возникновении письменности на нынешний день. А что же, кстати, с письменностью ронго-ронго? Мы ведь обещали рассказать, что прочел на этих табличках Стивен Фишер, и даже намекнули, что он воспользовался для этого методом Шамполиона. Пришло время для обещанного рассказа. Напомним, что Шамполиону удалось прочесть древнеегипетские иероглифы благодаря находке т. н. Розеттского камня, на котором один и тот же текст был записан и на известном ему греческом языке, и с помощью иероглифов. В случае Фишера роль Розеттского камня сыграла двухкилограммовая табличка ронго-ронго метровой длины, хранившаяся в музее Сантьяго и покрытая множеством строк текста, в которых отдельные куски были отделены друг от друга вертикальными линиями (ни в одной другой табличке таких линий не было). В поисках закономерностей текста Фишер обратил внимание на то, что знак, следовавший за каждой линией раздела, обязательно сопровождался примитивным рисунком фаллического характера (т. е. упрощенным изображением мужского члена). Каждый третий знак после первого (4-й, 7-й и т. д.) тоже сопровождался таким фаллическим символом, т. е. текст как бы распадался на триады типа X-У-Z. Вспомнив, что в рассказах миссионеров, посещавших остров Пасха в прошлом веке, фигурировала некая «Песня Творения», начальные слова которой звучали как «Атуа Мата Рири», а вся песня в целом означала: «Бог Мата Рири («грозноокий») совокупился со сладким лимоном, и так родилось дерево Попоро». Фишер предположил, что найденные им «триады» можно понимать следующим образом: некий X (знак которого сопровождается фаллическим символом) совокупился с У, и это привело к возникновению Z. Иными словами, каждая триада — это предельно лаконичный рассказ о сотворении какого-то объекта рееального мира, а весь текст таблички в целом — своего рода островитянская «Книга Творения». Благодаря этому ключу, ему удалось расшифровать и тексты на других сохранившихся табличках. В итоге он показал, что ронго-ронго были не просто мнемоническим средством вроде известного «узелкового письма», а настоящей письменностью, с помощью которой жрецы острова за период с 1780 по 1865 год сумели записать (а может, и досочинить) мифологию островитян. Интересно, что эта письменность оказалась далеко не чисто пиктографической: ее знаки (хотя отнюдь не все) действительно были упрощенными изображениями физических объектов, но, например, фаллические символы оказались своего рода «семантическими суффиксами», т. е. были предназначены дать наглядное визуальное представление о некоем действии, которое один такой объект совершал над другим… Такие вот картинки…. >ГЛАВА 13 «НЕГРАМОТНАЯ» КУЛЬТУРА В дополнение к вышерассказанному — еще одна история с письменностью, которая не совсем письменность. Всем известно, что древнейшие цивилизации складывались вдоль больших рек. Придумано даже название — «гидравлическая цивилизация», т. е. такая, которая складывалась в борьбе с постоянной угрозой наводнений. Индия не была исключением. Как открыли английские ученые еще в 1870-е годы, древнейшая цивилизация на этом субконтиненте тоже сложилась вокруг реки — вокруг реки Инд. Систематические раскопки, начавшиеся здесь в 1920-е годы, вскрыли большие города, многочисленные здания, сложную систему водопроводных и канализационных труб. Одна только Хараппа, судя по числу жилых зданий, насчитывала 50 тысяч жителей — и это за 2500–2000 лет до нашей эры. Территория этой цивилизации составляла 1 млн кв. км. Понятно, что для современных индийских националистов эта древнейшая цивилизация Инда — предмет величайшей гордости, прямой предшественник культуры Вед и всей нынешней Индии. Своей монументальностью она нисколько не уступала знаменитым, одновременным С ней древним цивилизациям Египта и Мессопотамии. С одним отличием, о котором — сначала потихоньку, чтобы не разъярить этих гордых националистов, а теперь уже во всеуслышание — заговорили с недавних пор некоторые ученые. Если они правы, эти учёные, то древнейшая и великая цивилизация Инда была… безграмотной. От Древнего Египта остались иероглифы, надписи, целая литература. От цивилизаций Древней Мессопотамии сохранилась клинопись, целые библиотеки глиняных табличек. А вот от цивилизации Инда остались лишь многочисленные изображения каких-то непонятных, объединенных в небольшие группы значков, нарисованных в основном на маленьких табличках или печатях. Древнейшие из этих значков датируются примерно 3200-м годом до н. э., т. е. почти тем же временем, что и первые иероглифы и клинопись. Спустя 800 лет эти значки достигают наибольшего разнообразия, а еще спустя 700 лет они исчезают совсем, вместе со своей цивилизацией. И что странно — почти все эти таблички содержат очень малое число значков (или символов?) индийский археолог Рао насчитывает их не более 20-ти, хотя более «патриотически» настроенные ученые утверждают, что разных знаков чуть ли не 700. В последнем случае они, скорее всего, должны были бы быть иероглифами, но этому противоречит тот факт, что большинство этих значков больше похожи на обычные рисунки — изображения рыбы, например, или дерева. Если же отбросить рисуночные значки, мы вернемся к выводу Рао, что «собственно знаков» всего 20, и тогда их можно было бы считать, вслед за финским лингвистом Парполой, знаками фонетического письма, но тут в наши споры вмешивается главный герой всей этой истории, американский «возмутитель спокойствия» Стив Фармер, и портит всю картину своим сенсационным утверждением, что это никакой не алфавит, а просто… Впрочем, давайте по порядку. Фармер, процдя путь от армейского радиста «на подслушке» до профессора на кафедре сравнительной культурологии, в свое время написал глубокую работу по истории Древнего Китая и недавно занялся историей древнего бассейна Инда. В своей последней итоговой статье о пресловутых «знаках древней индийской культуры» он еретически заявил, что никакие это не письмена, а что-то вроде тех геральдических символов, которые имели такое широкое хождение в средневековой Европе. Разумеется, это утверждение было не с потолка взято. Вместе с другими лингвистами-единомышленниками Фармер произвел тщательный анализ всех сохранившихся табличек и определил, что среднее число знаков на них составляет 4,6 (самая длинная «надпись» содержит 17 знаков и лишь меньше одного процента надписей длиннее 10 знаков). Такие короткие «тексты» не встречаются ни в одной из известных ученым письменностей мира. Далее, в отличие от букв, которые в текстах на любом языке повторяются довольно часто (например, в английских текстах почти 12 % знаков — это буква «е»), в «надписях» из долины Инда такие повторы практически не встречаются. Наоборот, добрая половина знаков вообще встречается только один раз, три четверти знаков встречаются всего пять и менее раз. Такое впечатление, пишет Фармер, что «некоторые знаки изобретались специально для данного текста и забывались после нескольких использований». Все это привело Фармера к выводу, что индийские знаки были, скорее, магическими символами — вроде креста у христиан — или геральдическими изображениями, обозначавшими отдельные кланы, сосуществовавшие (и, возможно, враждовавшие) внутри этой загадочной цивилизации. Разумеется, гипотеза Фармера взбесила многих. Националисты попроще стали посылать ему письма с угрозами, а ученые коллеги принялись раздраженно опровергать все его утверждения, заявляя, что он фальсифицировал все свои данные. Что, как признает большинство специалистов, попросту неправда. Доводы Фармера слишком обоснованны, чтобы отмахнуться от них, и не случайно многие специалисты из «умеренных» уже сдвинулись от прежней единодушной веры в древнюю индийскую письменность к более скромному утверждению, что на загадочных табличках изображены имена принцев, богов, названия городов и т. п., но несвязные «рассказы», как было в Древнем Египте или Шумере. Вместе с Фармером (или вслед за ним) они сходятся в том, что эти символы играли какую-то важную социальную роль, объединяя все территории древней цивилизации Инда и придавая им ощущение общей принадлежности к одной культуре (напомним, что по территории эта цивилизация была примерно как вся нынешняя Западная Европа!). Как. говорит Фармер, отсутствие письменности отнюдь не унижает индийскую цивилизацию. «Большая городская цивилизация могут держаться вместе и без письменности», даже если это была многоплеменная и многоклановая культура. «Бесстрашный еретик» настолько уверен в своей правоте, что недавно учредил даже специальную премию размером в 10000 долларов для человека, который представит надпись длиной в 50 символов, с повторяющимися по законам языка значками и сопроводит находку прочтением ее текста. «Я ничем не рискую, — уверенно заявил он газетам. — Мне все-равно никогда не придется выписывать этот чек». >ГЛАВА 14 В ПОИСКАХ ТАЙНОГО ЗНАНИЯ Под конец вернемся от древней лингвистики опять к древней истории. В ней все еще появляются новости и открытия. Одно из таких открытий произошло в исторических масштабах не так уж давно, и поэтому его можно смело зачислить в новости. Во всяком случае, в древние новости. Открытие это совершил простой арабский пастух. Случайно заглянув в заброшенную пещеру, он обнаружил там глиняный кувшин метровой высоты и, разбив его мотыгой, увидел какие-то древние свитки. Он забрал их с собой, а уже от него они каким-то образом попали на арабский черный рынок, перекочевали в руки охочих до древностей зарубежных туристов и в конце концов оказались в распоряжении ученых, где им и было самое место. Ибо свитки эти содержали неведомые доселе и переворачивающие многие наши представления тексты, родившиеся в кругу загадочной религиозной общины, что существовала в этих местах в те времена, когда ближневосточную землю топтали сапоги римских легионеров, а отчаявшиеся в неволе люди слагали учение о приходе избавителя-Спасителя. Вы, конечно, подумали, что я пересказываю историю Кумранских свитков. И вы ошиблись. Я хочу рассказать совершенно иную, хотя и не менее увлекательную историю, которая как две капли воды похожа на историю кумранской находки, — с той лишь разницей, что в данном случае свитки были найдены в пещере на горе Джабаль аль-Тариф, вблизи города Наг-Хаммади, что в среднем течении Нила, между знаменитыми египетскими городами Асьютом и Луксором. О кумранских свитках знает каждый образованный человек. О свитках Наг-Хаммади знает далеко не каждый. Между тем по своему значению они, пожалуй, не уступят свиткам Мертвого моря. Свитков Наг-Хаммади насчитывается тринадцать. В них содержится пятьдесят два текста, созданных, по мнению специалистов, в первом-втором веках нашей эры. Тексты эти представляют собой раннехристианские апокрифы, то есть сочинения, не вошедшие в утвержденный церковью христианский канон — «Новый Завет». А громадное историческое значение этих текстов состоит в том, что в сумме они образуют наиболее полную и впервые представшую перед исследователями библиотеку т. н. «гностических» сочинений, до того известных лишь по пересказам христианских критиков гностицизма. Вообразите себе, что вы находитесь в зале суда, где все время выступают только свидетели обвинения. И вдруг происходит взрыв! Впервые за два тысячелетия в зале появляется сам обвиняемый. В зале шум и смятение, судья грохочет молотком по столу, приставы выводят непотребно беснующихся обвинителей. И обвиняемый начинает сам рассказывать о себе. Я сознательно принял столь высокопарный тон, чтобы подчеркнуть всю огромность и небывалость случившегося. Находка в Наг-Хаммади не просто очередное археологическое открытие. Это переворот в наших представлениях о гностицизме. А стало быть, обо всей истории раннего христианства. Более того — о религиозной истории в целом. Ибо гностицизм — это одна из величайших и распространеннейших религий древнего мира. Но куда важнее и, несомненно, куда интереснее, что это одно из самых влиятельных и заметных явлений нашей с вами эпохи, той, в которой мы живем и блуждаем сейчас. Достаточно сказать, что следы гностических доктрин обнаруживаются в учениях таких современных мыслителей, как Хайдеггер и Юнг, а в своей вульгаризованной форме они были усвоены мистическими вдохновителями Гитлера из «Общества Туле» и создателями многих современных оккультных сект и мистических культов на Западе. И если когда-то исследователь гностицизма Ганс Йонас говорил о «Великой гностической революции» древности, то сегодня мы можем назвать наше собственное время эпохой столь же масштабной «гностической контрреволюции». Теперь уж вы наверняка впали в тяжелую задумчивость. Если гностицизм столь могуч и вездесущ, то почему мы о нем ничего не знаем? Если его следы обнаруживаются буквально повсюду, то, ради Бога, покажите нам их. И поскорее! Может быть, мы — тоже гностики, только сами не знаем, как мольеровский герой Журден не знал, что всю жизнь говорил прозой! А не знаем мы о гностицизме (точнее, почти ничего не знали до находки в Наг-Хаммади) по той простой причине, что христианская церковь усиленно над этим поработала. В свое время, на рубеже I–II веков, учение гностиков настолько успешно соперничало с ортодоксальным христианством, что, по мнению некоторых ученых, имело шансы его победить. Гностикам не хватило организованности. Они никогда не пытались создать формальную церковную организацию. Более того, они были принципиально против нее. Гностицизм, как мы увидим, — это вызывающе индивидуалистическая доктрина. И пока гностики размышляли о причине несовершенства земной юдоли и способах ее преодоления, христиане создавали свои епископаты. И первые же епископы на первое место в списке своих неотложных задач поставили беспощадную борьбу с конкурентами. Уже в 180 году епископ Ириней опубликовал пятитомное (!) сочинение, озаглавленное «Сокрушение и уничтожение ложного учения, так называемый «гнозис», которое изрыгает хулу на Господа нашего Иисуса, — дабы не дать другим впасть в эту бездну гордыни и богохульства». С еретиками христианство всегда расправлялось круто. Гностицизму грозило полное исчезновение из человеческой памяти. К счастью, Ириней с группой товарищей перестарались. В их сочинениях эти еретики цитировались так обильно, что вдумчивые люди из одних этих цитат могли составить представление о гностических доктринах. А историки религии XIX–XX веков разбирались в древнем гностицизме уже весьма неплохо. Находка в Наг-Хаммади позволила им сделать следующий огромный шаг в развитии и обобщении этих представлений. Что же так раздражало христианских ортодоксов в гностическом учении? Возьмем, к примеру, один из текстов наг-хаммадийских свитков, апокриф, который называется «Евангелие от Фомы» (в «Новом завете» вы его, разумеется, не найдете). Начинается оно так: «Здесь содержатся тайные слова, сказанные живым Иисусом и записанные его братом-близнецом Иудой Фомой». Тут даже самый поверхностно знакомый с христианством человек содрогнется. Оказывается, у Иисуса был брат-близнец! Оказывается, Иисус поведал ему какое-то «тайное знание»! Раз «тайное» — значит, не то, которое содержится в канонических Евангелиях. Что же это за знание? Намеки на эту тайну рассеяны по наг-хаммадийским свиткам в превеликом множестве. К примеру, в тексте «Свидетельство истины» рассказывается совершенно сенсационная история Змия, который, оказывается, первым пытался принести людям свет «тайного знания», но встретил яростное сопротивление «так называемого Бога», пригрозившего Адаму и Еве смертью, если они вкусят от злополучного яблока. А в тексте с поразительным названием «Громыхающий идеальный разум» некая загадочная «Высшая богиня» выражается о себе таким дзэн-буддистским слогом: «Я та, которую чтут и поносят, я шлюха и святая, я мать и девственница, я первая и последняя, я непостижимое молчание и я же невыразимый звук моего имени». Гностики были решительно неортодоксальны и в толковании самого Иисуса, и в объяснении его миссии на земле. У ортодоксов Иисус отделен от сынов человеческих уже тем, что он «Сын Божий», а у гностиков Бог и человеческое Я — одно и то же: «Познай, кто это такой внутри тебя говорит — моя мысль, моя душа, мое тело, и ты обнаружишь Бога в самом себе», — говорит гностический автор Моноимус. У ортодоксов Иисус говорит в основном о «первородном грехе», который он пришел «искупить», а у гностиков он занят прежде всего развенчанием иллюзий, которые скрывают от людей «истинное положение вещей в мире», «истинное знание». И говорит Иисус Фоме: «Кто пьет из кипящего источника истины, из которого пью и Я, тот становится Мною, и Я становлюсь им». Не потому ли Фома и назван его братом-близнецом? Сквозная тема всех гностических текстов — поиск тайного знания, по-гречески — «гнозиса». Отсюда и название. Какие-то загадочные, словно нарочито созданные кем-то иллюзии скрывают от людей истинную природу мира и самого Бога, и то, что люди принимают (а ортодоксальные христиане выдают) за истину, ей на самом деле противоположно. Может, и сам Бог подложный? Да и существует ли Он вообще? Один из гностических авторов говорит о «Несуществующем Боге». Не в том смысле, что Его нет, а в том, что Он не существует в принятом толковании этого слова, не может быть определен в обычных терминах, разве что в отрицательных: Он не то, и не то, и не то. Эту мысль позднее подхватили у гностиков такие знаменитые средневековые мистики, как Николай Кузанский и Якоб Беме. А уже у них — кое-какие мистики нашего времени. Точно так же, как Юнг заимствовал у них убеждение в наличии у божества женской ипостаси, а Хайдеггер — некоторые представления о природе человеческого бытия, вошедшие — уже через хайдеггеровские сочинения — в основы современного экзистенциализма. О том, что заимствовал у гностиков фашизм, популярно рассказано в переведенной (много лет назад) на русский язык книге Бержье и Пауэлла «Утро магов», а более научно — в недавно вышедшей (по-английски) книге «Гностические корни нацизма». Любопытно, что почти так же называется более давняя книга известного французского историка Алана Беансона, только у него — «Гностические корни ленинизма»! Гностические корни, несомненно, есть, как я уже говорил, и у более мелких духовных течений эпохи, но они все еще ждут своих исследователей. Гностики, в общем-то, всего лишь передали эстафету. Они и сами многое заимствовали. Внимательный читатель наверняка заметил; что разговоры об «истине, скрывающейся за покровом иллюзий», очень напоминают индийские рассуждения о «покрове Майи», скрывающем от людей высшую истину бытия, то, «каково оно есть на самом деле», а сами «иллюзии» очень похожи на платоновские «тени вещей», которые носятся на стене Пещеры, где томится человеческий разум, принимая эти тени за те абсолютные «идеи», из которых, по Платону, слагается истинная реальность. Не случайно Адольф Гарнак, один из первых исследователей гностицизма, когда-то назвал гностиков «распоясавшимися платонистами», а британский историк Гонзе возвел зарождение гностических идей к влиянию буддистских проповедников, которые активно миссионерствовали в Александрии в I–II веках н. э. С другой стороны, Мориц Фридландер доказывал, что многое в учении гностиков восходит к «еретическим» идеям иудаизма того же времени. У гностиков, действительно, был жестокий спор с иудаизмом, может быть, даже более жестокий, чем с христианской ортодоксией, и такой беспощадно страстный, какой бывает только между очень близкими родственниками. Гностики отвергали «претензии» иудаизма на абсолютную истину с той же яростью, что и претензии первохристиан; но они же впоследствии возместили иудаизму «убытки», вдохновив его на создание гаонической мистики (как позднее, видимо, одарили создателя ислама мистической идеей «цепи пророков», а сам ислам вдохновили на создание суфизма и исмаилизма; но об этом — в следующей части нашей книга). Но, может, дело обстояло наоборот, — еврейская мистика предшествовала гностицизму? К этому следовало бы вернуться, но мы сейчас ограничимся тем, что передадим слово арбитру, который лично мне представляется наиболее глубоким из всех, — уже упоминавшемуся ранее Гансу Йонасу. В своем классическом произведении «Гнозис и дух позднеантичной эпохи» он набрасывает грандиозную картину того, как в недрах созданного Александром Македонским эллинистического мира постепенно и исподволь на протяжении нескольких столетий вызревал поразительный и уникальный сплав многочисленных восточных и западных религиозных и мистических учений и культов и как затем эта духовная магма, вырвавшись из ближневосточных недр, хлынула на Запад в грандиозном контрнаступлении, в котором Восток взял реванш за предшествующее — политическое отступление перед Западом. (Отметим, что под Западом Йонас подразумевал Грецию, а под Востоком — то, что мы и сегодня так называем.) Так вот, подыскивая слова для определения центрального ядра этого гигантского духовного процесса, наложившего неизгладимый отпечаток на всю последующую историю западной цивилизации, Йонас долго выбирает между различными возможностями — «временный триумф иудаизма», «победа иудеохристианства» и т. п., — пока не приходит к тому главному, что, на его взгляд, объединяло и пронизывало все эти разнородные составляющие. Это было, говорит он, «вторжение гностицизма». При таком подходе становится понятным, почему гностицизм обнаруживает такое глубокое сходство со столькими и столь разнородными учениями и доктринами древности, начиная с мистики иудаизма и платоновской философии и кончая отголосками буддизма. Становится понятным и то, почему гностицизм, как утверждает Йонас, оказался главной и сквозной идеей позднеантичной эпохи и почему сумел оказать столь мощное влияние на духовное развитие человечества, что это влияние ощущается и в наши дни, — ведь он объединял в себе множество различных влияний и тем самым, как сказали бы химики, имел множество «свободных валентностей», которые позволили ему объединяться с самыми разными мистическими идеями позднейших времен и оплодотворять их своим влиянием. Примерно так же (но в куда меньшем масштабе) вторгся (уже в нашу эпоху) в духовную жизнь России марксизм с его щупальцами свободно-валентных идей, только и ждущих, к кому бы присосаться — то ли к символизму, то ли к богоискательству, то ли к рабочему движению. О гностицизме можно рассказывать долго. На этом закончим наше повествование. >ЧАСТЬ 6 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА >ГЛАВА 1 А БЫЛА ЛИ ОНА ВООБЩЕ?
История насмешлива. Отодвигая события в прошлое, она делает их сомнительными (порой незаслуженно сомнительными) для потомков. При этом, будучи одинаково равнодушной ко всему в себе, она и в этом вопросе не знает исключений. «Я слышал сомнения в реальности Трои», — писал Байрон после посещения Гиссарлыкского холма. И предрекал, улыбаясь: «Со временем усомнятся и в Риме». Подлинность Древнего Рима пока еще несомненна, но реальность Троянской войны в последние столетия действительно стала — предметом бурных споров. Не то было раньше. «Для античности, — говорят Гиндин и Цымбурский, — Троянская война была несомненным фактом… О ней напоминали родословные, идущие от ее героев, названия основанных ими городов, гавани, где были стоянки их кораблей». Эти родословные и названия были известны всем. Великий Вергилий в своей поэме «Энеида» писал, что когда уцелевший троянец Эней в своих странствиях навстречу судьбе (ему было якобы предназначено основать Рим, который возродит троянскую славу) добрался до далекого Карфагена, что на другом от Трои конце Средиземного моря, и попытался поведать тамошней царице Дидоне, откуда он родом, оказалось, что Дидона и сама уже может рассказать ему историю осады и гибели Трои и ее героев. Как объясняет В. Топоров в своей книге «Эней — человек судьбы», Вергилию, писавшему в I веке до н. э., представлялось очевидным, что в Энеевы времена о падении Трои должен был знать каждый средиземноморец, коль скоро это было реальное событие, потрясшее весь средиземноморский мир. Свидетельств такой безусловной веры многих поколений (от Гомера к Вергилию и далее до средневековых) в историческую реальность Троянской войны несчетное множество; вот одно из них, возможно, самое яркое. В «Илиаде», рассказывая о главных героях Троянского похода, Гомер среди прочих повествует бб Аяксе — царе Локриды, что находилась в срединной Греции неподалеку от Дельф с их оракулом. Гомер называет этого Аякса «малым», чтобы отличить от другого, «большого», или «великого», Аякса Теламонида:
Помимо отличного метания копья, Аякс Локридский отличался, видимо, еще и необузданно диким нравом — после взятия Трои он ворвался в храм Афины, где пророчица Кассандра, ища спасения, прильнула к статуе богини, и, увидев несчастную девицу, воспылал к ней нечистым желанием; а поскольку ему никак не удавалось оторвать руки Кассандры от статуи, он схватил ее за волосы и потащил прочь вместе с каменным изваянием. Этим поступком, осквернившим алтарь Афины, Аякс Локридский вызвал понятную и вечную ненависть богини, и вот, как сообщают древнегреческие памятники, жители Локриды даже в IV веке до н. э., т. е. спустя тысячу лет (!) после описанных Гомером событий, были настолько убеждены в реальности этого давнего проступка своего давнего царя, что продолжали замаливать его вину перед Афиной и отвращать ее гнев, ежегодно отправляя двух своих девушек (из самых аристократических семей) в отстроенную к тому времени Трою, дабы они служили там хранительницами восстановленного храма оскорбленной богини. Правда, некоторые скептики издавна утверждали, что обвинение Аякса в попытке изнасиловать Кассандру было облыжным и его якобы придумал в каких-то своих целях хитроумный и коварный Одиссей. Но если даже локридцы поверили наговорам Одиссея, все равно, они и в этом случае, в конечном счете, поверили Гомеру. Нет, бесспорно, сомнения в исторической достоверности гомеровского рассказа не приходили тоща в голову почти никому — разве что Анаксагору, который, видите ли, требовал доказательств этой достоверности; но на то Анаксагор и был философ. Всем прочим людям, нефилософам, доказательства казались излишни, ибо, как писал древнегреческий историк V века до н. э. Фукидид, «в правдивости гомеровского рассказа не приходится сомневаться», поскольку за нее ручаются «великие поэты и всеобщая традиция» («поэты» здесь во множественном числе, потому что, кроме гомеровских, существовали и несколько менее пространных поэм о Троянской войне, совместно известных как «Эпический цикл» и дошедших до нас в записях VI века до н. э.). «Ручательство» это становилось тем более убедительным, что поэты и традиция взаимно удостоверяли подлинность своих свидетельств: например, «Эпический цикл» утверждал, что Афина наложила на Локриду тысячелетнее проклятие и, согласно традициям самих локридцев, им суждено было посылать своих девушек в. Трою тоже на протяжении тысячи лет, так что они покончили с этим тягостным обычаем лишь в 264 г. до н. э., тем самым заодно засвидетельствовав, что, согласно их традиции, падение Трои произошло в 1264 г. до н. э. Кстати говоря, хотя вера в реальность этого события не умалялась с веками, но сама его дата постепенно уходила в туман и уже в древности стала предметом ожесточенных споров. Так, великий древнегреческий историк Геродот (484–424 гг. до н. э.) путем сопоставления генеалогий царских семей, сохранившихся в различных греческих традициях, пришел к выводу, что поход на Трою состоялся в 1260 г. до н. э., чем, в сущности, научно подтвердил «традиционную» датировку. С другой стороны, двумя столетиями спустя географ и астроном Эратосфен (276–194 гг. до н. э.), использовав те же данные, что Геродот, но подойдя к ним с большей придирчивостью, заключил, что Троянская война началась на сто лет позже, в 1164 году до н. э. (Многие ученые до сих пор считают это наиболее авторитетной датировкой.) Самой древней из называвшихся дат Троянской войны был 1334 год до н. э., самой поздней — 1135-й, а вот некий безымянный резчик, живший как раз между Геродотом и Эратосфеном, в начале III века до н. э. высек на мраморном памятнике в Фаросеи такую (уже неизвестно откуда взятую) дату того же события: 5 июня 1200 года до н. э. — то есть с точностью не только до месяца, но даже до дня! Во всем этом важна, конечно, не сама дата и даже не то, что разные даты отличались друг от друга, — куда важнее поразительная готовность каждого автора назвать точную дату, ибо такая готовность, несомненно, проистекала из абсолютной веры в реальность описанных Гомером событий. Нам, современникам, трудно разделить эту наивную уверенность — прежде всего потому, что, как нам сегодня уже известно, догомеровская (а скорее всего, и гомеровская) Греция еще не знала письменности (а точнее, знала, но утратила, как выяснилось позже, причем еще в XII веке до н. э., задолго до времен Гомера); поэтому народные предания (то, что Фукидид называл «всеобщей традицией») никем и никак не могли быть записаны. Незаписанная же «народная память» — весьма ненадежный свидетель. Как писал знаменитый историк Иосиф Флавий, «хотя часто говорят, будто древние греки были первыми, кто стал заниматься прошлым на более или менее точный научный манер, на самом деле, очевидно, что так называемые варвары сохранили историю лучше, чем греки… Дело в том, что греки поздно усвоили алфавит, и он дался им с трудом… так что во всей греческой литературе нет сочинений, относительно которых существовала бы уверенность, что они древнее Гомера. Однако время Гомера было явно намного позже Троянской войны, и даже он оставил свои поэмы незаписанными…» Действительно, тот же Геродот считал, что Гомер жил за 400 лет до него, а это соответствует, как легко посчитать, IX веку до н. э., и хотя некоторые другие историки порой отодвигали время его жизни чуть ли не в XII век до н. э., т. е. делали его прямым современником воспетой им войны, большинство современных ученых склоняется скорее к точке зрения Геродота. Это большинство поддерживает и утверждение Иосифа Флавия о сравнительно позднем возникновении греческой письменности; правда, некоторые пылкие умы в прошлом выдвигали предположения, будто эта письменность была создана уже за столетие до гомеровских поэм или же, в крайнем случае, одновременно с ними (именно для их записывания), а то и самим Гомером (для той же цели), но сегодня это событие единодушно относят примерно к тому же моменту, что и первые общегреческие Олимпийские игры, а они состоялись в 776 г. до н. э. Это мнение достаточно обосновано: самые ранние из обнаруженных на сей день надписей, исполненных несомненно греческим алфавитом, датируются 770 годом до н. э. С другой стороны, сегодня существует и вполне надежное основание считать, что Троянская война, если она происходила, вряд ли могла произойти позже середины XI века до н. э., ибо во второй половине этого века, как свидетельствует археология, союз древнегреческих государств, возглавлявшийся Микенами, уже не существовал — он распался под натиском каких-то пришельцев с севера, а еще через несколько десятилетий рухнули и сами Микены. Стало быть, позже, скажем, 1150 года до н. э. возможность организации того коллективного, общегреческого похода под водительством Микен, какой описан в «Илиаде», стала весьма сомнительной. Таким образом, между Гомером и — описываемыми им событиями зияет временной разрыв протяженностью в 300–400 лет. И тут возникает первый из серии вопросов, в совокупности образующих загадку Троянской войны: могла ли устная традиция сохранить и перенести через такой провал достоверные воспоминания о столь давнем прошлом? Но этот вопрос тут же осложняется еще одним. Допустим все же, что устная традиция сумела сохранить верность далекому прошлому. Но вот незадача: исследования современных филологов убедительно показали, что гомеровские поэмы, которые были вершиной и завершением этого многовекового устного творчества, представляют собой не столько точную (пусть и гениальную) фиксацию «преданий старины глубокой», а скорее — весьма индивидуализированное художественное преображение этих фольклорных материалов. Но можно ли в таком случае говорить об их исторической достоверности? Можно ли говорить об исторической реальности неких событий на основании текста, хоть и рассказывающего об этих событиях, но созданного по законам поэтического творчества? Иными словами, насколько надежны свидетельства гомеровских поэм? Обратимся к Гомеру. >ГЛАВА 2 ГОМЕР И ЕГО ПОЭМЫ Что мы знаем о Гомере? Что он был автором двух пространных, изложенных гекзаметром поэм «Илиада» и «Одиссея», в которых повествуется о десятилетней войне греков (в этих поэмах они именуются более древним названием «ахейцы») против троянцев, жителей города Троя, что существовал когда-то на западном берегу малоазиатского (ныне Турецкого) полуострова. Однако современная историко-филологическая наука утверждает, что самым первым источником всех знаний и представлений об этой войне был не Гомер, а предшествовавшая ему древнегреческая народная традиция — эпические сказания, изустно передававшиеся сказителями-певцами («аэдами») из поколения в поколение задолго до Гомера. Сами эти сказания до нас не дошли, но, начиная с V века до н. э. (т. е. уже много позже Гомера) их тексты, сохранившиеся в неполном и разрозненном виде, были собраны различными греческими авторами — Аполлонием с Родоса, Аполлодором из Афин, Квинтом из Смирны, Арктиносом из Милета и другими — в виде нескольких коротких поэм, повествовавших об отдельных эпизодах Троянской войны, не фигурирующих в «Илиаде» и «Одиссее». Так, «Киприя» Арктиноса Милетского излагала предысторию этой войны; «Малая Илиада» Квинта Смирнского заполняла промежуток между «Илиадой» и «Одиссеей», рассказывая о дальнейших событиях осады Трои — от смерти Гектора и до взятия города (гибель Ахилла; смерть Париса; изготовление «Троянского коня»); во «Взятии Трои» того же Арктиноса рассказывалось о падении троянской крепости, ее разграблении и судьбах ее жителей — царя Приама, его жены Гекубы, дочери Кассандры, вдовы Гектора Андромахи и Елены Прекрасной; поэма «Возвращения» была посвящена истории возвращения греческих героев на родину и судьбам некоторых из них. Следует заметить, что, не будь этих поэм, мы бы не знали сегодня множества знаменитых и красочных деталей, которые ныне у всех на слуху, — ни рассказа о «суде Париса» и похищении им прекрасной Елены (с чего, собственно; и началась вся Троянская распря), ни истории смерти Ахилла, пораженного стрелою в пятку — единственное уязвимое место на его теле, ли многих других; ибо, как уже сказано, ни одной из этих историй нет ни в «Илиаде», ни в «Одиссее». Тем не менее, несмотря на эту неполноту, именно «Илиада» и «Одиссея» являются самым главным и самым авторитетным источником наших сведений о Троянской войне. Объясняется это, прежде всего тем, что эти поэмы уже в древности обрели-статус величайшего произведения греческой культуры. Древние греки считали их чем-то, далеко выходящим за чисто литературные рамки: они учили и воспитывали на них своих детей, почитали как непреложный кодекс нравственности и зачастую даже руководствовались ими в своей практической деятельности. Влияние этих поэм на европейскую культуру последующих веков тоже было огромно. По их образцу было создано величайшее произведение римской литературы — поэма Вергилия «Энеида»; позднее они вошли в литературный кодекс византийской империи, где стали предметом углубленного изучения и комментирования; а еще позже, проникнув из Византии в Италию, оказали глубокое влияние на культуру Ренессанса. В Новое время, обретя благодаря многочисленным переводам даже более широкую популярность, чем Данте или Шекспир, они стали одной из важнейших основ всего классического образования многих поколений европейцев. Не удивительно, что отношение к этим великим поэмам приобретало порой настолько благоговейный характер, что их подчас даже отказывались признавать творением отдельного, пусть и гениального, человека — один немецкий филолог XVIII века выдвинул в свое время фантастическое предположение, что обе они, и «Илиада» и «Одиссея», были созданы посредством спонтанного «творческого выдоха» всего древнегреческого народа как целого. Достоверно известно, однако, что сами древние греки упорно приписывали создание обеих поэм одному конкретному человеку — слепому певцу Гомеру — и даже придумали этому человеку развернутую биографию, согласно которой он родился на острове Хиос в Эгейском море, много странствовал по Малой Азии, Египту и самой Греции и оставил потомков — так называемых гомеридов, взявших на себя задачу сохранения и распространения его поэзии. Еще более детальную (и более фантастичную) биографию Гомера придумал Геродот, который приписал ему несколько поколений предков и великое множество путешествий. Из всего этого единственно достоверным является то, что в более поздние века на острове Хиос действительно существовала гильдия или «школа» поэтов, именовавших себя «гомеридами» и исполнявших преимущественно произведения Гомера, которого они считали своим земляком. Какую позицию в этих спорах занимает современная филологическая наука? Она считает достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал эпический поэт по имени Гомер и что именно он сыграл ведущую роль в окончательном формировании «Илиады» и «Одиссеи» (составные части которых, возможно, существовали уже до него в виде устных поэм). Почему это «достаточно вероятно», станет ясно чуть далее. Пока же заметим вслед за специалистами, что, поскольку некоторые языковые приметы гомеровских поэм близки к особенностям ионийского диалекта древнегреческого языка, который был в ходу у жителей островов восточной части Эгейского моря, то и предание о хиосском происхождении Гомера могло иметь под собой реальную основу, поскольку Хиос относится к Ионическим островам. Многие специфические детали «Илиады» свидетельствуют, что ее автор был хорошо знаком с географическими и климатическими особенностями Хиоса, Родоса и других островов, а также близкого к ним малоазийского побережья. Он, например, упоминает о птицах, гнездящихся в устье реки у малоазийского города Эфес, о виде на горы, открывающемся с Троянской равнины, о северо-западных ветрах, преобладающих на Хиосе, и т. п. Таких восточноэгейских примет много меньше в «Одиссее», что, в частности, побудило Аристотеля высказать предположение, что эта поэма была написана Гомером в глубокой старости, а других исследователей — даже утверждать, будто она вообще приналежит иному автору (к тому же она совершенно отлична по жанру). Тем не менее современная филология и здесь пришла к выводу, что, при всех сомнениях, «Одиссея» была как минимум вдохновлена Гомером, а то и создана им самим. Однако время создания обеих поэм представляется сегодня несколько иным, чем в древности: определенные детали текста побуждают отнести «Илиаду» к концу IX, «Одиссею» — скорее даже к середине VIII века до н. э. А это означает, что они существенно моложе древних поэм «Эпического цикла». Тем не менее «Илиаду» и «Одиссею» нельзя противопоставлять этим поэмам. Как показал в 30-е годы нашего века американский филолог Малькольм Пэрри, поэтика «Илиады» и «Одиссеи» — это все же поэтика устного эпического творчества, и в этом смысле их создатель был прямым продолжателем традиции пред-. шествовавших ему эпических сказителей. Не случайно Гомер и сам применяет для определения поэта тот же термин «аэд», который в древности характеризовал этих певцов-сказителей. Но он. был весьма особым их продолжателем. В своих поэмах он далеко превзошел всех безвестных предшественников. Как показало изучение еще сохранившихся (на Балканском полуострове и в других странах) традиций устного эпического творчества, для поэтов-певцов и сказителей характерно создание сравнительно небольших «песен» (т. е. коротких поэм), каждая из которых содержит часто всего один законченный эпизод и исполняется (при подходящем случае и в подходящей обстановке) в один прием. Это опять же подтверждает сам Гомер, пересказывая в «Одиссее» две такие. законченные песни: одну — о любовном романе между богом Аресом и богиней Афродитой, другую — о придуманном Одиссеем «Троянском коне», — каждая из которых занимает примерно по 100 строк поэмы. Примеры таких же коротких поэм сохранились и в «Эпическом цикле». Так вот, по утверждению специалистов-филологов, главное и величайшее новаторство Гомера состояло в резком переходе от этих коротких песен к качественно новому поэтическому жанру — к монументальной эпической поэме, включающей десятки песен и многие тысячи строк (в одной «Илиаде» их более 16 тысяч). Это новаторство Гомера можно уподобить разве что столь же революционному прорыву последующих времен — изобретению романа как совершенно новой формы повествования. Громадность материала, который становился при этом доступен, широта возникавшей отсюда картины событий, их историческая и психологическая глубина не могли не произвести огромного впечатления на слушателей, привыкших доселе исключительно к коротким рассказам. Можно думать, что слушатели Гомера были столь же потрясены, когда этот неведомый им прежде слепой певец из вечера в вечер несколько дней подряд исполнял перед ними свое монументальное творение. Сам размах этого исполнения предполагал совершенно исключительные творческие качества нового певца, и не удивительно, что имя Гомера с такой силой врезалось в память народа. Не удивительно также, что устная эпическая традиция, достигнув в поэмах Гомера своего высшего, развития, достигла в них и своего естественного завершения: после Гомера петь «по-старому» стало практически невозможным. Произносившийся самим Гомером текст, скорее всего, был нестабильным и несколько менялся от выступления к выступлению. Это не удивительно, ведь, греки в те времена еще не знали письменности, ее широкое распространение началось, мы говорили об этом, лишь во второй половине VIII века до н. э. Но так как слушатели Гомера не обладали его памятью и способностями и в то же время хотели знать его «божественные» (как они их называли) поэмы от слова до слова, то можно думать, что уже с началом распространения греческой письменности начались попытки записи этих поЗм и постепенного приведения этих записей к одному стабильному («каноническому») варианту. Согласно некоторым древнегреческим источникам, уже в середине VI века до н. э., при афинском правителе-тиране Писистрате, «Илиада» зачитывалась по его приказу перед толпами, собиравшимися на площади около построенного тираном величественного храма богини Афины. Поскольку она именно «зачитывалась», то была, надо думать, уже записана, и итальянский философ Нового времени Джамбатиста Вико (1668–1744) даже предположил, что именно по приказу Писистрата поэмы Гомера и были записаны в первый раз и притом в окончательном, «канонизированном» виде, дабы предотвратить дальнейшую порчу этого «национального достояния» при устной передаче. Нам никогда не удастся узнать, так это или не так, потому что первый дошедший до нас (имеющийся в распоряжении ученых) список гомеровских поэм восходит всего лишь к X веку нашей эры — это копия византийского издания 860 года (оригинал его погиб), тщательно отредактированного и снабженного всеми накопившимися за столетия комментариями; копия эта хранится ныне в соборе св. Марка в Венеции и именуется «Венетус А». Каков же этот дошедший до нас текст? О чем он, собственно, рассказывает? Как выглядит в его передаче интересующая нас Троянская война? Оказывается, ее начало лежит за пределами этого текста. Только из поэм «Эпического цикла» (в передаче более поздних авторов) можно узнать, что война началась из-за спора трех богинь — Афины, Афродиты и Геры — за обладание яблоком с надписью «прекраснейшей», которое подбросила им богиня раздора Эрида (Эрис). Зевс велел отвести спорящих богинь в Троаду, к тамошнему принцу Парису-Александру, сыну троянского царя Приама, чтобы тот их рассудил, и Парис отдал яблоко Афродите, обещавшей ему любовь Елены Прекрасной, жены одного из греческих царей Менелая (этим «судом Париса» объясняется, кстати, почему в ходе последующей войны Афродита помогает троянцам, а Гера и Афина — грекам). Далее выясняется, что Парис, вдохновленный обещанием Афродиты, отправился в Спарту, во владения Менелая, и, пользуясь его отсутствием, соблазнил и похитил Елену, а затем привез ее в Трою, где его сестра, пророчица Кассандра, тотчас возвестила, что поступок Париса обрекает город на войну и гибель; Кассандре, однако, никто не поверил, ибо когда-то бог Аполлон, оскорбленный ее отказом ему отдаться, наплевал ей в уста — как раз для того, чтобы никто ей не верил. Однако пророчество Кассандры, увы, оказалось вещим. Опозоренный Менелай обратился к своему могущественному брату — микенскому царю Агамемнону — с просьбой помочь ему отвоевать Елену и отомстить, за унижение. Агамемнон, в свою очередь, обратился к царям других греческих городов, призывая их объединиться для похода на Трою, и его призыв нашел благожелательный отклик. В итоге в составе греческого воинства оказались все великие герои тогдашней Греции — прежде всего, разумеется, Ахилл, но также и Диомед, Филоктет, Одиссей, оба Аякса, «большой» и «малый», и многие-многие другие. (Их поименование вместе с перечнем приведенных каждым из них боевых кораблей и воинов составляет содержание т. н. «списка кораблей», помещенного Гомером в конце второй песни «Илиады». Вспомним у Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины…»). Главой похода был избран Агамемнон — как самый могущественный из всех. Начало похода обернулось для греков неудачно: Аполлон послал им некое знамение, которое прорицатели истолковали как намек, что война будет продолжаться 10 лет. Затем греческие войска по ошибке высадились много южнее Трои, потерпели позорное поражение в битве с тамошними царями, а на обратном пути вдобавок еще попали в бурю и с трудом добрались домой. Все это оттянуло подлинное начало войны (по одним источникам — на несколько месяцев, по другим — на добрых 9 лет), но, как бы то ни было, герои снова собрались и двинулись на Трою, на сей раз, предварительно принеся в жертву — чтобы задобрить богов — дочь Агамемнона Ифигению; этот эпизод позднее стал сюжетом многих трагедий. Высадившись на Троянской равнине, греки долго стояли у неприступных стен Трои, то и дело сходясь с троянцами в рукопашных схватках, где удача попеременно склонялась то на одну, то на другую сторону. Но вот в начале десятого года осады события обрели драматический оборот. Произошла бурная ссора между Агамемноном и Ахиллом: оскорбленный тем, что микенский царь отнял у него пленницу Брисеиду, гордый Ахилл, этот главный герой похода, отказался участвовать в сражениях и укрылся в своем шатре. Узнав об этом, троянцы вышли из города, навязали грекам бой и стали теснить их к гавани, где стояли на якорях греческие корабли. Греки в панике обратились за помощью к Ахиллу, но тот снова отказался выйти в поле, хотя и согласился послать туда своего побратима Патрокла. Но когда главный герой троянцев Гектор (еще один сын; царя Приама) убил Патрокла, обуянный жаждой мести Ахилл бросился наконец в бой и, в свою очередь, убил Гектора. Он устроил торжественное сожжение трупа Патрокла и намеревался уже предать позорному погребению останки Гектора, но прибывший в его шатер престарелый царь Приам воззвал к его состраданию и к чувству воинской чести и в конце концов буквально вымолил у него труп своего сына. «Илиада» начинается со слов: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» — то есть с эпизода ссоры Ахилла с Агамемноном, а кончается сценой сожжения останков Гектора в стенах Трои. Иными словами, ее действие занимает несколько считанных дней. О завершении войны (как и о ее начале), а также о дальнейших судьбах ее героев мы знаем все из тех же внегомеровских источников (в переложении главным образом Аполлодора и Аполлония), которые рассказывают о гибели Ахилла, сраженного стрелой Париса, о гибели самого Париса, о взятии Трои с помощью Одиссеева «Троянского коня» и расправе с уцелевшими сыновьями и дочерьми Приама (Кассандра становится наложницей Агамемнона, Андромаха — Неоптолема, Поликсену приносят в жертву на могиле Ахилла). Из тех же источников (а не только из «Одиссеи») становится известно, что во время возвращения героев из-под Трои многие из них погибли в буре, насланной богами в отместку за насилие, совершенное Аяксом Локридским над Кассандрой, — Менелай и Одиссей были унесены ветрами в дальние страны, где многие годы странствовали в поисках пути на родину; Агамемнон по возвращении в Микены погиб от рук собственной жены и ее любовника. Так что в целом Троянскому походу суждено было стать, как оказалось, последним великим совместным деянием древних греков и как бы ознаменовать собой завершение их древнейшей «героической эпохи»{8}. Наш пересказ может породить впечатление, что «Илиада» — это, в сущности, не столько рассказ о Троянской войне как таковой, сколько рассказ об одном ее небольшом эпизоде — о «гневе Ахилла», о том, как обиженный Ахилл сначала укрылся в своем шатре, не желая сражаться под началом Агамемнона, а потом силою обстоятельств был как бы «вытолкнут» снова на сцену боя, в центр событий. Это так и не так. С одной стороны, в центре «Илиады» действительно находится некий интересный, яркий и по-своему увлекательный эпизод, который в прошлом, до Гомера, вполне мог бы стать (а может быть, и был) сюжетом отдельной небольшой эпической песни. С другой стороны, по мере знакомства с тем, как излагает Гомер этот эпизод, становится все более ясно, что у него он служит скорее рамкой повествования, неким организующим стержнем, позволяющим исподволь и как бы вполне естественно вплести в рассказ события многих предшествующих лет войны, другие ее яркие эпизоды, впечатляющие характеристики ее главных героев и их взаимоотношений, а попутно и многое, многое другое — о людях, о. городах, о странах, о плаваниях, о богах, о пирах, о битвах и так далее, и так далее, иными словами — сделать из незамысловатого эпизода то художественное целое, что, собственно, и составляет литературу. «Гнев Ахилла», таким образом, оказывается мощным художественным средством, дающим автору возможность воссоздать гигантскую эпопею микенско-троянских времен. Типичная литература, этакая «Война и мир» трехтысячелетней давности или, если переиначить Белинского, «энциклопедия всей героической эпохи». И тут, после долгого отступления, мы возвращаемся наконец к обещанному разъяснению, почему современные специалисты считают достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал некий конкретный человек по имени Гомер, который был автором этой гениальной эпопеи. Специалисты-филологи говорят, что эта эпопея никак не могла быть продуктом некоего «коллективного устного творчества» — уже хотя бы потому, что ее продуманная «выстроенность», ее сюжетная и композиционная «организованность», ее «литературность», наконец, — все это неоспоримо свидетельствует об индивидуальном замысле. Почерк индивидуального гения безошибочно виден в том, с какой поразительной композиционной стройностью, как необыкновенно гармонично организован в «Илиаде» весь ее огромный материал, с какой продуманностью он расположен относительно объединяющей его сквозной сюжетной оси, как изобретательно поддерживается при этом его драматичная напряженность с помощью искусно вплетенных в сюжет многочисленных «отступлений в прошлое», играющих роль своего рода «сюжетных задержек», которые последовательно нагнетают у слушателей нетерпеливое ожидание триумфальной развязки (этот древний прием отлично знаком всем зрителям современных кинотриллеров и читателям современных детективов). В конце концов, ожидания, как мы уже знаем, разрешаются благополучно: Ахилл появляется из своего шатра, и «Илиада», как и положено триллеру, завершается своего рода мстительным хэппи-эндом — поражением троянцев и смертью Гектора. Патриотические слушатели Гомера, несомненно, жаждали этого возмездия. Может быть, они даже рукоплескали ему. Тем более что рассказ о последующей гибели самого Ахилла был расчетливо, иначе не скажешь, вынесен автором за скобки всей этой симфонической «романной» структуры. Однако, строго говоря, поэма не кончается на мстительной ноте. Подлинный конец «Илиады» — это плач Приама над убитым Гектором, плач, который смягчает даже сурового Ахилла, плач, в котором горькая и трагическая изнанка войны совсем по-иному высвечивает ее героическую красоту, незадолго до того воспетую тем же Гомером. Так что, в конечном счете, «Илиада» все-таки не завершается стандартным хэппи-эндом и не оборачивается банальным триллером. Пафос гомеровской поэмы куда шире и грандиозней, говорят специалисты. Созданная спустя столетия после конца «героической эпохи», она не просто отображала ее трагический закат: противопоставив его описанной перед тем с той же художественной силой картине величественного расцвета ахейской державы, объединенной под руководством могущественных Микен, она одновременно должна была заронить в душу слушателей тоску по этому былому величию, а заодно и по былому и утраченному единству. Может быть, высокий авторитет Гомера у потомков как раз и был вызван тем, что его рассказ позволял им предчувствовать и предвидеть новое единство вслед за «темными веками», отделявшими героическую эпоху от уже начинавшегося «ренессанса»? Таковы, говоря вкратце, основные выводы современной науки касательно личности Гомера. Однако, ограничившись этими выводами, мы, пожалуй, не приблизимся к ответу на вопрос, в какой степени можно доверять свидетельствам Гомера. Напротив, кое у кого сомнения в достоверности гомеровского рассказа, возможно, даже усилятся. В самом деле, скажет иной скептик, если даже современные специалисты подтверждают, что этот рассказ был сочинен, т. е. представляет собой художественный вымысел некоего автора, и вдобавок был подчинен не только художественным, но отчасти даже идеологически-патриотическим задачам, то можно ли ожидать, что такой рассказ будет исторически правдивым? А может быть, это всего лишь приятная для греческого слуха легенда? Знаем же мы, к примеру, такой, тоже авторский, поэтический роман — знаменитую «Песнь о Роланде», в которой гибель обыкновенного франкского рыцаря, павшего в засаде, которую устроили ограбленные им баски, преображена в героический национальный эпос о «великой битве» христиан… с маврами. Сомнения эти вполне естественны. Чтобы развеять их, нужно выяснить, как отвечает современная филология на вопрос о соотношении преображающего вымысла Гомера с реальной правдой греческой истории. Обратимся к филологии. >ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМА ГОМЕРА Вопрос о соотношении гомеровских поэм с исторической реальностью находится в центре так называемой «проблемы Гомера», споры вокруг которой продолжаются в филологической науке уже добрых полтораста лет. Мы уже говорили в предыдущей главе, что, по одной из версий, первый полный письменный текст этих поэм появился только во времена афинского тирана Писистрата (560–529 гг. до н. э.). Эта «Писистратова версия», выдвинутая итальянским философом XVIII века Джамбатиста Вико, была у него связана с весьма решительным утверждением, будто никакого Гомера на самом деле не было, а прозвище это (одни толкуют его как «слепой», другие — как «заложник») в действительности означало весь коллектив «аэдов», сказителей древних преданий, устно передававших разрозненные части будущей «Илиады» вплоть до писистратовых времен, когда она только и обрела благодаря записи вид единой поэмы. Хотя против этой гипотезы выступали уже многие современники Вико (Гете, например, Даже написал целый трактат, доказывая принадлежность «Илиады» одному автору), она возымела большое влияние, и первые серьезные филологические исследования, посвященные «проблеме Гомера», ставили своей главной целью разъять гомеровский текст на более мелкие куски, якобы принадлежащие различным более ранним устным сказаниям. Такой подход, рассказывают Л. Гиндин и В. Цымбурский в упоминавшемся мною (во вступлении) филолого-лингвистическом исследовании «Гомер и история Восточного Средиземноморья», основывался на господствовавшем поначалу в филологии XX века априорном представлении об устном народном эпосе как о совокупности «окаменевших» текстов, которые после своего создания передавались неизменными от певца к певцу и могли лишь «состыковываться» в готовом виде в более крупные поэмы. Считалось также, что сюжеты этих малых «первичных» текстов должны были быть крайне простыми, а поскольку Гомер начинает «Илиаду» с обещания рассказать о «гневе Ахилла» и затем то и дело нарушает это обещание многочисленными сюжетными отступлениями — в сущности, перебивает сюжет другими короткими рассказами, — такое построение казалось как раз подтверждением того, что «Илиада» является механической смесью «простых» первичных текстов. Был, дескать, в глубокой древности простенький рассказ об Ахилле и Агамемноне, построенный на традиционной формуле «обида — примирение», характерной для многих эпических сюжетов, и к этому рассказу постепенно присоединялись другие, побочные. Эта теория продержалась до 20-30-х годов нашего века. Затем, однако, в результате углубленного изучения эпических традиций, сохранившихся у некоторых балканских и азиатских народов, было выявлено, что от певца к певцу передаются не столько готовые тексты, сколько, скорее, «формульные конструкции» — набор традиционных сюжетов, канонизированных образов и ситуаций, словесно-ритмических формул и тому подобных «готовых наборов», с помощью которых каждый сказитель создает всякий раз заново рассказываемую им историю. Когда эта закономерность была проверена на материале поэм Гомера, оказалось, что и он самым широчайшим образом пользовался таким приемом. Один из исследователей подсчитал, что в некоторых частях его поэм — например, в зачинах и окончаниях речей героев или в характеристиках действующих лиц, — «формулы», от простейших до самых сложных, занимают около 90 процентов текста! Так, уже в первой песне «Илиады» предводитель. Троянского похода, микенский царь Агамемнон, именуется то «пространно-властительным», то «могучим», то «гордым могуществом», то «повелителем мужей»; а пройдя по всем 24 песням поэмы, можно обнаружить, что буквально для каждого из важнейших ее героев заготовлен набор из десятка и более таких характеристик, чередующихся в самом разнообразном порядке. Как ни странно, именно эта «формульность» гомеровской поэтики позволила М. Пэрри и А. Лорду выдвинуть утверждение, что Гомер был «индивидуальным автором внутри коллективной традиции». Это утверждение может показаться противоречивым, однако в действительности оно вполне логично. В самом деле, в том смысле, что некое эпическое сказание, каждый раз импровизируется данным певцом заново, оно действительно является его индивидуальным творчеством; но в том плане, что певец всякий раз использует общий набор элементов, присущий данной культуре и знакомый ее носителям, его произведение, несомненно, принадлежит к коллективному творчеству. Иными словами, Гомер, по мнению Лорда и Пэрри, был гениальным реализатором коллективного эпического канона. Такой точке зрения противостоял В. Шадевальдт, который в конце 30-х годов предложил изучать каждый эпизод. «Илиады» с точки зрения его функций в составе поэмы как целого и показал, используя этот подход, что гомеровская «Илиада» отличается от обычного эпоса наличием строго организованного единства. Ни один из ее эпизодов нельзя изъять, не нарушив общей связности поэмы. Композиция «Илиады» оказалась продуманной и структурно, и эстетически, а это возможно только в том случае, если текст всецело является авторским, то есть ближе к тексту, скажем, Вергилия, чем к песням неграмотных устных сказителей; это не просто реализация эпического канона, а творческое переосмысление его. Однако ведь и авторский текст может быть совершенно различным: грубо говоря, одни авторы создают близкие к подлинной истории романы-хроники, другие расшивают по исторической канве самые фантастические узоры. Что же создавал в этом смысле Гомер? Для суждения о соответствии гомеровских поэм исторической реальности войны ответ на этот вопрос имеет решающее значение. Здесь тоже имели место (и частично до сих пор продолжаются) ожесточенные споры: одни ученые — вроде Д. Пэйджа («История и «Илиада» Гомера», 1959) или Майкла Вуда («В поисках Троянской войны», 1986) — увлеченно утверждали, что «Илиаду» следует считать весьма или даже вполне надежным историческим источником, находя доказательства этого в данных современной археологии и лингвистики; другие, как влиятельный Майкл Финли («Троянская война», 1964), выражали изрядный скепсис в отношении историзма Гомера, находя в его творчестве многие черты сказки и мифа (достаточно вспомнить, что боги играют в «Илиаде» почти такую же роль, что земные герои, да и многие из этих героев описываются как дети богов). Но большинство филологов-гомероведов занимает в этом вопросе срединную позицию, которая совмещает оба указанных взгляда. С одной стороны, говорят эти филологи, эпос, в том числе и гомеровский, бесспорно содержит много мифических и сказочных элементов, поскольку он вырастает, ведет свое начало из мифа и сказки. Тем не менее эпос все-таки отличен от мифа. Как объяснял, например, замечательный российский исследователь мифопоэтики Е. Мелетинский, миф рассказывает о временах «создания» мира и всех его существующих форм, тогда как эпос занимается прежде всего «ключевыми», «героическими» периодами народной истории — вспомним былины о Владимире Красное Солнышко, героизирующие историю Киевской Руси, или, скажем, «Песню о Нибелунгах», отражающую становление раннегерманского общества в том же духе героических сказаний. Во всех этих классических памятниках мировой литературы прошлое народа воплощается по одному и тому же «эпическому канону» — в героических образах и великих деяниях. Все подобные произведения, как правило, монументальны по размаху, и все они, как показывают исследования, представляют собой заключительную стадию развития эпоса — стадию перехода к индивидуальному творчеству. Таким же было, как мы уже знаем, и творчество Гомера. Что же можно сказать об историзме такого эпоса? Этот историзм представляется несомненным (ведь и древний Киев с князем Владимиром, и раннегерманское племенное общество, и другие коллективные герои национальных эпосов различных народов существовали вполне реально), но он весьма специфичен. Эту специфичность блестяще вскрывает характеристика, предложенная крупнейшим специалистом по древним религиям Мирчей Элиаде: «Память об исторических событиях и о подлинных персонажах меняется по истечении двух-трех столетий таким образом, чтобы их можно было подвести под шаблон архаического способа мышления, неспособного к восприятию индивидуального и удерживающего в памяти лишь образцовое, то. есть сводящего события к категориям, а личности — к архетипам». Иными словами, в эпической поэзии появление, былинных, сказочных, мифологических черт попросту неизбежно, но это нисколько не противоречит ее сущностной историчности, поскольку, с другой стороны, в ней непременно должны содержаться и некоторые подлинные, фактические приметы былой истории, которые устный эпос не мог не увлечь с собой в своем развитии, как те зерна, вокруг которых только и могли кристаллизоваться его «архетипы». Эти «зерна» невозможно извлечь средствами одного лишь филологического анализа тут требуется помощь археологии и лингвистики. Мы еще обратимся к показаниям этих наук по вопросу о Троянской войне, здесь же ограничимся лишь несколькими частными примерами, подтверждающими наличие несомненных отголосков исторической реальности в эпических поэмах Гомера. Так, средства современного лингвистического анализа, основывающегося на том, что известно сегодня о диалектах Древней Греции, позволили обнаружить в гомеровском тексте прямые заимствования из языка, на котором говорили за полтысячи лет до Гомера, в древних Микенах. Немецкий исследователь Рейх заметил, что часто встречающаяся в «Илиаде» поэтическая «формула», которую можно перевести как «сила Гераклова», не укладывается в размер гекзаметра, которым написана поэма, но если написать имя Геракла так, как оно, судя по лингвистическим данным, произносилось в Древних Микенах, это противоречие немедленно исчезает. Можно думать поэтому, что данная «формула» сложилась еще в микенскую эпоху и дошла до Гомера неизменной, несмотря на изменившееся произношение. Другое яркое свидетельство в пользу исторической достоверности «Илиады» приводит И. Вуд в своей книге «В поисках троянской войны». Речь идет о так называемом «списке кораблей» во 2-й песне «Илиады». Этот список представляет собой в действительности перечень 164 греческих городов, которые послали свои корабли с воинами для участия в общем походе на Трою. Его отличие от общего стиля «Илиады», неуместность в той части текста, где он находится, и определенные расхождения с остальным текстом поэмы настолько бросаются в глаза специалистам-языковедам, что некоторые исследователи уже давно заподозрили здесь инородную вставку, а Д. Пэйдж даже выдвинул увлекательную гипотезу, что это — подлинный документ времен Микен, своего рода воинская диспозиция, отражающая расположение участников похода во время сражения. Действительно, такие длинные, однообразные списки имен, названий, предметов и т. п. были весьма характерны для древности, для периода возникновения первых, еще пиктографических (т. е. рисуночных) письменностей (полагают, что эти письменности и возникли-то из-за необходимости составлять такие списки). Но в «списке кораблей» есть и другая любопытная деталь, глубокая историчность которой выявилась лишь в наше время благодаря новейшим данным археологии. Здесь упоминаются некоторые подвластные Микенам города, многие из которых во времена Гомера уже не существовали, превратившись в руины, — например, «ветреный Эниспе» или «песчаный Пилос». Как мог Гомер знать о самом существовании этих городов, не говоря уже об этих их особенностях? А между тем раскопки Шлимана и других археологов подтвердили все эти детали. Об историзме Гомера столь же убедительно свидетельствуют и его характеристики Трои. Если бы эпос не содержал крупиц исторической реальности, Гомер никак не мог бы узнать о слабости троянских стен в одном определенном их месте — ведь эти стены давно были погребены под вековыми отложениями. Между тем раскопки Дорпфельда показали наличие такой «слабины» именно в том месте, о котором говорит «Илиада»! Правдивыми оказались и гомеровские описания военного снаряжения, упоминаемые в описании сражений под стенами Трои. Некоторые нестандартные детали этих описаний, вызывавшие недоверие историков, — например, шлем Гектора, украшенный полоской «медвежьих зубов», или «подобный башне» щит большого Аякса, — были впоследствии найдены на изображениях микенского времени, обнаруженных в ходе раскопок Шлимана, Эванса и др. Наличие и обилие всех этих реальных свидетельств далекого прошлого вынудило даже такого убежденного скептика, как М. Финли, признать, что «Илиада» во многом верно воссоздает картину жизни Древней Греции времен расцвета Микен и Трои. Подытоживая, можно сказать, что историко-филологический анализ гомеровских поэм, проведенный учеными XX века, несомненно, приблизил науку к решению загадки Троянской войны. Он показал, что «Илиада» правдиво отражает определенные исторические реалии далекого прошлого, а потому и описываемую в «Илиаде» Троянскую войну тоже может считать более или менее правдивым отражением исторической реальности. Требовать более решительного утверждения попросту нельзя. Филологический анализ не может доказать, что такая война действительно имела место. Как мы уже видели, славные войны и героические походы — одна из обязательных примет любого эпоса («категория архаического сознания», по определению Мирча Элиаде): такое сознание всегда мыслит прошлое в категориях славных войн и великих походов, независимо от того, происходили они в действительности и были ли они славными и великими. Поэтому реальность отдельных деталей — условие, хотя и необходимое, но еще недостаточное для убедительного вывода о том, что они некогда воевали друг с другом. Филологический анализ подводит к выводу о правдоподобии такой войны, но не дает и не может дать однозначных доказательств ее исторической реальности. Такие доказательства могут скрываться только в развалинах древних городов или в текстах древних рукописей. Обратимся поэтому к этим свидетелям истории — к памятникам и документам. >ГЛАВА 4 ТРОЯ И МИКЕНЫ Историко-филологический «суд над Гомером» не помог нам вынести однозначный вердикт касательно исторической подлинности или вымышленности описанной им в «Илиаде» Троянской войны. Реальность этого события может быть подтверждена или опровергнута только археологическими и лингвистическими изысканиями. Но любой археолог, который и впрямь вознамерился бы проверить правдивость гомеровского рассказа, тотчас оказался бы перед трудностью, которую выразительно охарактеризовал английский историк и писатель Майкл Вуд в своей книге «Поиски Троянской войны»: «В определенном смысле проблема историчности Троянской войны не очень изменилась со времен Фукидида, — пишет Вуд. — Гомер и мифы рассказывают нам некую историю; называемые ими места все еще существуют: некоторые из них демонстрируют явные признаки былой могущественности; другие столь же явно свидетельствуют о своей полной незначительности. Если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, как считал Фукидид, то как это доказать? Если вдуматься, Гомер рассказывает историю, в которую на первый взгляд, зная школьную историю Греции, действительно трудно поверить. Он утверждает, будто в XIV–XIII веках до н. э., т. е. чуть ли не за тысячу лет до той «классической эпохи», которую мы, собственно, и привыкли считать «Древней Грецией», здесь уже существовала могущественная цивилизация, охватывавшая почти всю территорию этой страны, включавшая в себя разбросанные по ней многочисленные города-царства во главе с Микенами и способная одновременно выставить в поход сотни боевых кораблей и тысячи воинов, как описывается в «Илиаде». В это трудно поверить еще и потому, что упоминаемые Гомером центры этой цивилизации: те же «богатые золотом» Микены, «крепкостенный Тиринф», «пыльный Πилос», «обильный стадами Орхоменос» и другие — уже в Гомеровы времена представляли собой крохотные, нищие городки, а то и просто груды развалин, да и вся греческая земля была не более чем полупустынным, нищим, безрадостным и необжитым пространством, где лишь предстояло спустя столетия подняться городам и крепостям, дворцам и храмам классической эпохи. Разумеется, Месопотамия или, скажем, Палестина тоже выглядели, еще и в XIX веке, пустынными, нищими и безрадостными, хотя, как мы знаем, за тысячи лет до того здесь действительно сменяли одна другую великие культуры. Но о тех культурах хотя бы свидетельствовали письменные памятники далекого славного прошлого, а единственным «доказательством» существования гомеровской «героической эпохи» был только рассказ самого Гомера да мифы и легенды весьма сказочного, скажем мягко, характера». Отыскать письменные памятники гомеровской «микенской цивилизации», изображенной в «Илиаде», нечего было и думать — еще и в начале XX века считалось, что письменность в Греции появилась не раньше, а то и позже Гомера, в VIII веке до н. э., то есть спустя добрых четыре-пять столетий после пресловутой Троянской войны. Стало быть, археолог, ищущий следы этой войны, мог уповать лишь на раскопки в тех местах, которые Гомер упоминал в связи с походом на Трою, — прежде всего, понятно, на раскопки самой «Приамовой» Трои и «Агамемноновых» Микен, но также, если повезет, — Орхоменоса, Тиринфа, Пилоса и многих других, что перечислены в пространном «списке кораблей» во второй главе «Илиады». Поскольку почти все эти города, как уже сказано, в виде развалин сохранились до нашего времени, обнаружить их местоположение не составляло особого труда. Вот как выглядел по состоянию на вторую половину XIX века примерный инвентарный список этого «гомеровского наследия». Открывала список, разумеется, Троя. Со времен Гомера ее приблизительное местоположение было известно всегда. Практически не было такой эпохи, когда бы современники не могли уверенно указать, где находится этот знаменитый город (что, кстати, в немалой степени подкрепляло их веру в правдивость гомеровского рассказа). С гомеровских времен и вплоть до эпохи Александра Македонского, то есть на протяжении пяти с лишним столетий, в Малой Азии, вблизи пролива Дарданеллы, существовал город, именовавшийся «Эллинской Троей», или «Новым Илионом», с величественным храмом Афины и протяженными стенами, которые, по преданию, включали в себя и останки стен Древней Трои. Чуть позже, примерно в 300 году до н. э., полководец Александра Лизимах построил южнее этой крепости новый город, назвав его Александрией Троянской; этот город (во всяком случае, его развалины) просуществовал до римских времен. Через шесть столетий после Лизимаха римский император Константин (тот, что сделал христианство официальной религией империи) построил на месте бывшей «Эллинской Трои» еще один город, который впоследствии получил название «Византийской Трои». Эта очередная Троя, в свою очередь, просуществовала несколько столетий. Ее развалины видны были даже тысячу с лишним лет спустя, во времена султана Бехмета (взявшего Константинополь). За эти тысячелетия (а от Гомера до Бехмета прошло как-никак две тысячи триста лет) Троя благодаря гомеровским поэмам превратилась в место настоящего паломничества — не было, кажется, такой исторически важной персоны, от Александра Македонского в 334 году до н. э. и до лорда Байрона в 1810 году н. э., кто не почел бы своим долгом лично приобщиться к древней славе этого места и произнести какие-нибудь подобающие ситуации слова. Александр Македонский, как утверждали его верноподданные биографы, нашел здесь (под алтарем храма Афины) меч «самого Ахилла», с которым отправился затем на завоевание Азии; Юлий Цезарь поклялся восстановить Трою и сделать ее столицей Римской империи; Константин Великий повторил эту клятву (что не помешало ему впоследствии перенести свою столицу на берега Босфора, в стратегически более важный Константинополь); и еще спустя тысячу с лишним лет упомянутый выше турецкий султан Бехмет, поставив ногу на указанную ему переводчиками «могилу Аякса», провозгласил, что, взяв Константинополь, он-де всего лишь отомстил грекам за разрушение Трои! Словом, Троя — как город, как населенное место — была несомненной исторической реальностью — уже с времен «классической» Греции и вплоть до недавней современности. Печальный факт, однако, состоял в том, что уже к началу XVII века развалины последней по счету Трои тоже были полностью погребены землей. Как писал тогдашний английский автор, «даже руины были уничтожены». Одной из причин тому было беспощадное время, другой — усердно помогавшие ему небольшие, но частые землетрясения, по сей день весьма характерные для этих малоазийских мест. В результате ТОЧНОЕ знание местонахождения «Приамовой Трои» было утрачено. Ее европейским искателям (а любителей искать ее всегда хватало) приходилось руководствоваться разве что указаниями «Илиады» и некоторых греческих мифров. Мифы эти, при всей их сказочности, содержали важные детали. Так, в одном из них (записанном в V веке до н. э. Аполлодором Афинским) рассказывалась «предыстория» гомеровской Трои. Жил будто бы некогда некий Илус, который заложил на западном берегу Малой Азии город Илион, он же Троя, окруженный мощными стенами и нависавший над самым проливом Дарданеллы, ведущим в Черное море и в Колхиду (от Дарданелл, надо думать, и название жителей Трои, которых Гомер зачастую именует «дарданцами»; впрочем, вполне возможно, что и наоборот: от жителей пошло современное название пролива). Илус якобы оставил свое Троянское царство сыну Лаомедонту, а тот, видимо, чем-то раздосадовал греков-ахейцев, потому что миф рассказывает далее, что великий Геракл, прервав, по разным «объективным причинам», свое участие в походе аргонавтов, решил навести порядок на берегах Дарданелл и предпринял поход против Трои. Поход оказался удачным для греческого героя и сокрушительным для Трои: Геракл сжег город, разрушил его стены, убил в рукопашной схватке царя Лаомедонта и посадил вместо него молодого Приама — того самого, которого в рассказе Гомера мы встречаем уже почтенным старцем с пятьюдесятью сыновьями, и двенадцатью дочерьми во дворце. Судя по этой детали, поход Геракла состоялся примерно за 2–3 поколения до Троянской войны (это значит: в XIV или, может быть, даже в XV веке до н. э.). Если довериться этому сказанию, из него можно извлечь весьма любопытные выводы. Самым важным в местоположении Трои было то, что она прикрывала — проход в Дарданеллы. Троянцы, таким образом, владели ключами к Черному морю. Это обстоятельство было крайне существенным. Поскольку греки издавна вели торговлю с народами на черноморских берегах (не случайно аргонавты искали золотое руно именно в Колхиде), свобода судоходства через Дарданеллы была для них, надо думать, весьма небезразлична; троянцы же эту свободу, видимо, пытались ограничить — в свою, разумеется, пользу. Это позволяет думать, что сказание о походе Геракла на Трою является одним из отголосков этой давней и длительной «борьбы за проливы» между греками и троянцами. Комментируя это сказание, Р. Грейвз («Греческие мифы», 1955, гл. 137) замечает, что «Лаомедонт, видимо, препятствовал греческим торговым экспедиция в Черное море, и приструнить его можно было, только разрушив город, владевший Дарданеллами». Не был ли, в таком случае, и следующий поход греков на Трою — тот, что описан Гомером, — еще одной такой «карательной экспедицией»? Как бы то ни было, всего сказанного еще недостаточно, чтобы найти, где в точности располагалась древняя Троя. Но, к счастью, есть ведь рассказ Гомера, а рассказ Гомера, надо сказать, в любом своем месте изобилует живыми, точными и зримыми деталями. И там, где Гомер описывает Трою, тоже так и видишь — могучие стены на высоком холме над равниной и две извивающиеся по ней реки (Скамандр и Симиос, ныне турецкие Медерес и Думрек Су), по которым корабли греков поднимаются почти к самым стенам;.так и слышишь вой бешеных ветров, бушующих над осажденным городом; так и ощущаешь жар, идущий от одного из бьющих под стенами источников, и ледяной холод, идущий от другого… — но здесь, пожалуй, лучше передать слово самому Гомеру (песнь 22-я, строки 145–153, сцена погони Ахилла за Гектором): «Мимо холма и смоковницы, Как он писал, этот слепой гений, три тысячи лет назад, вы только вслушайтесь: «…хладный, как град, как снег; как в кристалл превращенная влага»! Вернемся, однако, к скучной прозе. А скучная проза жизни состоит в том, что ни одно из этих поэтических указаний Гомера, увы, не помогает, оказывается, обнаружению Древней Трои. Злые колючие ветры никогда не прекращаются на всей равнине бывшего Скамандра (на это непрерывно жаловался потом в своих письмах с раскопок Генрих Шлиман); эта равнина действительно изобилует ключами, но двух таких, где. температура воды разнилась бы так сильно, как указывается в «Илиаде», ни одному искателю «Приамовой Трои», несмотря на все усилия, найти не удалось; а что касается кораблей, поднимавшихся по реке к самой крепости, то за прошедшие тысячелетия воды в этих местах отступили так далеко от прежних берегов, что ни один холм на равнине Скамандра (Мендереса) сегодня не имеет прямого выхода к морю. (Это, между прочим, было еще одной причиной упадка и разрушения последней по счету, «византийской», Трои.) Иными словами, стоя на Троянской равнине и оглядываясь кругом, можно сказать только, что Древняя Троя погребена, по-видимому, где-то в толще какого-то из многочисленных окрестных холмов, да вот беда — неизвестно какого. Иное дело Микены. Здесь в точном местонахождении древнего города не приходилось сомневаться. Даже в наше время стоит выйти из автобуса, приволокшего тебя по извивам дорог из далеких и шумных Афин в тишину курчавых гор Арголиды, как нетерпеливому взгляду тотчас открываются (точно такие, как представлял) — зубцы древних стен, охватывающие заросшую вершину крутого холма, а в тех стенах — знаменитые Львиные ворота, на удивление невысокий проход, охраняемый двумя вставшими на задние лапы безголовыми каменными львами. Знаменитое, древнее, почти «знакомое» место — только разве что неожиданно невзрачное и стесненное, как на нынешний туристский вкус. Только размах соседствующей с развалинами громадной пещеры, именуемой «гробницей Атридов», один лишь и способен, пожалуй, примирить ворчливого туриста с потерей целого дня в утомительной поездке. Почти в таком же жалком виде «Агамемноновы» Микены находились уже в гомеровские времена: древнегреческий историк Фукидид, описывая (в V веке до н. э.) город под таким названием (тогда это еще был город, а не сегодняшние развалины), называл его «небольшим», сообщая, что на битву под Фермопилами тогдашние Микены выставили всего 40 человек! Впрочем, уже через несколько столетий и этот жалкий городок исчез, превратившись в развалины, и уже во II веке н. э. историк Павсаний с удивлением размышлял: неужто эти руины и есть великая столица Агамемнона? Почти две тысячи лет спустя, в 1876 году, Шлиман увидел руины Микен в точности такими, какими их описывал Павсаний. То же самое можно сказать и о других древних «царских столицах», упоминаемых Гомером. В тех же местах, на Пелопонесском полуострове (это, кто не помнит, юго-западная оконечность материковой Греции), вплоть до наших времен поближе к морскому побережью были видные уцелевшие остатки поистине циклопических укреплений гомеровского «крепкостенного Тиринфа». А в срединной Греции, вблизи Афин, можно было увидеть развалины некогда «богатого стадами» Орхоменоса. Несколько хуже обстояли дела с «песчаным Пилосом», еще одним центром воспетой Гомером «микенской цивилизации». Хотя город с таким названием существует и сейчас, на западном берегу Пелопонесса, но недаром у греков издавна была в ходу поговорка: «После Пилоса был еще один Пилос, а рядом еще один»; города с таким названием сменяли в этих местах друг друга неоднократно, так что найти погребенные в земле руины самого древнего из них, гомеровского, тоже было непросто. Шлиман, во всяком случае, ошибся, начал искать Пилос. не там, ничего, естественно, не нашел и в досаде прекратил раскопки. Только перед самой Второй мировой войной Карлу Блегену удалось отыскать «настоящий» древний Пилос. Проведя эту беглую «инвентаризацию руин», мы можем лишь, кажется, воскликнуть вслед за другими скептиками: «Да действительно ли существовала, и притом уже в той баснословной, покрытой мраком забвения древности, то бишь в XIV–XIII веках до н. э., — та могущественная «микенская цивилизация», которую изобразил Гомер в своей «Илиаде»? Да неужто уже в те «варварские», по греческим меркам, времена этот невзрачный ныне городок Микены был столь могуществен и влиятелен, что мог организовать общегреческий — многолюдный, многокорабельный и многолетний — поход против Трои?» Пыльная скудность всех этих развалин способна, скорее, убедить лишь в обратном. Как я уже заметил, мы не окажемся одиноки в своем скептицизме. Этот вопрос задавал себе еще Фукидид, удивленный неприглядностью современных ему Микен, и из его текста видно, как он буквально заставлял себя поверить в правоту Гомера: «Верно, Микены. — небольшой город, и многие города того периода выглядят сегодня не очень внушительно, но мы… не имеем права судить города по их внешнему виду, а не по их реальному могуществу.» Весь вопрос, однако, как раз и заключался в том, существовало ли в описанные Гомером времена это «реальное могущество». И здесь нам остается лишь вернуться к уже процитированным словам Майкла Вуда: «В определенном смысле проблема… не очень изменилась со времен Фукидида — если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, то как это доказать?» Специалисту, историку, ученому и впрямь очень трудно найти это зерно. Он знает, что когда-то, примерно за две тысячи лет до нашей эры, Греческий полуостров заселили дикие племена, пришедшие откуда-то из глубин Малой Азии или Балкан; что и после этого здешние земли раз за разом становились добычей очередных завоевателей-варваров, последними из которых были вторгшиеся с севера (примерно в 1100 году до н. э., много позже предполагаемых времен Троянской войны) племена дорийцев; что затем в истории Древней Греции наступил многовековой провал, который ее собственные (более поздние) летописцы назвали «Темными веками»; и что из этого своего беспамятства Греция вышла на свет истории лишь в начале VIII века до. н. э. — скудно заселенной, бедной, безграмотной страной, самый великий тогдашний поэт которой, Гесиод, сочинял свою (ныне знаменитую) философско-мифологическую поэму «Теогония», в изнеможении бредя за буйволом, медленно тащившим железный плуг по нищей борозде. Величие того, что мы сейчас называем «Древней Грецией», лежало далеко впереди Гомера и Гесиода, и какой же грамотный историк решился бы (без всяких тому фактических подтверждений, на основании одних лишь поэм Гомера) всерьез утверждать, что еще большее величие Греции лежало далеко позади, за бездной «Темных веков», еще до вторжения дорийцев, в некой «героической эпохе» некой «микенской цивилизации»? Уже тогда разговоры о «великих исчезнувших цивилизациях» (о которых к тому же зачастую и по сей день утверждается, будто они намного превосходили цивилизации современности) вызывали у всякого серьезного ученого определенную интеллектуальную неловкость. Не случайно ведь педантичный немецкий историк XIX века Г. Гроте начал свою «Историю Греции» лишь с Олимпиады 776 года до н. э., с первого греческого события, о котором есть надежные письменные свидетельства: «Все предшествующие времена, — писал он, — это область поэзии и легенд». К счастью для науки, за поиски Трои и Микен взялся любитель-дилетант, который не был серьезным ученым и потому верил в правдивость этих «легенд». Этим смельчаком, как всем сегодня известно, был Генрих Шлиман. >ГЛАВА 5 ШЛИМАН: ОТКРЫТИЕ МИКЕНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Существуют, две биографии Генриха Шлимана. Согласно первой из них, любящий отец (протестантский пастор) подарил семилетнему сыну толстую книгу «Всеобщая история», содержавшую пересказ «Илиады», и тем самым навсегда заронил в маленького Генриха мечту отыскать описанную Гомером Трою. Дальнейшее общеизвестно: разбогатев на деловых операциях, Шлиман решил осуществить свою детскую мечту, сменил сюртук бизнесмена на блузу археолога, отыскал, согласно указаниям Гомера, в которые он свято верил, старинный холм, в толще которого скрывались остатки древней Трои, и — раз-два! — обнаружил там ее развалины. Затем он примерно тем же способом (раз-два!) нашел в развалинах Микен гробницу древнего царя Агамемнона, руководившего, согласно Гомеру, походом греков на Трою, и тут уж его слава стала поистине всемирной, но в это время он как-то неожиданно умер — упал прямо на улице и в одночасье скончался. Лет его жизни, как говорилось в старину, было 68 — с 1822-го по 1890-й. Существует вторая биография Шлимана, не столь — лубочная, как первая. Шлиман, несомненно, заслужил звание «отца археологии», как некогда Геродот — «отца истории», но это не отменяет того факта, что его методы раскопок были ужасны и разрушительны, а датировка — приблизительна и, как правило, ошибочна. Он был неутомим и самоотвержен в археологическом труде, но окружал свои находки шумной и отталкивающей рекламой, достойной скорее бизнесмена, каким он и был, нежели ученого, каким он не был. Он был одарен потрясающей интуицией, но начисто лишен вкуса (чего стоила напыщенная телеграмма, отправленная им в греческие газеты с раскопок в Микенах: «Сегодня я взглянул в лицо Агамемнона»!). Его жизнь была полна удивительных коммерческих подвигов (дерзкие, на грани закона, деловые операции в России, спекулятивная скупка золота у старателей Калифорнии, монополизация порохового рынка во время Крымской войны и другие хищные налеты на легкую добычу), но он еще вдобавок и сам приукрашивал и расцвечивал ее собственным вымыслом (своему отцу, запойному пьянице и мелкому семейному тирану, он писал уже в зрелом возрасте: «Я рассказал журналистам, что это ты впервые познакомил меня с историей Трои и с тех пор я начал мечтать о том, как я ее отыщу…» — словно наставляя престарелого родителя в своей придуманной «на продажу» биографии). Он оставил по себе 11 толстых книг о своих открытиях, 18 путевых дневников, 60 тысяч писем и 175 томов раскопочных тетрадей, но исследователи до сих пор не могут понять, где факт, а где вымысел в этой огромной массе материала. Например, в своей книге «Троя» он рассказал почти детективную историю о том, как во время раскопок Трои его жена, гречанка Софья, приметила в глубине траншеи полускрытое землей золотое ожерелье и как ей пришлось прикрыть его своей длинной юбкой, пока Шлиман не уговорил рабочих разойтись на обед, чтобы скрыть от их завистливых глаз поразительную находку, составлявшую, как оказалось, лишь ничтожную часть богатейшего клада, который впоследствии получил название «сокровища царя Приама». Однако куда более поразительным, чем эта находка, многие тогдашние недруги и нынешние биографы считают тот факт, что в действительности (это доказано вполне надежными документами) Софьи Шлиман в это время не было не только на раскопках, но и вообще в Турции! Был даже пущен слух, что «сокровища Приама» Шлиман купил на стамбульском рынке и сам подбросил в траншею. Доказать или опровергнуть это не удалось: после того как Шлиман тайком от турецкого правительства вывез сокровища в Грецию, основная их часть бесследно исчезла. Сохранились лишь немногие фотографии и среди них самая знаменитая — Софья Шлиман «в диадеме и ожерелье Елены Прекрасной»{9}. Знакомясь с этим списком претензий, начинаешь удивляться — что же все-таки сделал этот человек, которого обвиняют в том, что он чуть ли ничего не сделал? Шлиман сделал великое дело. До него вся так называемая «археология» состояла в том, что сотни любителей искали в старинных развалинах зарытые там сокровища или случайно сохранившиеся старинные, рукописи и предметы искусства; в лучшем случае они составляли описания развалин и собирали то, что лежало на поверхности. Шлиман был первым, кто стал вести планомерные и целенаправленные раскопки, и притом с серьезной научной целью — найти следы древней цивилизации, обнаружить не столько ее клады, сколько ее историю и культуру, проверить рассказы древних об их далеком прошлом. Эти первые широкие поиски материальных свидетельств прошлого и породили всю современную научную археологию как исследовательское орудие историков. Спору нет, они породили также и то, что можно назвать «сенсационной археологией» — ту ее глянцево-приукрашенную, облегченно-газетную версию, что то и дело возбуждает читателей во всем мире открытием какой-нибудь очередной гробницы Тутанхамона. Но в науке главным достижением Шлимана является все-таки не находка «сокровища Приама» или «маски Агамемнона», а обнаружение «Приамовой Трои» и «Агамемновых Микен» — впечатляющее «воскрешение из мертвых» необыкновенно сложного и многоцветного мира, погребенного в глубинах прошлого. Напомню: к началу работ Шлимана наука о человеческой истории находилась в самом зачаточном состоянии; даже термины «палеолит» и «неолит» были придуманы лишь за несколько лет до того, а первая книга о древней истории (Вильсон: «Предысторические анналы») появилась только в 1851 году; но уже тридцать лет спустя Р. Даукинс имел все основания говорить: «Археологи подняли изучение древностей до уровня настоящей науки». И кто же ее поднял на этот уровень за столь короткий срок? Вот именно — Генрих Шлиман в первую очередь. Пусть поначалу дилетантски-грубо, с неизбежными издержками, с ошибками и преувеличениями, но именно он (и поначалу в одиночку) проделал всю или почти всю работу по превращению археологии в науку, — и первый шаг к этому он сделал в 1868 году в Турции, на холме Гиссарлык. Я уже рассказывал, что множество холмов на Троянской равнине оспаривало честь быть хранилищем остатков Древней Трои, подобно тому, как множество городов Древней Греции оспаривали в свое время честь считаться родиной Гомера. Главными фаворитами были Гиссарлык, находившийся на самом краю плато, обрывавшегося к равнине Мендереса-Скамандра, и лежавший несколько дальше в глубине плато Бурунбаши. Шлиман мог бы ошибиться в своем выборе места раскопок (как он впоследствии ошибся при поисках Пилоса), но, на его счастье, сопровождать уважаемого гостя в экскурсии по Трое вызвался большой знаток тамошних мест и по совместительству американский консул в этой провинции Оттоманской империи Франк Кальверт. Этот незаурядный, судя по воспоминаниям, человек тоже интересовался древностями и даже предпринял некогда пробные раскопки на Гиссарлыке. Заложенная им траншея была неглубока и коротка, но и этого хватило, чтобы убедиться, что холм содержит несколько «культурных слоев» (следов существовавших здесь когда-то одно за другим и одно над другим поселений). Под влиянием Кальверта Шлиман решил искать Трою именно на Гиссарлыке{10}. Свои раскопки он начал в 1871 году. К концу третьего года работ Шлиман вскрыл пять последовательных культурных слоев, один под другим, и убедился, что каждый из них представлял собой останки сменявших здесь друг друга древних городов. К сожалению, будучи дилетантом в предпринятом им новом деле, Шлиман приказывал рабочим вести траншею напрямик, сквозь все препятствия, и в результате разрушил попутно многие более поздние останки. Позднее он оправдывался: «Поскольку моей целью было раскопать Трою, которую я ожидал найти в одном из самых нижних слоев, я был вынужден разрушить руины в слоях более высоких». (Как теперь известно, он попутно разрушил руины и той Трои, которую искал.) Тем не менее во втором снизу слое на глубине 15 метров (по нынешней нумерации, это Троя-2) он обнаружил более или менее «гомеровский» элемент: развалины большой крепостной башни. В марте 1873 года в этом же слое были найдены остатки мощеной улицы, покрытые толстым слоем разноцветного пепла (пепел — это пожар, а пожар — это война!), а также развалины двух больших ворот, заваленных обломками. И, наконец, несколько позже, под самый конец сезона, здесь же были раскопаны и знаменитые «сокровища Приама» — золотая «диадема Елены Прекрасной», как тотчас назвал ее Шлиман, собранная из 16 тысяч золотых звеньев, и множество других золотых украшений{11}. Все это убедило его, что он отыскал заветную цель. Да и как иначе: укрепления, сокровища, а главное — пепел! Пепел — это пожар, а пожар — это война, не так ли?! И какая же, если не Троянская? С момента сенсационной публикации всех этих гиссарлыкских открытий за Шлиманом прочно укрепилась слава «человека, который нашел Трою». В каком-то смысле это было справедливо, потому что он действительно нашел «точное местоположение» этого древнего города. Однако ту Трою, которую он искал — гомеровскую, «Приамову» Трою, — найти оказалось значительно труднее. Шлиман поторопился, объявив ею найденную им Трою-2. Это отождествление сразу вызвало у специалистов серьезные сомнения: Троя-2 была слишком мала по размерам (всего 100*80 метров), а грубость и примитивность ее строений никак не соответствовала пышным описаниям Гомера. Шлиман, правда, пытался убедить скептиков (а заодно, наверно, и самого себя), что «Гомер был эпический поэт, а не историк; к тому же он видел Трою через 300 лет после ее разрушения», но и сам не мог не согласиться: «Если Троя действительно была таким небольшим по размерам городком, то несколько сот человек могли взять ее за несколько дней, и тогда всю «Троянскую войну» пришлось бы признать полным вымыслом…» Эти сомнения заставили его вскоре вернуться на Гиссарлык. И еще не раз вернуться. В промежутке, однако, он совершил поистине «кавалерийскую атаку» на Микены, которые Гомер описал как столицу Агамемнона, возглавлявшего Троянский поход. Как и на Гиссарлыке, он руководствовался здесь буквалистским прочтением свидетельств древних авторов — в данном случае историка II века Павсания. В своем описании Микен Павсаний утверждал, что гомеровский Агамемнон был похоронен внутри стен древней крепости. Поскольку сохранившиеся к XIX веку стены Микен охватывали очень малое внутреннее пространство, недостаточное для размещения пышных царских гробниц, все исследователи считали, что Павсаний имел в виду какие-то другие, наружные, более протяженные стены, которые, видимо, разрушились еще в старину (останки таких стен были, действительно, найдены при последующих раскопках, уже после Шлимана). Но Шлиман, читавший своих древних наставников буквально, начал раскопки именно в пределах сохранившихся стен, с внутренней стороны Львиных ворот. Слой обломков, заваливших здесь бывшую крепостную площадь, был в несколько метров толщиной; Шлиман, не задумываясь, приказал своим рабочим вымести этот слой и проложить через расчищенное место горизонтальную траншею. Стоит ли говорить, что он опять нашел то, что искал! Раскопки почти сразу вскрыли поразительное сооружение — ряд вертикально поставленных плоских каменных плит, образующих кольцо диаметром метров в тридцать. Площадка внутри этого круга явно была выровнена еще в древности, и на ней, вкопавшись до самого скального основания, рабочие обнаружили входы в пять вертикальных округлых колодцев-гробниц. Эта площадка впоследствии получила название «первого круга гробниц». Но главное состояло в том, что в этих гробницах были обнаружены сохранившиеся с глубокой древности останки девятнадцати мужчин и женщин и двух детей. Их скелеты были буквально погребены под грудой бесчисленных золотых украшений и предметов; на лицах мужчин были золотые маски, черты которых повторяли черты их лиц; тела были покрыты доспехами из золотых листьев; на женщинах были золотые браслеты и диадемы; вокруг лежали мечи и кинжалы с изумительными изображениями батальных и охотничьих сцен, кубки и чаши с тончайшими рисунками и многое-многое другое{12}. Что должен был подумать человек, наизусть знавший Гомера, увидев эти богатейшие захоронения? Мы точно знаем, что подумал Шлиман, потому что сохранилась телеграмма, посланная им в тот же день греческому королю: «С огромной радостью спешу известить Ваше Величество, что я нашел гробницы, представляющие собой, согласно рассказу Павсания, захоронения. Агамемнона, Кассандры, Евромедона и их спутников, которые были убиты во время пиршества Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом». Традиция, идущая от Гомера, действительно утверждает, что великий микенский царь, руководитель Троянского похода Агамемнон по возвращении домой был предательски убит на пиру вместе со своими приближенными и наложницами, в том числе Кассандрой и ее двумя детьми, а в найденных им гробницах Шлиман действительно обнаружил скелеты нескольких мужчин, а также женщин и двух детей, так что у него были все основания для восторженной телеграммы, но, как и в случае с Троей-2, он опять оказался не прав. Его датировка была ошибочной: как выяснилось позже, найденные им скелеты, по меньшей мере на 300 лет были старше предположительной даты Троянской войны. Доказательство реальности Троянской войны опять ускользнуло, но зато обнаружилось нечто иное, и, быть может, намного более важное. В самом деле, если уже за триста лет до пресловутой Троянской войны цари Микен (а внутри стен наверняка находились гробницы царей) располагали такими богатствами и их хоронили с такой пышностью, то лучшего доказательства могущества и величия Микенского царства трудно и желать. Более того, как показал впоследствии американский археолог профессор Алан Вэйс, руководитель многолетних систематических раскопок в Микенах в 30-е годы XX века, останки, найденные Шлиманом, в действительности принадлежали людям разных эпох и в совокупности покрывали время от XVI до XIII века. А это уже позволяло утверждать, что Микены, как и говорил Гомер, на протяжении ряда столетий действительно были центром богатого и мощного государства, а возможно, и всей тогдашней греческой цивилизации. Но Шлиман нашел и другие, хоть и более мелкие, но крайне важные подтверждения правдивости рассказа Гомера. На некоторых золотых украшениях были изображены те самые загадочные «башнеподобные» щиты, прикрывавшие тело воина с головы до пят, которые у Гомера принадлежали «большому» Аяксу и подобных которым в гомеровские времена уже не было. В другой гробнице была найдена золотая чаша с двумя ручками в виде голубей, очень похожая на описанную Гомером в «Илиаде» чашу героя Нестора, а также шлем с гребнем из медвежьих зубов: дословное описание такого шлема содержится в 10-й главе «Илиады». Даже сдержанные историки были потрясены: казалось, гомеровские герои явились перед их глазами живым воплощением слов Гомера. Однако, как ни сенсационны были эти находки, для развития археологии как науки куда более важными оказались многочисленные образцы древней посуды, найденные Шлиманом в Микенах. До того, в Трое, он находил лишь отдельные черепки каких-то непонятных эпох. Обилие найденной им теперь керамики впервые позволяло специалистам произвести более или менее точную датировку этих эпох путем сопоставления микенских черепков с остатками аналогичной посуды, обнаруженной в других местах Средиземноморья, прежде всего — на раскопках в Египте, хронология культурных слоев которого благодаря обилию и детальности письменных памятников известна весьма точно. Детальная разработка этого метода датировки заняла еще многие годы, но в конце концов ее принципы были установлены достаточно прочно, что позволило со временем заложить основы надежной микено-троянской хронологии. Шлиману не суждено было воспользоваться этим методом. Его уверенность, что он нашел гробницу Агамемнона, оставалась непоколебимой и подвигла его продолжить поиски «микенской цивилизации», на сей раз — в Орхоменосе, том самом, о котором Ахилл у Гомера говорит: «Даже ради богатств Орхоменоса не соглашусь». Подобно останкам Микен, развалины Орхоменоса (с огромной гробницей, некогда описанной все тем же Павсанием) сохранились на виду, и Шлиман быстро произвел там разведывательные раскопки. Золота он, однако, не обнаружил, других сенсационных находок тоже (если не считать очередного обилия черепков), и уже через несколько недель прервал работу; единственным ее результатом было обнаружение удивительного сходства гробницы в Орхоменосе с гробницей в Микенах (позднее была высказана гипотеза, что их строил один и тот же архитектор). Из Орхоменоса, лежавшего к северу от Афин, Шлиман направился к развалинам древнего Тиринфа, расположенного к югу от Микен, почти у самого берега моря («крепкостенный Тиринф» у Гомера, откуда под Трою пришел царь Диомед со своими воинами: «Осмьдесят черных судов под дружинами их принеслося». Циклопические стены этого города тоже сохранились с древних времен и не могли не привлечь внимание Шлимана. Свои раскопки в Тиринфе Шлиман начал в 1884 году, на сей раз вместе с архитектором Дорпфельдом, и участие этого молодого человека, который впоследствии вырос в серьезного, самостоятельного археолога, оказалось весьма существенным: именно Дорпфельд помешал Шлиману проложить траншею, которая наверняка бы уничтожила таившийся под обломками средневековой византийской церкви древний царский дворец. В результате вмешательства Дорпфельда дворец был раскопан неповрежденным, что позволило впервые воочию узреть многие детали замечательной дворцовой и крепостной архитектуры XIV–XIII веков до н. э. Они опять оказались предельно совпадающими с описаниями Гомера, и Шлиман не замедлил оповестить мир о своем очередном сенсационном открытии: «Я извлек на свет великий дворец легендарных царей Тиринфа, — писал он, — и отныне до конца времен никто не сможет опубликовать книгу о древнем искусстве, не упомянув о моем открытии». После Тиринфа Шлиман предпринял еще несколько попыток: следуя путями гомеровских героев, он безуспешно искал местонахождение «Менелаевой Спарты»; затем пробовал копать в упоминаемом Гомером «песчаном Пилосе» царя Нестора, но, как я уже говорил, ошибся в местоположении древнего города и ничего существенного не нашел; и, наконец, несмотря на огромную усталость («Я испытываю огромное желание до конца моих дней устраниться от раскопок…»), решил снова «копнуть» в любимой Трое. Он уже был тут несколько раз в промежутке между раскопками в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе, Пилосе и каждый раз находил что-то новое и неожиданное. Но все эти открытия не приносили ему того удовлетворения, которое он так хорошо имитировал в своих победных реляциях на публику. Его продолжали одолевать сомнения. Возражения скептиков разъедали его уверенность. Он возвращался и снова искал — искал доказательств, которые бы окончательно и однозначно убедили скептиков (и его самого), что найденная им Троя-2 — это действительно «Приамова Троя». И вот теперь он решил возвратиться сюда снова — поискать еще раз. Кто ищет, тот, как известно, всегда найдет. Хотя, конечно, не всегда то, что ищет. >ГЛАВА 6 «ПРИАМОВА» ТРОЯ — ВТОРАЯ, ШЕСТАЯ, СЕДЬМАЯ? В сознании широкой публики слава Шлимана как «первооткрывателя Трои» связана с его сенсационными открытиями 1871–1873 годов — раскопками в Трое-2 и обнаружением там «Приамового сокровища». Но, как мы уже сказали, среди специалистов оставались многие, кто весьма скептически относился к Шлиманову отождествлению Трои-2 с гомеровской Троей. Сомнения, как мы тоже уже говорили, были и у самого Шлимана; вот почему в промежутках между раскопками в Греции — в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и Пилосе — Шлиман неоднократно возвращался на Гиссарлык. Первый раз он вернулся в 1878–1879 годах, — но единственным результатом этих двух раскопочных сезонов было лишь открытие еще одного, самого глубокого культурного слоя. Судя по находкам, этот слой принадлежал к далеким доисторическим временам и к гомеровской Трое отношения не имел. Еще через два года, в 1881-м, Шлиман объехал верхом на лошади самые дальние окрестности Гиссарлыка, словно отыскивая другие возможные места раскопок, но ничего подходящего не нашел и в 1882 году снова вернулся на Гиссарлык, на сей раз вместе со своим новым помощником Дорпфельдом. И вот тут, наконец ему улыбнулась удача. Продолжив раскопки в Трое-2, он обнаружил новые признаки существовавшего здесь в древности укрепленного города — еле заметные следы кольцевых стен, почти стертые временем остатки мощных бастионов, а главное — развалины обширного здания, напоминавшего царский дворец. Вкупе с прежними находками в том же слое это делало Трою-2 куда более соответствующей описаниям Гомера, и Шлиман не замедлил известить своих друзей и недругов: «Моя работа в Трое завершена окончательно. Я доказал, что в глубокой древности на, этой равнине находился большой город, разрушенный страшной катастрофой и в точности отвечающий гомеровскому описанию…» Увы, победоносное извещение и теперь оказалось преждевременным. В 1889 году Шлиман с Дорпфельдом в очередной раз вернулись на Гиссарлык, чтобы расширить раскопки Трои-2, и почти сразу же наткнулись на обескураживающий факт. Заложенная ими новая траншея вскрыла следы еще одного дворцового зала, в помещениях которого оказалось множество остатков посуды микенского («Агамемнонова») типа, но, увы, культурный слой, в котором располагался новонайденный дворцовый зал с его посудой, оказался шестым, считая снизу, то есть намного более поздним, чем Троя-2. Если Шлиман был прав и Троя-2 была, как он утверждал, гомеровской, то кому тогда принадлежали дворец и посуда Трои-6? История не знала на этом месте более поздних городов с такими дворцами, да и посуда не соответствовала более позднему времени. Если же гомеровской была новонайденная Троя-6 (на что могли указывать дворец, а главное, датировка посуды), то, что же тогда нашел Шлиман в Трое-2? Все здание троянской датировки Шлимана вдруг заколебалось, и стало понятно, что без новых раскопок не обойтись. Шлиман назначил эти работы на следующий, 1891 год, но ему уже не суждено было вернуться на Гиссарлык — в том же году он скоропостижно умер после неудачной операции застуженного на раскопках уха: свалился прямо на улице, парализованный и утративший речь, был доставлен в больницу для бедных и через несколько часов, не приходя в сознание, скончался. Польский писатель Генрих Сенкевич, случайно оказавшийся свидетелем отправки его тела домой, в Афины, позднее писал: «Хозяин отеля подошел ко мне и спросил: «Знаете ли, вы, кто этот господин? Нет? Это великий Шлиман!» Бедный «великий Шлиман»! Подумать только — откопать Трою и Микены, заслужить, бессмертную славу у людей и так вот умереть…» Шлиман, несомненно, заслужил эту бессмертную славу как первооткрыватель Трои и, что еще важнее, микенской цивилизации, но «настоящую», гомеровскую Трою он, как вскоре выяснилось, не опознал. Установил это Дорпфельд. В 1893 году, получив от Софьи Шлиман средства на продолжение раскопок, он вернулся на Гиссарлык, заложил огромную кольцевую траншею, вокруг найденных им (в последних раскопках со Шлиманом) остатков дворца в Трое-6 и почти немедленно обнаружил останки стен, намного более грандиозных, чем все, что нашел Шлиман в своей Трое-2. Продолжая раскопки, он нашел еще целый ряд строений, некогда составлявших тот же город, — сначала остатки пяти больших, неплохо сохранившихся домов аристократического типа, затем еще нескольких сильно поврежденных зданий того же характера и, наконец, развалины могучего крепостного бастиона в северо-восточной части стены. Особенно важным было то, что повсюду в этом слое обнаруживались черепки посуды точно того же типа, что нашел Шлиман в Микенах и Орхоменосе. К этому времени уже было доказано, что такой тип посуды производился исключительно в греческих («микенских») городах XV–XIII веков до н. э., и это означало, что на Гиссарлык она могла попасть лишь из Греции; иными словами, Троя-6 имела давние и длительные — по крайней мере, с XV по XIII век — контакты с городами «микенской цивилизации». В этот промежуток времени попадала любая предположительная дата Троянской войны; а если еще добавить, что, судя по некоторым приметам, гибель Трои-6 сопровождалась тяжелыми разрушениями: крепостные стены во многих местах были повреждены, здания и дворец еще хранили следы пожара, то общий вывод напрашивается как бы сам собой: именно этот город, Троя-6, а не Троя-2, и мог быть искомой гомеровской Троей. Теперь настала очередь Дорпфельда публиковать победные реляции. Сообщая о своих находках, он писал: «Долгий спор о реальности Трои и ее местоположении пришел к концу… Шлиман оправдан… Вид крепости был несомненно знаком певцам «Илиады»…» (Шлиман, надо думать, был оправдан в том смысле, что подлинная Троя оказалась именно там, где он ее искал, хотя и не в том слое.) Дорпфельд мог бы добавить: вид крепости был Гомеру не просто знаком, а знаком детально. На одном из участков разрушенной крепостной стены раскопки вскрыли место, весьма напоминавшее то, где, по словам Гомера, «трижды Менетиев сын (Патрокл. — Р.Н.) взбегал на высокую стену»: камни здесь прилегали друг к другу так неплотно, что и турецкие землекопы, далеко не Патроклы, тоже запросто могли по ним подниматься. А в западной части крепостной стены Дорпфельд обнаружил слабо укрепленный участок, что опять же соответствовало рассказу Гомера, согласно которому Одиссей еще во время осады пробрался в осажденный город через слабину в западной части стены! Эти поразительные совпадения едва ли не более, чем всё остальное, побудили большинство исследователей согласиться с выводом Дорпфельда. Так, видный английский гомеровед Уолтер Лиф в своей книге «Гомер и история» писал: «Крепость (найденная Дорпфельдом. — Р.Н.) находится на том самом месте, где ее помещала гомеровская традиция». И продолжал: «Отсюда следует историческая реальность Троянской войны. Можно даже думать, что, по крайней мере, некоторые из героев Гомера тоже были реальными участниками той войны и носили те же имена, что у Гомера». Другим специалистам тоже казалось, что долгие поиски Трои наконец-то благополучно завершились. Но Троя и на этот раз приготовила своим искателям неприятный сюрприз. Примерно через сорок лет после Дорпфельда, в 1932 году, на Гиссарлык прибыл еще один продолжатель дела Шлимана — замечательный американский ученый Карл Блеген. К тому времени он уже был широко известен специалистам во всем мире своими тщательными раскопками в «микенских» городках материковой Греции — Коракоу, Зигурос и Просимна. Эти его работы (вкупе с новыми раскопками англичанина Алана Вэйса в самих Микенах) позволили окончательно завершить создание детальной и точной хронологии культурных слоев и стилей керамики, общих для всей микенской цивилизации. Теперь, возвращаясь вслед за Шлиманом и Дорпфельдом на Гиссарлык, Блеген хотел всего лишь проверить на основе этой хронологии их датировку культурных слоев многовековой Трои. Но неожиданно для него самого это «невинное» намерение повлекло за собой сенсационные результаты. В ходе дотошного (а это он умел!) изучения Трои-6 Блеген установил, что ее стены и дома были повреждены отнюдь не военным штурмом, а естественной катастрофой: в стенах и зданиях обнаруживались сдвинутые с места камни фундамента, а сдвинуть с места фундамент могло только мощное землетрясение. Вывод опять напрашивался сам собой: если Троя-6 погибла не в результате осады и штурма, то, значит, Троя-6 тоже не является гомеровской Троей! Точно так же, как Дорпфельд в свое время опроверг Шлимана, Блеген теперь опроверг Дорпфельда, и с убедительностью этого опровержения вынужден был согласиться и сам Дорпфельд, когда в 1935 году посетил раскопки Блегена. Но Блеген сделал и нечто намного большее. Поняв, что Троя-6 не может быть гомеровской, он стал искать следы гомеровской Трои в более поздних культурных слоях. Он проделал гигантскую работу по детальнейшей датировке всего Гиссарлыкского холма, от основания до макушки, и выявил в нем 11 культурных слоев, которые распадались на пятьдесят (!) подслоев. Два из них — 7а и 7б — располагались непосредственно над Троей-6, друг за другом, и, как оказалось, в одном из них, в подслое 7а, Блегена ожидали поистине сенсационные открытия. Прежде всего, он установил, что город, возникший на развалинах Трои-6 спустя примерно полвека после ее разрушения (Блеген назвал его «Троя-7а!»), был построен внутри тех же стен, что и Троя-6. Это означало, что многие из характеристик Трои-6, открытых Дорпфельдом, — участки стен, поврежденные штурмом, неплотно уложенные камни в том месте, где, по Гомеру, пытался взбежать на стену Патрокл, слабина в западной стене, могучие ворота и бастионы, даже характер посуды — все это относилось и к Трое-7а. Это означало также, что спустя полвека люди вернулись на развалины и отстроили свои жилища, но почему-то не стали восстанавливать разрушенные крепостные укрепления. Почему? Объяснение этого факта потребовало дальнейших раскопок, в ходе которых Блеген сделал еще более поразительные открытия. Изучая характер построек в исследуемом подслое, он установил, что постройки Трои-7а были куда бедней и примитивней, чем в непосредственно предшествовавшей ей Трое-6, раскопанной Дорпфельдом, но зато их было намного больше. Там, где раньше высилось лишь несколько элегантных зданий, группировавшихся вокруг дворца, теперь располагался запутанный лабиринт однокомнатных каменных строений, настоящих лачуг, явно построенных на скорую руку, как попало, вплотную друг к другу, в страшной скученности. Троя-7а мало походила на царственную Трою-6 — она, скорее, напоминала лагерь беженцев. Казалось, будто окрестные жители внезапно хлынули в разрушенный землетрясением город и наскоро стали строить жилища-времянки среди развалин, не имея ни времени, ни средств восстановить прежние здания и дворцы или залатать поврежденные крепостные стены. Более того, внутри многих лачуг, у входа, Блеген обнаружил следы некогда вкопанных в землю громадных, в человеческий рост, глиняных сосудов, в которых древние. обычно хранили съестные припасы. Впечатление было такое, будто жители не просто бежали за стены от какой-то внезапной опасности, но еще и ждали длительной осады — потому и собирали запасы продовольствия. Об «осадном положении» говорило и почти полное отсутствие в развалинах Трои-7а каких-либо следов импортной посуды или тканей — все находки были местного производства, как будто связи города с наружным миром были перерезаны. Свое последнее открытие Блеген сделал уже внутри жилищ Трои-7а. Их стены демонстрировали следы насильственного разрушения, там и сям обнаруживались куски обожженного дерева, под одной повалившейся стеной был найден человеческий скелет, в другом месте — человеческий череп, пробитый стрелой. Эти следы разрушения и гибели могли быть оставлены только войной. Взятые вместе, все эти находки выстраивались в связную картину: известие о приближении врага — торопливое бегство людей со всей округи под защиту крепостных стен — осада — штурм — взятие и разрушение города. По оценке Блегена, Троя-7а была взята штурмом не более чем через 50 лет после землетрясения и не позднее чем в 1240 году, т. е. «именно в тот период, — писал он, — когда микенские царства материковой Греции переживали самый высший расцвет и наверняка были достаточно могущественными, чтобы предпринять совместную военную экспедицию» (К. Блеген, «Троя и троянцы»). То же самое можно сказать й иначе: гомеровская Троя существовала — это была Троя-7а. Ошибка Дорпфельда была вполне извинительной: не имея в руках тех методов, которыми (40 лет спустя) располагал Блеген, он приписал Трое-6 те признаки, которые на самом деле принадлежали лежавшей буквально над ней, почти без перерыва, Трое-7а. Но основной вывод Дорпфельда был, по мнению Блегена, бесспорен. «Не может быть больше сомнения, — писал Блеген в той же своей книге, — что Троянская война, в которой коалиция ахейцев, или микенцев, сражалась с троянцами и их союзниками, была исторической реальностью… И Троя-7а, которая и должна быть признана настоящей Троей, была той самой крепостью, чья осада и штурм так врезались в память трубадуров и бардов, что они передали своим потомкам имена героев, сражавшихся в этой войне». В этом замечательном обобщении итогов всех трех стадий исследования Трои — шлимановской, дорпфельдовской и собственно блегеновской — есть только одна неточность: найденные Блегеном факты в действительности свидетельствовали лишь о разрушении Трои, но не могли служить доказательством, что этому разрушению предшествовала предварительная осада. Что, собственно, подкрепляло мысль об осаде? Только разве что вкопанные у входа в дома кувшины с продуктами? Но ведь и в Помпеях тоже были найдены такие кувшины, а Помпеи никто не осаждал, как известно. Не случайно один археолог (уже после раскопок Блегена) насмешливо заметил, что «разрушение Трои — это исторический факт, но ее осада — всего лишь возможность». Новый свет на вопрос о реальности осады Трои был пролит лишь спустя полвека, когда все герои нашего рассказа давно уже сошли с исторической и просто жизненной сцены. В 1988 году, ровно через 50 лет после завершения раскопок Блегена, на Гиссарлыке начала работать новая археологическая группа под руководством Манфреда Корфмана. В числе прочего она произвела широкую разведку в окрестностях Гиссарлыка и, в частности, к юго-западу от него, вблизи высокого могильного кургана конической формы Бесик-Тепе. Во времена «классической», послегомеровской Греции (с V века до н. э. и позже) этот курган считался «могилой Ахиллеса», и именно на нем в свое время позировали для истории персидский царь Ксеркс и великий Александр Македонский. А в наше время экспедиция Корфмана сделала здесь весьма важное открытие. Во-первых, было обнаружено, что именно здесь в XIII–XII веках до н. э. (то есть во времена предполагаемой Троянской войны) находился морской берег. А во-вторых, всего в нескольких метрах от тогдашней береговой линии было найдено захоронение XIII века до н. э., содержавшее около 50 камер-гробниц с прахом кремированных людей. В гробницах сохранилось множество погребальной посуды и других предметов греческого производства. Среди этих предметов были также камни, игравшие роль личных печатей микенских аристократов. Близость этого «греческого кладбища» к тому кургану, который греческая традиция упорно именовала «могилой Ахиллеса», а также к древнему морскому берегу была слишком красноречивой, чтобы быть случайной. Гомер («Илиада», 14:30) говорил о лагере, который греки во время осады разбили вблизи моря («Их корабли от равнины, где бились, далеко стояли // берегом моря седого…»); он говорил также, что здесь же, вблизи своего лагеря, греки хоронили героев, павших во время осады. Не нашел ли Корфман этот гомеровский лагерь? Тогда это однозначно доказывало бы историческую реальность осады города. Сам Корфман сформулировал свое мнение крайне осторожно: «Я могу лишь высказать интуитивное впечатление, что открытое нами кладбище в гавани Трои, скорее всего, относится к тем временам, когда происходила Троянская война». Любопытные находки были сделаны и в самой Трое. В южной части древней Трои-6 (и 7а, соответственно) экспедиция Корфмана обнаружила остатки шести домов с таким количеством микенской посуды, которое невольно порождало вопрос, не находилась ли здесь когда-то греческая торговая колония (доказано, например, что в Милете, много южнее Трои по берегу моря, такая колония действительно существовала). В таком случае захоронению, найденному Корфманом в Бесик-Типе, можно было бы дать и другое, более прозаическое объяснение — это могло быть, например, кладбище богатых микенских купцов, живших в Трое. Корфман и впрямь нашел признаки того, что Троя-6 была достаточно большим городом, далеко выходившим за стены той крепости, которую раскопали Дорпфельд и Блеген, и потому — особенно учитывая ее географическое расположение на берегах Дарданелл — вполне могла привлечь к себе внимание купцов из разных стран. Но ведь в той же мере и по тем же причинам она могла привлечь к себе и внимание хищных завоевателей! Уж очень многое в Трое-6 и 7а несло на себе следы чисто военных разрушений. На окончательный выбор могли бы существенно повлиять показания каких-нибудь «независимых» свидетелей тогдашних событий. Но были ли у гомеровских Микен и Трои современники и одновременно близкие соседи, которые могли бы оставить такие свидетельства? Как ни странно, были — и даже два: Крито-Минойское царство на западе и Хеттская империя на востоке. К ним мы и обратимся на этом последнем витке нашего исторического расследования. >ГЛАВА 7 КРИТ И МИКЕНЫ У Микен и Трои были два современника-соседа, и одним из них было Крито-Минойское царство. Заслуга его открытия принадлежит замечательному британскому археологу Артуру Эвансу. Подробный рассказ о работах Эванса увел бы нас далеко в сторону; ограничимся поэтому лишь тем, что непосредственно связано с загадкой Троянской войны. Эванс заинтересовался археологией Древней Греции под влиянием находок Шлимана в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и т. д. Ему казалось непонятным, что такая могущественная цивилизация, какой в результате раскопок Шлимана представала цивилизация Микен (ведь она простиралась чуть не на всю основную часть Греции), не оставила по себе никаких письменных памятников вроде тех, которыми засвидетельствовали свое существование Древний Египет или Шумерское и Ассирийское царства в Месопотамии. Эванс был убежден, что такие письменные следы микенского прошлого должны отыскаться, и его уверенность была подкреплена случайной находкой: в 1893 году, во время посещения Афин, некий торговец древностями предложил ему купить старинные камни с выцарапанными на них причудливыми узорами. По причине своей невероятной близорукости Эванс очень хорошо различал микроскопические детали и потому сумел разглядеть в узорах-царапинах явные следы некой системы. Он заподозрил, что это и есть разыскиваемая им микенская письменность. Однако на его вопрос, откуда камни, продавец сказал: «С Крита». Надо сказать, что Шлиман в свое время интересовался Критом и даже побывал в 1886 году в Кноссосе, что под Гераклионом, чтобы решить, не начать ли здесь свои очередные раскопки (ему это не удалось по весьма прозаической причине — турецкое правительство отказалось продать ему землю). Он с поразительной интуицией предвидел, что здесь может таиться нечто важное. «Я не буду поражен, если здешняя почва таит останки цивилизации, древность которой сделает Троянскую войну событием вчерашнего дня…» — писал он одному из корреспондентов. Разумеется, у шлимановой интуиции, как и у всякой иной, были вполне рациональные основания. Еще древние греческие мифы связывали с Критом начало науки, техники и архитектуры. Так, в знаменитом мифе о критском царе Миносе говорилось, что именно в Кноссосе легендарный архитектор, инженер и изобретатель Дедал построил царю дворец, а под ним — Лабиринт, куда был упрятан получеловек-полубык Минотавр, которого похотливая жена Миноса родила от совокупления с быком и который питался исключительно человечиной. Миф о Тезее рассказывал, как афинский герой Тезей пробрался в лабиринт, убил Минотавра и выбрался обратно с помощью нити Ариадны, дочери царя Миноса. Если верить мифу, этот подвиг Тезея избавил Афины от древней обязанности ежегодно отправлять в Кноссос человеческую дань. Если рассматривать эту легенду как отражение реальности в мифологическом сознании, она означает, что Афины, видимо, были подчинены Криту. Поэтому можно думать, что могущественное царство Миноса, владея множеством боевых кораблей, сумело подчинить себе и многие другие города — как на островах Эгейского моря, так и в материковой Греции. И действительно, в ходе своих раскопок в Микенах Шлиман нашел несколько предметов с изображением критского быка, что, собственно, и навело его на мысль, что между Микенами и Критом могла существовать древняя связь — не случайно же его любимый Гомер упомянул критского царя Идоменея в числе властителей, приславших, по призыву Агамемнона, свои корабли и воинов под Трою. Так что визит Шлимана на Крит был целенаправленным — он надеялся отыскать там следы древних крито-микенских связей. Эванс прибыл на Крит с другой целью — найти здесь следы «микенской письменности». Он быстро убедился, что камней с загадочными надписями, вроде купленного им в Афинах, здесь превеликое множество — местные женщины носили их на груди в виде амулетов и называли «молочными камнями». Но у местного археолога-любителя Калокаириноса он увидел еще более любопытный предмет — глиняную табличку, сплошь покрытую несомненными письменами. Калокаиринос нашел ее в ходе своих пробных раскопок в Кноссосе, когда проложенная им траншея вскрыла остатки обширного дворцового комплекса, стены которого были покрыты охровой краской, а полы завалены щебнем и обломками глиняной посуды. Прослышав о дворце, Эванс немедленно купил указанный ему кусок земли в Кноссосе (в отличие от Шлимана, ему это удалось, потому что к тому времени Крит уже освободился от турецкого владычества) и в 1900 году приступил к систематическим раскопкам. Первоначально весь его интерес сосредоточивался на поиске табличек; вскоре, однако, эти поиски отошли на второй план, поскольку первые же траншеи вскрыли богатейшие остатки какой-то могущественной цивилизации, значительно более древней, чем микенская (как и предсказывал за 15 лет до того Шлиман). Вскоре находки пошли сплошь и подряд: дворцовые залы с изумительными фресками на стенах, помещения с громадными сосудами, на которых были изображены сцены каких-то загадочных игр людей с бкками, статуэтки неизвестных дотоле богинь с обнаженной грудью, колонны и статуи, золотые украшения и множество обожженных глиняных табличек с отчетливыми письменами. Архитектура построек, характер живописи, детали росписей на сосудах — всё свидетельствовало о том, что открытая Эвансом культура не имела ничего общего с микенской и отличалась совершенно особым, индивидуальным характером. Постепенно усилиями других археологов, привлеченных Эвансом на Крит, выяснилось, что аналогичные дворцы, живопись, ритуалы существовали и в других районах огромного острова — на юге, в Фестосе, и на западе, в Мелии. Эванс назвал эту дворцовую культуру «крито-минойской» — в честь легендарного царя Миноса; по его убеждению, ее создателем был какой-то древний народ, возможно, пришедший на Крит из глубин Малой Азии. Современный греческий историк проф. С. Алексиу полагает, что это переселение людей из Малой Азии на Крит, на острова Эгейского моря и в материковую Грецию произошло примерно в середине третьего тысячелетия до н. э. Об общности раннего населения всех этих мест могут свидетельствовать общие для эгейских островов и Крита географические названия — Олимпус, Ида, Инатос и т. д. Возможно, географические названия с окончанием «-ос», столь многочисленные и на Крите, и в Греции — Коринфос, Кноссос, Фестос, Орхоменос, — распространились в это же время. В соответствии с нынешней хронологией, середина третьего тысячелетия до н. э. — это так называемый ранний бронзовый век{13}. Поскольку заселение Крита произошло, по теории Эванса — Алексиу, раньше, чем заселение материковой Греции, на Крите раньше возникли и предпосылки развития цивилизации. Контакты с близлежащим Египтом еще более ускорили это развитие. По мнению Эванса, около 2000 года до н. э. (т. е. в конце раннего бронзового века) лроизошло знаменательное событие: были возведены первые дворцовые комплексы в Кноссосе, Фестосе и Малии. Стала складываться «дворцовая культура». В ее основе лежало сельское хозяйство — не случайно все три дворцовых центра находились в самых плодородных районах острова. В 1700 г. до н. э., судя по археологическим данным, Крит постигла крупная естественная катастрофа, возможно — землетрясение. Однако она не прервала наметившегося развития: разрушенные дворцы были немедленно восстановлены, и последующий период стал временем высшего расцвета и могущества крито-минойского государства. Его колонии включали Теру, Родос, Карпатос, Мелос и другие острова Эгейского моря. То была «талассократия», или морская империя («таласса» по-древнегречески — море), опиравшаяся на силу своего обширного флота, равного которому не было во всем Средиземноморье. И вот в этом месте своих рассуждений Эванс подошел к. драматическому пункту: их логика с неизбежностью привела его к противоречию со Шлиманом. Дело в том, что во времена Эванса считалось, что микенская цивилизация, открытая Шлиманом, существовала в XIV–XII веках до н. э. Крито-минойская культура была явно древнее микенской — она достигла расцвета уже в XVII веке до н. э. Судя по раскопкам Эванса, она была также намного выше и изощренней: критские дворцы, архитектура, искусства, ремесла далеко превосходили все, что было найдено в материковой Греции того же времени. И вдобавок, по Эвансу, Крит с помощью своего флота контролировал все Эгейское море. Миф о Тезее утверждал, что критской власти подчинялись даже Афины. Напрашивалась мысль, что эта власть могла распространяться и на Микены с их городами. Иными словами, как бы сама собой складывалась гипотеза, что вся материковая Греция, включая Микены, была крито-минойской провинцией. Тогда некоторые приметы искусства и архитектуры, общие для обеих цивилизаций, можно объяснить тем, что дворцы в Микенах, Тиринфе, Пилосе и других центрах «микенской цивилизации», а также царские гробницы в этих городах принадлежали критским губернаторам и строились архитекторами с Крита, сосуды, утварь, оружие изготовлялись и расписывались критскими мастерами, а игры с быками и фигурки богинь были занесены критскими аристократами. Итогом этой цепи рассуждений неизбежно становился радикальный вывод: никакой особой «микенской цивилизации», на существовании которой настаивал Шлиман, не было вообще. Не удивительно, что от нее не осталось никаких письменных свидетельств. Письменность глиняных табличек — это не греческая, а крито-минойская письменность. А все найденное Шлиманом и его продолжателями в городах материковой Греции — это артефакты поздней крито-минойской культуры. Эта радикальная теория, выдвинутая Эвансом и получившая поддержку большинства историков и археологов начала XX века, столкнулась, однако, с определенными трудностями. Судя по данным критских раскопок, крито-минойская цивилизация, возникшая, по Эвансу, в 2000 году до н. э., просуществовала лишь шесть столетий. В 1420 году до н. э. (эта дата установлена достаточно надежно) какая-то загадочная катастрофа разрушила дворцы в Кноссосе и Фестосе, а с ними и все крито-минойское государство вообще{14}. Тем не менее, те же раскопки показали, что жизнь на Крите не угасла и после этого удара: дворец в Кноссосе был частично восстановлен, таблички продолжали писаться, хозяйство и торговля ожили и стали вновь развиваться. Это несоответствие требовало объяснения, и последователи Эванса его предложили. По их утверждению, города материковой Греции (Микены, Афины и др.), воспользовавшись крахом крито-минойской державы, освободились от власти критских завоевателей и сами, в свою очередь, завоевали и колонизовали Крит. Иными словами, подъем микенской цивилизации в XIV–XII веках до н. э. следовало представлять себе как восстание провинции против ослабевшей метрополии, — закончившееся ее подчинением. Но и при этом, говорили «эвансисты», Микены никогда не поднялись до тех высот, которых достигли в минойские времена. Второе несоответствие выявилось в результате раскопок 1930-х годов — А. Вэйса в Микенах и К. Блегена в Пилосе. И тот, и другой нашли в этих древних центрах микенской цивилизации глиняные таблички с точно такими же письменами, какие Эванс нашел на Крите. И тот, и другой нашли в своих раскопках такие исторические и культурные свидетельства, которые невозможно было уложить в Эвансову схему истории материковой Греции как критской колонии, населенной тем же народом, что и сам Крит. Одновременно с этими данными в печати появились в те же годы многочисленные работы лингвистов, филологов и историков, детально проанализировавших накопившиеся к тому времени данные о греческой «предыстории». Опираясь на всю совокупность этих новых данных, противоречивших теории Эванса, Вэйс и Блеген в совместной статье выдвинули альтернативную теорию. Согласно их историко-культурной схеме, материковая Греция была заселена носителями индо-европейского (древнегреческого) языка уже в конце раннего бронзового века, примерно с 1900 года до н. э., то есть тогда же, когда началось становление крито-минойской культуры на Крите, и эти же племена непрерывно населяли страну вплоть до падения микенской цивилизации около 1100 года до н. э., иными словами, много позже краха крито-минойского царства. Проще говоря, Греция всегда была греческой, ее (микенская) цивилизация и культура были автохтонными (местными и независимо возникшими), а не крито-минойскими, и именно ее (то есть древнегреческая, микенская) письменность была письменностью Эвансовых табличек. Наличие же общих культурных элементов объясняется просто культурными и торговыми связями этих двух цивилизаций. Эта гипотеза вызвала бурные возражения сторонников теории Эванса. Они заявили, что все аргументы Блегена — Вэйса являются косвенными; прямое отношение к спору имеют только найденные ими таблички с письменами, но как раз этой находке можно дать очень простое и естественное объяснение: либо эти таблички были оставлены в Микенах и Пил осе критскими купцами, либо микенские «варвары», завоевавшие Крит после 1420 года до н. э., вывезли к себе критские таблички, а может быть, — и уцелевших писцов-грамотеев. Сами же микенцы не могли создать ничего культурно значительного, тем более — самостоятельной письменности, поскольку их «цивилизация» была попросту последней, предсмертной «судорогой» великой крито-минойской культуры, а на своей последней стадии цивилизации, как и живые организмы, ничего нового создать уже не могут: творческий расцвет сопровождает молодость культур. Возникший спор имел прямое отношение и к интересующей нас загадке Троянской войны. «Шлиманцы» вслед за своим учителем (а также приведенные к этому собственными исследованиями) все более приближались к признанию исторической реальности этой войны. «Эвансисты» вслед за своим догматичным мэтром утверждали, что после краха «дворцовой культуры» Крита «варварские» города материковой Греции попросту не способны: были на такую далекую и трудную военную экспедицию. Поэтому никакой Троянской войны не было. А рассказ Гомера о ней, говорили «эвансисты» вслед за своим великим учителем, есть не что иное, как воскрешение критского мифа! Подтверждение или опровержение этого радикального тезиса требовало новых раскопок, но время для этого наступило самое неподходящее — грянула вторая мировая война, и Греция вместе с Критом были захвачены немецкими войсками. Единственным доступным полем исследований остались одни лишь критские и микенско-пилосские глиняные таблички. Только в их загадочных письменах могли теперь исследователи искать (и надеяться найти) решение жестокого и непримиримого спора между последователями Эванса и последователями Шлимана, а заодно, и возможные свидетельства «за» или «против» реальности Троянской войны. Задача была из труднейших. Ситуация казалась безнадежной. Неизвестны были не только знаки «глиняной письменности» — неизвестен был и язык, который скрывался за этими знаками: Вэйс и Блеген полагали, что это какой-то диалект древнегреческого (очень «древне» — времен расцвета Микен, XIV–XIII веков до н. э.), сторонники Эванса считали, что это никому неведомый «крито-минойский» язык. Тем не менее все эти трудности удалось преодолеть. Таблички заговорили. >ГЛАВА 8 ЛИНЕЙНОЕ ПИСЬМО Б Итак, Вторая мировая война прервала археологические исследования, которые могли бы пролить дальнейший свет на загадку Троянской войны. В распоряжении ученых остались лишь глиняные таблички с загадочными письменами, найденные Эвансом на Крите и Блегеном в Пилосе, неподалеку от Микен. Первых было около 4 тысяч, вторых — около 600 (перед самой войной Вэйс нашел еще несколько табличек в Микенах; позже они были найдены также в Тиринфе и Орхоменосе). Как уже сказано выше, по мнению Эванса, «коллективным автором» этих табличек был тот неведомый народ, что создал крито-минойскую культуру, а затем распространил ее по всему Эгейскому архипелагу и материковой Греции. По мнению сторонников Шлимана, этим «автором» были древние греки (гомеровские «ахейцы»): письменность глиняных табличек, утверждали они, была высшим достижением созданной ахейцами «микенской цивилизации». Расшифровка загадочных табличек могла решить этот спор, но на пути такой расшифровки стояло несколько затруднений, и первое из них состояло в том, что таблички распадались на целых три класса. Действительно, исследования Эванса выявили существование на древнем Крите трех последовательных стадий развития письменности. Примерно с 2000 по 1650 гг. до н. э., в эпоху складывания крито-минойской цивилизации, на Крите господствовало чисто «пиктографическое» (рисуночное) письмо, в котором каждый рисунок (звезда, солнце, рука, голова, стрела и т. п.) обозначал соответствующее слово или понятие. Табличек с таким письмом сохранилось очень мало, и произвести их расшифровку нечего было и думать. Следующий класс табличек датировался временами расцвета крито-минойской культуры (1750–1450 гг. до н. э.): здесь рисунки уже упростились до схематических, линейных очертаний, поэтому Эванс дал этой письменности название «линейного письма А» (почему «А», сейчас станет ясно). Этим письмом были, в частности, выполнены надписи на некоторых камнях-амулетах и бронзовых изделиях, найденных в различных местах острова. Расшифровка линейного письма А наталкивалась на ту трудность, что надписей, им выполненных, было не так уж много. Наибольшие шансы имела попытка расшифровки третьего, еще более позднего типа письменности, которая получила название «линейного письма Б». Появление табличек с этим письмом датируется примерно 1450–1400 годами до н. э., и хотя более точную границы установить не удалось (никогда нельзя исключить возможность, что более ранние тексты просто не обнаружены), но предположительная дата той великой катастрофы, что разрушила крито-минойскую цивилизацию (1420 н. до н. а, по Эвансу), как раз попадает в этот промежуток времени. Любопытно также, что почти все таблички с этим письмом были найдены только в одном месте на Крите — в Кноссосе — и что почти все они, по оценке ученых, относятся к периоду после разрушения Кноссоского дворца (общее число таких табличек, найденных в Кноссосе, составляет, как уже было сказано, около 4 тысяч). Крайне интересно, однако, что таблички, найденные Вэйсом, Блегеном и другими археологами в Микенах, Пилосе, Тиринфе и других местах материковой Греции, тоже выполнены исключительно линейным письмом Б и тоже относятся к периоду после 1450–1400 гг. до н. э. Дело выглядит так, будто начиная с середины — конца XV века до н. э., с момента своего появления, линейное письма Б является общим и для Крита, и для городов материковой Греции. По сравнению с предшествующим письмом А его знаки представляются еще более упрощенными (впрочем, в некоторых случаях, напротив, более вычурными), хотя и среди них еще встречаются очевидные пиктограммы (схематические изображения людей, животных, сосудов и т. п.). К середине XX века, когда лингвисты занялись изучением линейного письма Б, уже были прочтены памятники многих древних письменностей, начиная с древнеегипетской, ассиро-вавилонской и хеттской, и уже существовали мощные методы их расшифровки. Каждое новое продвижение в этой области происходило путем сопоставления новой, неизвестной письменности с уже расшифрованными. Как правило, дешифровка облегчалась тем, что исследователь знал либо язык, слова которого были изображены неизвестными знаками, либо значения знаков неизвестного ему языка — по их сходству со знаками уже известных. Но в случае линейного письма Б не были известны ни значения знаков, ни стоявший за этими знаками язык. О знаках было известно лишь, что их общее число — порядка восьмидесяти (эта цифра неточна, потому что распознавание различных знаков затрудняется многочисленными разновидностями и вариантами написания). Для лингвистов эта цифра, однако, содержала важную информацию. Она означала, что линейное письмо Б не алфавитное. В алфавитном письме каждый знак отвечает одной гласной или согласной, поэтому число таких знаков мало (22, 26 и т. п.). В то же время оно не могло быть и чисто рисуночно-иероглифическим вроде современного китайского, потому что для такого («идеографического») письма нужны тысячи знаков (в китайском их, например, свыше 50 тысяч). Стало быть, это было силлабическое, слоговое письмо, в котором каждый знак (кроме рисунков, а также числовых и вспомогательных значков) соответствует одному определенному слогу. Первые попытки дешифровки этого слогового письма основывались на упомянутом выше методе сопоставления его с какой-нибудь уже расшифрованной древней письменностью, имеющей сходные знаки. В данном случае сходные знаки обнаружились в так называемом «кипрском письме», найденном на древних табличках с острова Кипр. К этому времени «кипрское письмо» было уже расшифровано: было показано, что его знаки соответствуют отдельным слогам греческого языка. Однако прямая подстановка значений этих слогов под сходные знаки в критских табличках привела к полной абракадабре: отдельные слоги не собирались ни в какие осмысленные слова. Это говорило в пользу гипотезы Эванса, утверждавшего, что язык табличек не имеет ничего общего с греческим, а принадлежит тому неведомому народу, который создал крито-минойскую цивилизацию. В результате гипотеза о «крито-минойском языке табличек» обрела такой авторитет, что к ее оппонентам стали относиться как к еретикам. Даже такой знаменитый ученый, как профессор А. Вэйс, поплатился за эту ересь — руководство университета отстранило его на время от раскопок в Микенах. Не будем рисковать и поступим соглашательски — признаем, что знаки линейного письма Б изображают отдельные слоги неведомого «крито-минойского» языка. В таком случае мы оказываемся в тяжелейшем положении. Поскольку язык этот никому неведом, то неизвестны ни его слова, ни, естественно, их слоги, а стало быть, неизвестно, какие звуки подставлять под разные знаки табличек — нет никакой зацепки. Нужно найти хотя бы какие-то правдоподобные слова и их слоги, иначе нельзя даже сдвинуться с места. В поисках этих слов и слогов первые исследователи линейного письма Б стали обращать взгляды во все мыслимые и даже немыслимые стороны. Одни утверждали, что «крито-минойский» язык, скорее всего, не принадлежит к семейству индоевропейских, а потому может быть похож на современный баскский (поскольку баскский является единственным неиндоевропейским языком в нынешней Европе). Другие полагали, что он должен быть похож на древний этрусский (поскольку традиция утверждала, что этруски пришли в Италию с островов Эгейского моря, близких к Криту). Болгарский лингвист Георгиев объявил «крито-минойским» языком изобретенную им смесь греческого с элементами других индо европейских языков; его теорию энергично поддерживали в сталинском СССР. А пионер расшифровки хеттского языка чешский лингвист Б. Грозный, взявшийся на старости лет разгадывать поголовно все еще не расшифрованные языки, предложил свою трактовку крито-минойских линейных начертаний как произвольной смеси хеттских, древнеегипетских, протоиндийских и даже финикийских письменных знаков; эта гипотеза оказалась такой же бесплодной, как «расшифровка» Георгиева. Тем не менее не все попытки были одинаково безрезультатны. Среди них оказались и удачные. Так, А. Коули разгадал с помощью пиктограмм знаки, характеризующие девочек и мальчиков; Алиса Кобер опознала знаки, которые обозначают пол людей и животных, а также меняют форму слова, как при склонении по падежам (эти «падежные окончания» она нашла, обнаружив на табличках комплексы знаков (слова), в которых все знаки, кроме последнего, были одинаковы); Беннет, анализируя количество одинаковых фигурок в разных частях таблички, выявил знаки для системы счета. Но великую заслугу полной и окончательной расшифровки линейного письма Б нужно отнести, несомненно, на счет англичанина Майкла Вентриса. Этот молодой английский архитектор (в годы второй мировой войны — штурман самолета-бомбардировщика) увлекся загадкой критского письма еще в детстве, а первую свою работу по его дешифровке опубликовал уже в 1940 году в возрасте 18 лет. Поначалу, подобно многим другим, Вентрис предлагал на роль неизвестного языка табличек этрусский. Попытки в этом же направлении он продолжил и после войны и окончания университета. Однако в 1952 году после нескольких лет напряженных размышлений, интенсивных поисков и обширной переписки с другими исследователями он пришел к совершенно новой, революционной гипотезе, опробование которой очень быстро привело его к решающему прорыву. Невзирая на всё, сказанное выше, о нерушимом авторитете гипотезы Эванса, Вентрис рискнул предположить, что язык загадочных табличек не какой-то там «крито-минойский», а все-таки древнегреческий, только очень архаический его диалект — микенский, на котором говорили за 500 лет до Гомера. И действительно, оказалось, что стоит подставить под знаки табличек слоги этого диалекта, как сквозь беспросветную чащу линий и черточек начали проступать первые понятные слова. Каким же путем Вентрис пришел к своей гипотезе? Прежде всего, он опирался на достижения некоторых своих предшественников. Уже Эванс понял, что большинство текстов на его табличках — это хозяйственные списки: в них явно просматривались какие-то подсчеты и суммы. Как уже говорилось, среди линейных знаков текста отчетливо выделялись отдельные пиктограммы — изображения мужчин, женщин, лошадей, амфор, треножников, колесниц, колес и т. п., и это позволяло, понять, какие именно объекты подсчитывались. А.по значкам в итоговых суммах можно было угадать и систему счисления (это сделал Беннет). Выше я уже упоминал о других разгадках — знаках пола, возраста, падежей. Чтобы продвинуться дальше, нужно было прибегнуть к комбинаторике, и Вентрис начал с составления статистических таблиц: какова частота употребления каждого знака, какова частота его появления в начале, середине и конце слова и так далее. Это привело его к определенным важным выводам. Так, он заметил, например, что в начале слов преобладают три знака, под номерами 08, 61 и 38 (такими номерами Вентрис обозначил все различные знаки линейного письма Б в составленной им сводной таблице). Они появлялись также внутри слова, но почти никогда не встречались в конце. Вентрису было известно, что в слоговом письме слог, состоящий из отдельной гласной, редко появляется внутри слова, но часто — в его начале (это подтверждала, в частности, упомянутая выше кипрская письменность). Отсюда следовало, что подмеченные им знаки, скорее всего, означают гласные. Далее, знак 78 очень часто заканчивал слова в различных суммированиях однородных предметов (вроде: пять / рисунок кувшина / 78 шесть / рисунок кувшина / 78 и так далее), за которыми следовала общая сумма («равно тому-то»). Было разумно предположить, что знак 78 означает союз «и», заменяющий (очевидно, не известный критянам) знак «плюс»: «Пять кувшинов и шесть кувшинов и так далее равно такому-то числу кувшинов». В некоторых случаях Вентрису помогали ошибки писца: подметив, к примеру, что знак 28 очень часто исправлялся писцом на 38 (а на глиняных табличках эти замены были очень хорошо видны), он заключил, что соответствующие слоги, видимо, весьма близки (вроде сходства слов «то» и «до», которое действительно может приводить к частым опискам). Все эти догадки и предположения позволили Вентрису в конце концов составить таблицу знаков, в которой они были разделены на «предположительно гласные» и «предположительно согласные», а затем построить таблицу повторяющихся комбинаций тех и других. Некоторые из этих комбинаций оказались повторяющимися, причем одни из них наличествовали как в кноссоских, так и пилосских табличках, тогда как другие — только в тех или других. В известных к тому времени угаритских и других надписях Ближнего Востока такие повторяющиеся комбинации знаков обычно означали названия городов и групп населения. Вентрис сделал смелое предположение, что это верно и для его табличек. Тогда комбинации, присущие только критским табличкам, могли означать названия городов или местностей на Крите вблизи Кноссоского дворца. Одно такое «критское» сочетание — 70-52-12 — повторялось особенно часто, и Вентрис предположил, что эти слоги как раз и образуют слово Кноссос: «ко-но-со». Рядом с ним часто возникало сочетание 08-73-30-12, и можно было думать, что это слово (кончающееся на 12, т. е. тоже на «со») является названием какого-нибудь важного места вблизи Кноссоса; одно такое название было известно еще из Гомера: Амниос, близлежащая торговая гавань. В слоговом (древнем) написании оно должно было выглядеть скорее всего как «а-ми-ни-(о) — со», что позволяло определить написание еще трех слогов. Дальше Вентрис рассуждал так: согласно Коули, комбинации знаков для девочек и мальчиков — это 70–42 и 70–54; если 70 — это «ко», то оба слова имеют вид «ко-42» и «ко-54». В греческом языке среди прочих названий для мальчиков и девочек есть «корос» и «коре»; в ионийском диалекте Гомера «корос» звучит как «коурос», в дорийском диалекте — как «коруос»; быть может, исходным (древнемикенским) были «корвос» (а для девочек — «кор-ва»)? Это добавляет еще два слога в таблицу. Работа Вентриса, таким образом, отчасти напоминала решение кроссворда, где разгадка первых слов все более и более облегчает разгадку следующих, но лишь в том случае, если каждое очередное слово читать именно по-гречески («по-древнемикенски»). Тем самым вероятность того, что язык табличек — действительно древнегреческий, а не какой-то крито-минойский, постепенно усиливалась. К 1952 году Вентрис (работая теперь совместно с кембриджским специалистом по греческим диалектам Джоном Чадвиком) расшифровал слоговые значения почти всех знаков «линейного письма Б» и составил их сводную таблицу. Однако многие специалисты (в особенности ярые сторонники «крито-минойского» происхождения табличек) не верили в эту «греческую» расшифровку и требовали в качестве решающего эксперимента, чтобы Вентрис прочел с ее помощью незнакомый текст (т. е. текст, не использованный при составлении самой таблицы). И Вентрис блестяще справился с этой задачей: получив от Карла Блегена еще не опубликованную табличку из Пилоса и применив для ее расшифровки найденные им слоговые (греческие) значения знаков, он получил связный й осмысленный текст! После этого чтение табличек пошло полным ходом, и уже в 1956 году Вентрис и Чадвик опубликовали толстый том «Документов микенского греческого языка», где было собрано большое число расшифрованных ими к тому времени текстов. А через две недели после выхода этого главного труда своей жизни 34-летний Майкл Вентрис погиб в автомобильной катастрофе. >ГЛАВА 9 ХЕТТСКИЕ СОСЕДИ История расшифровки линейного письма Б бесконечно интересна сама по себе, но скажем честно: мы не стали бы ею так долго заниматься, если бы одна деталь этой истории не имела прямого отношения к интересующей нас загадке Троянской войны. Вот она, эта важная и далеко ведущая деталь. В строках глиняных табличек из Пилоса то и дело встречаются перечни рабов и рабынь, работавших в царском хозяйстве (кстати, термин для обозначения этих людей, «лавийяйи», произведен от того же слова «лавия», «добыча», которое употребляет Гомер в 20-й песне «Илиады», рассказывая о пленницах, захваченных Ахиллом: «…множество жен полонил и, лишив их жизни свободной, в рабство увлек»). Если вдуматься, эти упоминания о рабах и рыбынях отнюдь не удивительны — рабский труд составлял в те времена один из главных хозяйственных устоев всех империй и царств. Любопытней другое. Зачастую рядом со значками, обозначающими рабов, обнаруживаются слова, которые можно расшифровать как указание, где именно эти рабы захвачены. Например, один такой (особенно подробный) список из Пилоса насчитывает около 600 женщин и 700 детей рабского сословия, причем о части из них сказано: «Из Милета» («милатийяйи»), что свидетельствует о походах микенцев к этому городу, находившемуся на западном побережье Малой Азии: В другом месте читаем о рабыне родом из местности «Асийяйи», что сразу напоминает (специалисту, конечно) слово «Ассува» — тогдашнее название обширного региона на том же побережье, позднее трансформировавшееся в греческое название для всей Малой Азии — «Асия». А одна из таких «пленниц» в пилосском списке и вообще характеризуется как «То-ро-ва» — может быть, «из Трои»? Впрочем, подобные фонетические сходства следует толковать крайне осторожно. Не зная, по каким законам меняются со временем гласные и согласные в данном языке, а также как они меняются при переходе от языка к языку (а лингвисты уже обнаружили множество таких законов), очень легко попасть впросак и принять желаемое за действительное. Не будем поэтому торопиться и выделим лишь то, что является несомненным. Несомненным во всем ранее сказанном представляется тот факт, что перечисленные выше упоминания «микенских» табличек о рабах и рабынях, будучи сведены воедино, убеждают нас, что уже в XV–XIII веках до н. э. (пилосские таблички относятся именно к этому времени) микенские и другие цари Ахейи совершали довольно частые походы за «живым товаром» в Малую Азию (в район Милета и «Ассувы»). Этот вывод настолько важен для наших «поисков Трои», что немедленно возникает волнующий вопрос: подтверждается ли он какими-либо другими фактами? Оказывается, да. Оказывается, в ходе новейших археологических раскопок на западном побережье Малой Азии обнаружено уже более 25 мест, где бытовала в больших количествах микенская посуда XV–XIII веков до н. э. Места эти концентрируются в центральной и южной части побережья, вблизи Эфеса и упомянутого выше Милета{15}. Более того, установлено, что микенцы, видимо, составляли заметную часть постоянных жителей тогдашнего Милета (а также, возможно, и некоторых других малоазийских мест). Действительно, этот город, основанный критянами и долго, сохранявший связи с Критом, в какой-то момент, примерно в 1450–1440 гг. до н. э., что совпадает со временем захвата Крита микенцами, резко меняет свой облик: он перестраивается, в нем воздвигается крепость, строятся храм Афины и дома с типично греческими большими залами — «мегаронами» — и т. п. Аналогичные приметы греческого пребывания появляются в то же время в соседних малоазийских городах Эфесе, Книде и других, а также в других бывших критских владениях — на островах Родосе, Хиосе и Самосе, лежащих у побережья Малой Азии. Иными словами, все критское стало теперь микенским. Как говорится, «убил — и еще наследовал». Это делает понятным упоминания о рабах в пилосских табличках. Разумеется, владея столь многими опорными пунктами у берегов Малой Азии и даже на ее побережье, ахейцы вполне могли совершать с этого плацдарма не только спорадические, но и вполне регулярные вылазки за рабами и рабынями в глубь малоазийского полуострова. Все эти факты интересны и сами по себе, ибо рисуют картину микенской цивилизации XIV–XIII веков до н. э. как весьма внушительного по размерам и военной силе царства, территория которого включала не только материковую Грецию, но также многочисленные острова Эгейского моря и даже прилегающее к ним побережье Малой Азии. Мы уже видели такую картину — в гомеровской «Илиаде», разумеется, где же еще! — но на сей раз уже не нужно гадать, достоверна ли она, на сей раз исторический фон гомеровского рассказа подтвержден как точными данными археологии, так и показаниями критско-микенской письменности. Это крайне интересно. Но у перечисленных выше фактов есть и другой, не менее важный аспект. Наличие форпостов Микенского царства на берегах Малой Азии и его неустанные попытки проникновения в поисках «живого товара» все дальше и дальше в глубину полуострова неизбежно должны были приводить к столкновениям ахейцев с другим могучим царством, которое в те же времена доминировало в этих же местах, вплоть до Милета и Трои, — с государством хеттов, с Хеттской империей. А если так, то можно думать, что конфликты двух столь серьезных противников могли найти какое-то отражение в том или ином хеттском клинописном тексте — ведь хеттские цари, как мы сейчас убедимся, вели обширную и детальную документацию всех своих военных, дипломатических и торговых действий. Продолжая эту логическую нить, мы приходим к очередному важному выводу: не исключено, что искомые нами отголоски Троянской войны (которая вполне могла быть одним из таких малоазийских «территориальных конфликтов») тоже могут обнаружиться в каких-нибудь хеттских текстах XV–XIII веков до н. э. Этот вывод заставляет пристальней присмотреться к хеттам, к их истории и в особенности, как мы уже сказали, к письменным памятникам этой истории. Хеттское царство часто называют «забытым». Действительно, долгое время господствовало представление, будто главными действующими лицами на древней ближневосточной сцене были египтяне да ассирийцы. Хетты воспринимались в духе многочисленных упоминаний в Библии (в той её части, которая у евреев называется «ТАНАХ», а у христиан — «Ветхий завет» для христиан), где о них говорится в основном как об одном из второстепенных племен («Хиттим»), встреченных евреями, когда они вернулись из египетского рабства в Палестину: например, красавица Батшева (в современном произношении Вирсавия), так возбудившая любострастие царя Давида, была женой «Урии Хеттеянина», т. е. хетта. Лишь в двух местах ТАНАХа мельком говорится о «хеттейских царях». В действительности, однако, хетты были не столько «зат бытыми», сколько, скорее, «неопознанными» участниками ближневосточной истории. Когда археологи обнаружили в Карнаке и других местах Египта стеллы с отчетом о великой битве при Кадеше (1275 г. до н. э.), эта историческая роль хеттов сразу стала очевидной: выяснилось, что фараону Рамзесу II противостоял в этой битве не кто иной, как «Великий Царь Хатти», армия которого включала воинов «шестнадцати народов» и насчитывала 2500 боевых колесниц! «Узнавание» хеттов получило огромный толчок, когда в 1834 году на поросшем дикими колючками холме вблизи заброшенной турецкой деревеньки Богазкёй в, Анатолии были открыты развалины бывшей хеттской столицы Хаттусы. Остатки ее могучих стен позволяли думать, что когда-то они тянулись на добрых три-четыре километра в длину и, следовательно, заключенный внутри них город не уступал по размерам Афинам в пору их высшего расцвета; там и сям на холме еще сохранились следы высившихся здесь некогда огромных храмов, посвященных каким-то неведомым богам, остатки львиных фигур, украшавших громадные ворота, и обломки странных скульптур, покрытых иероглифами на неизвестном языке. Вскоре аналогичная крепость, хотя и меньших размеров, была раскопана в Каркемише, а иероглифы, аналогичные богазкёйским, обнаружились во многих местах Сирии и Северного Ирака, а также Центральной и Западной Турции. Стало очевидно, что хеттское государство занимало огромную по тем временам территорию и его влияние ощущалось от западного побережья Малой Азии до Северной Сирии и верховий Тигра и Евфрата; иными словами, по размерам и силе оно не уступало тогдашним Египту и Ассирии. Эти представления были подтверждены открытыми в 1887 году глиняными табличками из Тель-Амарны (Сирия), содержавшими переписку фараонов XV–XIV веков до н. э. с мелкими сирийскими и палестинскими царьками, в которой удостоверялась реальность хеттской гегемонии в этих местах задолго до битвы при Кадеше. Но главный свет на историю хеттов пролили найденные в 1906–1908 годах Винклером таблички из Богазкёя, общим числом около 10 тысяч, с текстами на восьми языках (хеттский, аккадский, шумерский и др.), что, кстати, красноречиво свидетельствовало о многонациональном характере хеттского царства. Хеттские тексты этих табличек были расшифрованы во время первой мировой войны и вскоре после нее, и пионером здесь был уже упомянутый нами чешский лингвист Бедржих Грозный. Благодаря этим текстам история хеттов известна сегодня во многих подробностях. К сожалению, даже самое краткое знакомство с ней не может обойтись без упоминаний царских имен, ибо только перечисление последовательных царствований позволяет хоть как-то сориентироваться в хеттской хронологии. Говорю «к сожалению», потому что имена этих царей, как это сейчас же станет очевидным, зачастую труднопроизносимы. Хетты говорили на языке индо-европейской группы, близком к языкам других жителей тогдашней Анатолии — лувийцев, ликийцев и т. п. (эти языки тоже теперь расшифрованы), и пришли в свои земли откуда-то с северных берегов Черного моря, по всей видимости, за две — две с половиной тысячи лет до н. э., но надежное знание генеалогии их царей начинается лишь с 1650 года до н. э. (отрывочные сведения о более ранних временах, содержащиеся в некоторых ассирийских источниках, имеют туманный характер). В 1650 году до н. э. на трон объединенного хеттского царства взошел Хаттусилис Первый, прославившийся завоеванием царства Алеппо в Сирии; ему наследовал его внук Мурсилис, завоевавший долину Евфрата вплоть до Вавилона, а затем, после продолжительных династических распрей, — потомки Мурсилиса: Телипинус, его сын Аллувамнас и ряд последующих, не очень точно известных правителей. Этот период называется «Старым царством»; он продолжался до начала XV века до н. э., когда на трон взошел Тудхалйяс (по-видимому, второй по счету с таким именем), открывший славную эпоху «Нового царства». В эту эпоху хеттская держава стала подлинной империей, т. е. конгломератом многих народностей — в ее состав входили около 20 крупных городов и 40–50 «земель» (небольших царств и отдельных полисов вроде Алеппо, Дамаска, Хацора, Тира, Сидона и т. п.). Около 1400 года до н. э. правителем этой империи стал Тудхалйяс Третий; около 1380 года его сменил Суппилулиумас (я предупреждал!); примерно в 1340 году до н. э. на трон взошел Мурсилис Второй, а около 1315-го — Муватталис, о котором нам еще придется не раз говорить; за ним правили Мурсилис Третий (1296–1289) и, наконец, Хаттусилис Третий (1289–1265); он, видимо, и был тем хеттским царем, который сражался при Кадеше. Особенно интересными с нашей, «троянской», точки зрения являются последние 70 лет существования хеттской империи — времена царей Тудхалияса Четвертого (1265–1235), Арнувандаса Второго (1235–1215) и Суппилулиумаса Второго (1215–1190 гг. до н. э.); они интересны для нас потому, что включают те годы, к которым античная традиция относит Троянскую войну, а археологи — пожар Трои-7а. Они были также последними в истории хеттов, потому что вскоре после смерти Суппилулиумаса Второго или даже при нем, примерно в 1190 году до н. э., в страну вторглись неведомые завоеватели, которые захватили и сожгли столицу Хаттуса (Богазкёй) и положили конец великой Хеттской империи. Перед тем, как задернуть занавес над ее историей, обратим еще внимание, что время гибели объединенного хеттского государства практически совпадает со временем столь же внезапной и столь же загадочной гибели объединенной микенской цивилизации (примерно 1200 год до н. э.) — и тоже под натиском неведомых завоевателей. Если добавить, что примерно тогда же подвергся вторжению и Египет, то череда многозначительных совпадений станет слишком широкой, чтобы быть случайной, и это порождает некоторые предположения, разговор о которых мы, однако, отложим на конец нашего очерка. История хеттов могла бы стать предметом увлекательного рассказа, и даже не одного, но сейчас нас интересует в ней лишь ее узкий «ахейско-троянский» аспект. Этот наш интерес не оригинален: задолго до нас, с самого начала расшифровки хеттских документов, многие лингвисты и историки стали искать в них следы хеттско-ахейских контактов (а многие — и отголоски Троянской войны) и кое-что даже успели найти. В частности, на некоторых глиняных табличках из Богазкёя они обнаружили такие тексты, которые на первый взгляд недвусмысленно указывают на ахейцев и свидетельствуют о давних контактах хеттов с ахейским государством. Действительно, в некоторых хеттских документах (их насчитывается свыше 20) фигурирует некое (заморское?) царство Ахиява (хеттское Ahhijaawa), название которого так похоже на слово «Ахайвой» (так Гомер именует своих героев-ахейцев), что кажется попросту немыслимым истолковать его как-то иначе. В этих текстах встречаются и другие, столь же впечатляющие совпадения, например, Lazpas — какая-то страна, связанная с Ахиявой: это название почти до очевидности похоже на Лесбос — остров в Эгейском море у берегов Анатолии вблизи Трои; или Milawata — город на территории Ликии, находившийся в те времена под властью царей Ахиявы, — название, весьма похожее на Милет, древнегреч. «Миллатос», который, как мы уже говорили, действительно представлял собой в ту пору главный ахейский форпост в Малой Азии. Эти совпадения простираются и на имена собственные: так, исследователи обнаружили в текстах, связанных с Ахиявой, имя Tawakalawas, что с учетом различия произношений очень похоже на греческое «Этеоклес», которое в пилосских табличках зафиксировано как Etewoklewelos; а также совсем уж поразительное Attarisijas, которое можно прочесть как Atressias, что очень близко к имени легендарного греческого героя Атрея, родоначальника всех микенских царей-Атридов вплоть до Агамемнона. В 1924 году Эмиль Форрер, швейцарский лингвист и историк, один из главных дешифровщиков хеттских глиняных табличек, опубликовал статью «Догомеровские греки в клинописных — текстах из Богазкёя», в которой на основании перечисленных выше фактов и множества других, более тонких, но не менее впечатляющих сличений выдвинул гипотезу, что в соответствующих хеттских документах, откуда они были извлечены, речь действительно идет об «ахейской» (микенской) цивилизации времен Троянской войны и ранее, что эта цивилизация (объединение городов-царств во главе с Микенами) была издавна и хорошо известна хеттам и что контакты Хеттской империи с Ахиявой, временами дружеские, временами кровавые, продолжались на протяжении нескольких веков вплоть до эпохи Троянской войны и последовавшего вскоре после нее загадочного краха обеих держав. На наш несведущий взгляд, после всех перечисленных выше совпадений эти утверждения почти самоочевидны, поэтому покажется, наверное, неожиданным, что толкование Э. Форрера вызвало поначалу крайне резкую критику крупнейших хеттологов того времени и, прежде всего, Фердинанда Зоммера — автора фундаментального исследования, в котором были собраны и прокомментированы все хеттские источники с упоминаниями Ахиявы. С этого начался затяжной «спор об Ахияве», к которому и нам стоит присмотреться, так как он напрямую связан с интересующей нас проблемой исторической достоверности Троянской войны. Надо же знать, у кого какие аргументы… Критика гипотезы Форрера шла главным образом со стороны лингвистической. Оппоненты утверждали, что его фонетические сближения — Ахиява — Ахейя, Аттарисиас — Атреус — весьма произвольны и противоречат законам греческого и хеттского языков (например, хеттское «ийя» в слове Ахийява никак нельзя свести к греческому «аи» в слове Ахайвой). А кроме того, двадцать с лишним упоминаний Ахиявы в хеттских текстах — число, конечно, внушительное, но лишь до-тех пор, пока мы концентрируем внимание на одной Ахияве; оно сразу становится ничтожным, когда вспомнишь о многих тысячах (!) упоминаний Египта или Ассирии. Стало быть, предположение о «мощи» Ахиявы не так уж убедительно — это царство вполне могло быть и не таким уж большим, чем-то вроде других царств на западном берегу тогдашней Малой Азии или в Эгейском море — и может быть, именно там оно и располагалось. Исходя из подобных рассуждений, Ф. Зоммер помещал Ахияву вблизи Милета; Б. Грозный — на острове Родос; П. Кречмер — на крайнем юге Малой Азии (нынешняя Анталйя), Дж. Маккуин — возле Трои, а Дж. Мелларт — вообще во Фракии, на противоположном от Трои берегу Мраморного моря, на месте нынешней Румынии и Болгарии. Как насмешливо заметил один из корифеев хеттологии Ф. Шахермайр, «противники Форрера готовы были локализовать Ахияву хоть на Луне, лишь бы не на греческом континенте». Однако по мере того как археология уточняла истинные масштабы ахейского присутствия в Эгейском море и в Малой Азии, гипотеза Форрера начала привлекать все большее сочувствие ученых, и сегодня совпадение «Ахиявы» с какой-то частью ахейского мира считается почти доказанным. Спор идет скорее о том, включали хетты в это понятие всю микенскую цивилизацию или только ее форпосты в Малой Азии, Но в пользу первого предположения говорит тот факт, что в некоторых хеттских документах перед словами «царь Ахиявы» стоит значок, означавший у хеттов что-то вроде «Его Величество» титул, которого удостаивались в хеттской официальной переписке только цари Египта и Ассирии. О «величии» Ахиявы косвенно говорит и другой факт: в 1981 г. в греческих Фивах были найдены 36 ляпис-лазуревых печатей, происхождение части которых надежно прослежено до храма Мардука в Вавилоне, некогда ограбленного ассирийцами. Печати найдены в том слое, который соответствует времени хеттских попыток блокировать ассирийскую торговлю. Не были ли они подарком ассирийцев, пытавшихся привлечь Ахейю на свою сторону против хеттов? Эти и другие аналогичные свидетельства значимости Ахиявы постепенно побудили большинство ученых признать, что великий царь Ахиявы, равный по рангу царям других великих держав того времени, не мог быть правителем какой-то страны в Анатолии, где не было места ни для какой великой державы, кроме Хатти, и потому мог быть лишь царем материковой Греции. Итак, по нынешнему мнению большинства ученых, хеттская «Ахиява» — это действительно Микенское царство XV–XIII веков до н. э., а коль скоро это так, нам, конечно же, следует обратиться к хеттским текстам об отношениях с Ахиявой — ведь где-то там могут скрываться и упоминания о Трое, а может быть, и о Троянской войне. Сейчас мы этим займемся. Мы уже близки к финишу. >ГЛАВА 10 ТРОЯ В ХЕТТСКИХ ДОКУМЕНТАХ Хеттские клинописные тексты, сохранившиеся на десяти с лишним тысячах глиняных табличек из Хаттусы (Богазкёя), — это подлинная сокровищница исторических документов, на страницах которой запечатлены живые, яркие образы царей и полководцев, впечатляющие описания битв и походов, сложные и тонкие дипломатические интриги международной политики. В сравнении с этим тексты крито-микенского линейного письма Б выглядят как сухие безжизненные перечни, сквозь которые едва сквозят смутные силуэты мертвых предметов и безвестных людей. Но хеттские тексты не исключение на тогдашнем Востоке. Такую же широкую, яркую, поразительно выпуклую картину сложной политической и культурной жизни далекого прошлого запечатлели и памятники двух других великих держав той эпохи — Древнего Египта и Древней Ассирии. В этой связи английский историк Майкл Вуд меланхолически замечает: «Увы, микенская Греция находилась на периферии этого «клуба избранных»…» И он прав: в сравнении с хеттской, египетской и ассирийской цивилизациями XV–XIII веков до н. э. с их бесконечными территориями, огромными столицами и громадными военными полчищами материковая Треция тех времен — даже в любовном описании Гомера — кажется «убогой» и «варварской»; этакий архаичный вариант «рыцарской Европы» с ее безграмотными королями и утопавшими в грязи городами или же более знакомой нам Киевской Руси времен какого-нибудь Святослава или Владимира. Подобно Агамемнону и Ахиллу у Гомера, и те ведь ходили походами на Царьград с окраин своей ойкумены, и у тех всех радостей было — пировать в шатрах, враждовать друг с другом из-за пленниц или золота да схватываться с врагами в богатырских поединках. Боги, однако, смеются: где сегодня те византийцы — и где славяне? Где те хетты — и где греки? Именно таким «варварам» история, как правило, дарует великое будущее: пройдет лишь несколько столетий, и Хаттуса будет лежать в развалинах, а Афины станут центром ойкумены: там Платон будет учить Аристотеля, на Самосе родится Пифагор, а на Косе — Гиппократ, и греческие корабли разгромят самую крупную сухопутную державу азиатского континента — империю персов, которая к тому времени сменит хеттов, а потом Александр Македонский высадится в Малой Азии, чтобы завоевать и преобразить Восток. В описываемые нами годы до этого, однако, еще далеко, и, глядя на варварский городок Афины, никто не рискнет предсказать им великое будущее. Хетты еще правят в Малой Азии: их империя занимает всю центральную часть этого огромного полуострова, оползая по карте вниз, на юг, в Сирию и Двуречье, словно под грузом собственной тяжести. На западе она контролирует множество мелких полунезависимых царств на побережье Эгейского моря. Среди них и Милет — видимо, он находится в двойном подчинении (термин Шахермайра): подчиняется Микенам, но официально лоялен по отношению к Хаттусе. Эти места нас и интересуют — здесь, в их северо-западном углу, лежит Троя. Политическая география этого побережья сложна и запутанна, и хеттские тексты мало помогают в ее прояснении. Огромная хеттская держава мало интересуется этими местами: она требует лояльности от всех местных царствишек, ее цель — поддерживать нерушимый порядок в своих пределах, и лишь в те редкие периоды, когда чей-то серьезный мятеж или вторжение его нарушат, она вспоминает об этих местах и шлет туда армию, чтобы восстановить положенный миропорядок. Немудрено, что хеттские документы плохо и путано фиксируют местную географию — они и Ахияву-то, как мы видели, упоминают нечасто, в основном именно в связи с ее вторжениями или интригами на побережье. Все же можно восстановить, что главным царством на побережье хетты считали Арцаву (Аггауф), о местонахождении которой хеттологи по сей день ведут яростные споры. Одни помещают ее в юго-восточной части полуострова, и на карте в старой «Британской энциклопедии» вы увидите именно этот вариант, другие — их подавляющее большинство — отстаивают теорию «западной» Арцавы, в центре западного побережья Малой Азии, со столицей в Апасе, греческом Эфесе. Здесь, на западе, действительно раскопаны крупные города и роскошные дворцы, каких нет на юге; но главное — западное расположение Арцавы много лучше согласуется с имеющимися сведениями о соседних с ней царствах — Мира, Хапалла и Страна реки Сеха. На карте «Британники» они показаны севернее «южной» Арцавы, то есть уже в глубине малоазийского полуострова, но хеттологи показали, что название «Мира» точно сопоставимо с греческим «Мирос» — названием реки северо-восточнее Эфеса, а слово «Хапалла» — Со словом «Капалла», которым греки обозначали область побережья северо-западней Эфеса. Если принять «западное» размещение этих двух соседних с Арцавой царств, то и третий ее сосед, Страна реки Сеха, тоже найдет правильное место — еще дальше на север, в той части побережья, что против острова Лесбоса. То, что это размещение правильное, подтверждается упоминанием хеттских источников, что эта страна граничит со страной Lazpas, что как раз и означает, как мы уже говорили выше, греческий Лесбос. Все перечисленные царства вместе с Арцавой иногда именуются в хеттских документах одним словом «Ассува», которое замечательно близко к тому слову «Асуйя» (позднее — «Асия»), которым в крито-микенских табличках обозначается одно из главных мест, где ахейцы добывали себе рабов в набегах на малоазийское побережье. Видимо, такое единое обозначение следует понимать в том смысле, что все эти западные прибрежные царства время от времени объединялись в борьбе против власти хеттов, и потому хетты знали их как единого врага; это толкование действительно подтверждается списком городов-государств «Ассувы», перечисленных в «Анналах» царя Тудхалияса Четвертого. Может показаться, что мы копаемся в ненужных подробностях, но это не так: двигаясь от одного прибрежного царства к другому, мы имеем важную тайную цель — найти местоположение самого загадочного из них, которое в перечне из «Анналов» Тудхалияса именуется «Вилуса» (по-хеттски — Wilusija). Это название идет в перечне сразу же после другого, — еще более примечательного — «Truisa», которое тотчас и главным образом приковало к себе внимание исследователей (прежде всего Э. Форрера), попытавшихся отождествить его с гомеровским «Troih», т. е. Троей! Эта попытка встретила возражения других ученых, ибо хеттские знаки этого слова допускали несколько возможностей чтения (Форрер выбрал из них самую удобную для своих целей), и потому хеттологи, отложив на будущее загадку «Труисы», переключились на поиски Вилусы, и вот тогда-то П. Кречмер первым привлек для сравнения с ее названием греческое слово «Илион», или «Илиос», в котором, вглядываясь в особенности гомеровского языка, он выявил некогда существовавшее, но выпавшее начальное «В» — «Вилиос». Гипотеза Кречмера вскоре получила поддержку. При анализе хеттских текстов конца XIV века до н. э. времен царя Муватталиса выявилось, что тогдашний правитель Вилусы, некий Alaxandus (обратите внимание на это имя!) обратился к хеттам за помощью против соседей, отдав себя под власть Муватталиса. Между тем из много более поздних византийских хроник известно, что был в Византии город, основанный, по легенде, «царем Мотилом», который принимал там «Париса и Елену». Напомнив, что второе имя Париса было Александр, Кречмер предположил, что «Мотил» — это искаженное временем и легендой «Муватталис». Более того, в другом хеттском документе упоминается царь — предшественник Алаксандуса, по имени Кукунис, которое Кречмер отождествил с именем царя Кикна, упоминаемого в «Илиаде»: согласно Гомеру, он правил в городе Колоны, южнее Трои, и первым пришел на помощь осажденной Трое. Все эти совпадения побуждают сопоставить Вилусу с гомеровским Илиосом, или Троей. И действительно, если следовать перечню прибрежных царств в «Анналах» Тудхаилияса, то местонахождение загадочной Вилусы естественным образом совмещается с положением Трои. Может быть, Труисой в списке Тудхалияса называлась местность, окружавшая город, т. е. тот район, который мы сегодня называем Троадой? Ведь и у Гомера Троя и Илион-Илиос часто упоминаются так, будто Троя понимается и как город, и как страна (Троада), а Илион — только как город (мы говорили об этом в 3-й главе). Как бы то ни было, но в хеттских текстах перед словом Вилуса иногда стоят сразу два значка — страны и города, так что все вместе читается как «страна города Вилуса», а иногда только знак страны — «царство Вилуса». Это царство упоминается весьма часто, что создает впечатление давнего знакомства хеттов с этим районом. Самый первый «вилусский» документ хеттов — договор Алаксандуса и Муватталиса — рассказывает, что некогда хеттам подчинялась и Вилуса, и Арцава; позднее Арцава отпала, но Вилуса оставалась с хеттами в мире и дружбе, и отец Алаксандуса царь Кукунис даже оказал отцу Муватталиса — царю Мурсилису — помощь против Арцавы. Далее в этом документе следует: «У Кукуниса… было… вот он…» Исходя из того, что точно такое же сочетание слов было найдено в другом хеттском документе — об усыновлении одним хеттским царем некоего принца из страны Мира, историк И. Фридрих выдвинул смелую гипотезу, что и тут нужно читать: «У Кукуниса (не) было (детей), вот (он тебя, Алаксандус, и усыновил)». Гипотеза может показаться даже слишком смелой, учитывая скудость наличного текста, но ее делает привлекательной упоминание великого греческого драматурга Еврипида в его (известной, к сожалению, лишь в пересказе) трагедии «Александр» о том, что троянский Парис-Александр имел аналогичную биографию: он был усыновлен царем Приамом и провозглашен законным наследником, что вызвало недовольство и ропот троянцев. В договоре Муватталиса с Алаксандусом тоже говорится, что «человечество ропщет» против Алаксандуса. Параллели слишком волнующи, чтобы оставить их без внимания, — ведь, приняв гипотезу Фридриха, мы, по существу, обнаруживаем в хеттских текстах прямое указание на одного из главных героев «Илиады»! Судя по дальнейшему тексту договора, Муватталис поддержал Алаксандуса против «ропщущих» подданных, за что Алаксандус признал себя хеттским вассалом. Хетты, таким образом, в обмен за свою помощь получили еще одного вассала на западном берегу (в добавление к уже покоренным ими Хапалле, Мире и Стране реки Сеха). Как предположила Хайнхольд-Крамер, сколачивание этого блока вассальных царств было, видимо, необходимо хеттам для прикрытия побережья от возможного вторжения опасного врага. Мы сейчас увидим, что, скорее всего, этим врагом, была Ахиява, т. е. ахейцы. Пока же заметим, что с этим присоединением Вилусы к прохеттской коалиции прибрежных царств весьма подозрительно совпадает первое упоминание хеттами троянского племени: в стеле Рамзеса Второго о битве с хеттами при Кадеше (1275 г. до н. э.) говорится о хеттских союзниках «A-ru-sa-wi», что, видимо, означает воинов из Арцавы, и, «Dar-d-an-ja», что ученые расшифровывают как «дарданцы» — племя, обитавшее, согласно «Илиаде», на юге Троады-Илиоса (Вилусы); мы уже говорили много раньше, что это название то ли восходит к проливу Дарданеллы, то ли само дало ему такое название. Но откуда бы ни взялось слово «дарданцы», ясно, что их упоминание в Кадешской стеле — лишнее доказательство того, что Вилусу правильно отождествлять с Троадой: стоило ей стать вассалом Муватталиса (ум. в 1296 г. до н. э.), и вскоре (1275 г. до н. э.) вилусцы-дарданцы уже появляются в хеттских войсках при Кадеше. Есть и еще одно подтверждение того, что Вилуса — скорее всего, Троя: в договоре вилусского Алаксандуса с Муватталисом упоминаются вилусские боги; один из них — «Аппалинаус», что, несомненно, означает Аполлон. Напомним, что и у Гомера Аполлон не греческий, а именно троянский бог (о чем говорит, например, его история с Кассандрой, которой он хотел овладеть, а за отказ наплевал в уста). Следующим в списке вилусских богов назван «бог подземных вод», что не менее поразительно совпадает с тем фактом, что вблизи Трои воды реки Скамандр с шумом и грохотом выходят из подземного туннеля в широкое ущелье под горой Ида; это ущелье издавна было местом религиозных праздников в Троаде. Гомер, кстати, тоже называет Скамандр «божественным» и «богорожденным». После всего сказанного представляется уже почти несомненным, что в хеттских текстах, рассказывающих о царстве Вилуса, речь действительно идет о Трое-Илионе, знакомой Гомеру, и о ее древних царях времен Троянской войны: не забудем, что правление Муватталиса и его преемников, по какой хронологии ни считать, совпадает со временем существования Трои-6 и 7а, раскопанных Шлиманом, Дорпфельдом и Блегеном. Сам этот факт не так уж поразителен, если вдуматься, т— ведь сомнений в реальном существовании Трои на самом деле ни у кого нет, как нет сомнений и в том, что Троянское царство (а Троя-6, судя по ее размерам, должна была быть столицей довольно значительного царства — это самый большой древний город, раскопанный на северо-западе Малой Азии) уже хотя бы в силу своего геополитического расположения должно было входить в контакты с современной ему и соседствующей с ним могущественной империей хеттов. Приятно, конечно, что все эти представления, имеющие первоисточником гомеровский рассказ, подтверждены теперь перекрестными историческими, археологическими и лингвистическими доказательствами. Но это еще не доказывает исторической реальности описанной Гомером Троянской войны… Пока что мы не обнаружили в хеттских документах чего-либо, напоминающего об этом событии. Задумаемся поэтому: где следует искать такие упоминания (если они вообще существуют)? Ответ представляется однозначным. Троянская война велась ахейцами (для хеттов — Ахиявой) против Трои (для хеттов — Вилусы, их вассала). Следовательно, теперь, на завершающем этапе нашего исторического расследования, надлежит обратиться к тем хеттским текстам, в которых одновременно упоминаются и Вилуса, и Ахиява. Обратимся же к ним — и скорее — мы почти у цели! >ГЛАВА 11 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ХЕТТОВ Большинство хеттских документов повествует о внутренних делах империи; это вполне обычные, знакомые имперские дела: смены правителей, борьба за престол, смуты и гражданские войны, нерадивость местных чиновников и волнения в окраинных областях. Эти глиняные таблички не сохранили ни текстов своего Гомера, ни даже текстов своего Бродского, чтобы позволить потомкам вдохнуть горячую и горькую пыль тех веков, но и в них ощущается бескрайний размах имперского пространства, стянутого сетью нескончаемых, в пустоту уходящих дорог, всепроницаемость и вездесущесть централизованного надзора и тяжесть столичной длани на загривке провинций, бесконечная глушь отдаленных полисов и размеренная медлительность их предустановленного быта. Другой массив текстов посвящен делам внешним — это дипломатическая переписка с повелителями других империй, сообщения о битвах и походах, хвастливые отчеты о победах и сетования на нежданные поражения, договоры о торговле или их расторжение, смутные отголоски сложных политических интриг. Заморское царство Ахиява (которое большинство хеттологов, как мы уже говорили, отождествляют сегодня с материковой, «микенской» Грецией) упоминается здесь нечасто, около 20 раз, то есть несравненно реже, чем Ассирия и Египет, но ведь и то сказать — Ахиява далеко, и ее цари редко когда угрожают империи столь серьезно, как ее ближайшие и могущественные соседи на юге и востоке. Все же несколько-раз доходит, видимо, и до этого, и к таким конфликтам Ахиявы и хеттов нам нужно присмотреться особенно детально, потому что, как уже говорилось в конце предыдущей главы, отголоски Троянской войны, т. е. похода ахейцев на Трою-Вилусу, могут оказаться лишь в тех хеттских документах, которые повествуют о вторжениях царей Ахиявы в хеттские владения. Первый (из доныне найденных) хеттский текст, в котором упоминается такое вторжение, — это «рассказ о преступлениях Маддуваттаса», как его называют хеттологи, отнесшие этот рассказ после долгих споров примерно к 1440–1380 годам до н. э. Микенские греки в то время, как известно, уже овладели Критом и островами Эгейского моря, и вот уже пара десятилетий, как утвердились в Милете. Немудрено, что, ступив на побережье Малой Азии, они тут же начинают вмешиваться в дела прибрежных малоазийских земель, подвластных империи хеттов, и вот в тексте послания к некому Маддуваттасу (видимо, царьку одной из таких земель) в ходе перечисления его прегрешений впервые появляется упоминание об Ахияве: «…тебя (Маддуваттаса), из страны твоей изгнал Аттариссий, человек из страны Аххия… он и далее вслед за тобой… он постоянно преследовал тебя, он стремился к твоей, Маддуваттас, погибели. Но бежал ты, Маддуваттас, к от(цу Солнца Моего). И отец Солнца Моего отклонил тебя от погибели и Аттариссия назад отстранил…» В чем же состояли «преступления» Маддуваттаса, по которым названо это пространное и примечательное послание? Оказывается, едва оправившись благодаря помощи хеттов от поражения, он тотчас напал на своих соседей, других хеттских вассалов, и тогда отступивший было Аттариссий снова появился на сцене с огромным по тем временам войском, насчитывавшим 100 боевых колесниц. Пришлось снова отправлять против него хеттскую армию. Однако неугомонный Маддуваттас и после этого продолжал свои происки: он захватил ряд мелких прибрежных царств по соседству, сколотил из них серьезный анти хеттский блок и, что всего хуже, вступил в тайный сговор с Аттариссием и помог тому напасть на «страну Аласию» (ученые давно уже установили, что хеттская Аласия — это остров Кипр), где Аттариссий захватил много пленных (читай — будущих рабов). В этом месте так и просится упоминание, что по археологическим данным массовое проникновение микенской посуды на Кипр начинается именно в это время — около 1400 года до н. э. Мало того, массовое появление этой посуды на западном побережье Малой Азии тоже начинается в те годы, к которым, судя по хеттскому посланию, относятся вторжения «ахиявского царя» в малоазийские земли{16}. Созданная Маддуваттасом анти-хеттская коалиция сыграла роковую роль в истории «Старого» хеттского царства. Войдя в сговор с Египтом, эта коалиция едва не сокрушила хеттов; во всяком случае, накануне вступления на трон Тудхалияса Второго хетты находились на грани окончательного поражения. Однако новый правитель сумел отразить главные угрозы и возродить хеттскую империю под названием «Нового царства», а его преемники Тудхалияс Третий и Суппилулиумас неслыханно раздвинули пределы полученного наследия. На хеттских табличках сохранилась «Автобиография» Мурсилиса Второго, сына Суппилулиумаса, в которой он много рассказывает о своем отце, упоминая, в частности, что «когда отец мой в живых (был)… тогда он (что-то) с моей матерью… и ее в страну Ахиява… он на ту сторону отправил». Этот документ описывает времена, отстоящие на несколько десятилетий от походов Аттариссия, и отношения хеттов с Ахиявой за это время, видимо, изменились: они стали настолько дружественными, что Ахиява даже готова пойти навстречу хеттскому царю в довольно щекотливом вопросе распри с женой и принять у себя опальную царицу. Сам Мурсилис Второй продолжил победы своего отца, окончательно разгромив Арцаву, которая возглавляла антихеттскую коалицию на западном побережье Малой Азии, и главу ее, некого Ухацитиса, изгнал все в ту же Ахияву: «и он с моря… к царю Ахиявы… я снарядил с кораблем, и они увезли его прочь». Правда, в ходе этой войны был сожжен и главный форпост Ахиявы на побережье — город Милет, но ахиявские цари, судя по всему, не выразили никакого возмущения по этому поводу, и город вскоре был отстроен, кажется, руками самих же хеттов. А вскоре из Ахиявы ко двору заболевшего Мурсилиса отправляется некто «Антаравас» (возможно, Антреус) со статуями ахиявских богов, которые должны помочь выздоровлению царя. Одним словом, при Мурсилисе Втором глухая вражда между Хаттусой и Ахиявой сменяется подлинной политической идиллией. Однако ни во времена вражды, ни теперь, во времена дружбы, Вилуса в связи с Ахиявой, увы, не упоминается. Как мы помним, во времена правления следующего хеттского царя, Мувутталиса (1315–1296), некий принц из Вилусы, Алаксандус, опасаясь каких-то врагов, обратился за помощью к хеттам и согласился стать их вассалом (этими врагами скорее всего были его же «ропщущие» подданные, которым не понравилось, что усыновленный предыдущим вилусским царем Алаксандус взошел после его смерти На трон, минуя законных наследников). В договоре Алаксандуса с Муватталисом вассал обязывается противостоять какому-то врагу, и последующие события показывают, что обязательство это не было случайным — ожидать вторжения врага были все основания. Действительно, в сохранившемся отрывке письма, отправленного царем Страны реки Сеха (это царство, напомним, соседствовало с Вилусой с юга и востока) в Хаттусе, хеттскому царю (скорее всего, тому же Муватталису), говорится, что ожидаемый враг «пришел и войско страны Хатти привел… назад л страну Вилуса биться пошли». Весь этот эпизод хеттологи трактуют следующим образом: упрочив положение Алаксандуса на престоле Вилусы и сделав его своим вассалом, хетты, видимо, изменили прежнее положение вещей, при котором Вилуса была вассалом неведомого «врага»; этот противник не потерпел ослабления своих позиций и вторгся в страну, пытаясь восстановить прежнее положение; хетты тотчас отреагировали присылкой своих войск. Кто же этот неведомый противник, с которым хетты воюют из-за Вилусы? Хайнхольд-Крамер высказала предположение, что им могла быть Ахиява. На первый взгляд кажется, что это совершенно безосновательное предположение, но анализ последующих документов показывает, что оно вполне правдоподобно. Главным из этих документов является так называемое «Письмо о Тавакалавасе». Сопоставление его с другими хеттскими текстами, где упоминаются некоторые из лиц, указанных в «Письме», позволяет отнести события, излагаемые в письме, ко временам наследников Муватталиса — царя Мурсилиса Третьего (1296–1289), а скорее даже — его преемника и дяди, Хаттусилиса Третьего (1289–1265). Этот царь известен (из документов) своей политикой умиротворения противников, проводимой с большим дипломатическим искусством (впрочем, войну с Египтом при Кадеше он этим не предотвратил), а в «Письме о Тавакалавасе» обнаруживаются все приметы такой политики. История, стоящая за письмом, такова: некий Пиямарадус (судя по дальнейшему, мелкий властитель на западном побережье Малой Азии) восстал против хеттов на побережье, а когда хетты пришли навести порядок, этот «враг» бежал в Ахииву вместе с братом ахиявского царя Тавакалавасом, до того находившимся в Милаванде (как мы уже говорили выше, хеттская Милаванда — это главный ахейский, т. е. микенский, форпост в Малой Азии, город Милет, а имя Тавакалавас некоторые хеттологи отождествляют с греческим «Этеоклес», или «Этеокл», считая этого царевича Этеокла микенским наместником в Милете). И вот теперь хеттский царь пишет царю Ахиявы, именуя его «другом и братом», что он-де никаких враждебных замыслов против Ахиявы не имеет, Милаванду и трогать не намерен и просит лишь выдать ему мятежника Пиямарадуса, причем готов даже простить его, если царь Ахиявы будет на этом настаивать. Автор письма признает, что, возможно, обидел царя Ахиявы, и торопится заверить «друга и брата», что согласен на все его условия ради примирения с ним, а покамест посылает своего высокородного придворного в Ахияву в качестве «заложника мира». Подчеркнутая смиренность и миролюбивость текста выдает в авторе царя-миротворца Хатусилиса. Но самое интересное для нас таится в одной из второстепенных строк «Письма», где Хаттусилис вспоминает о прежних отношениях хеттов с Ахиявой. Он признает, что у царя Ахиявы могут быть обиды — ведь еще не так давно хетты воевали с ним из-за Вилусы, — но тут же оправдывается: во-первых, Ахиява ведь победила в той войне, а во-вторых, он, Хаттусилис, в ней вообще не виноват: «Я ведь юн был!» После чего восклицает с деланным недоумением: «Чего же еще?» Мол, какие еще могут быть претензии? Хаттусилис был «юн» во времена царствования своего брата Муватталиса, и это позволяет связать его слова о войне хеттов с Ахиявой из-за Вилусы с предыдущим сообщением царя Страны реки Сеха о вторжении неведомого врага в пределы Вилусы как раз во времена правления Муватталиса. В.таком случае предположение Хайнгольд-Крамер подтверждается: этим «неведомым врагом» действительно была Ахиява, цари которой не потерпели перехода Алаксандуса на сторону хеттов и сумели, по всей видимости, вернуть себе свои прежние позиции в Вилусе. Еще одно место из «Письма о Тавакалавасе» делает эту трактовку событий почти несомненной — здесь автор «Письма» вкладывает в уста своего адресата (царя Ахиявы) такое заявление: «Мы, царь страны Хатти и я, из-за этой страны Вилуса во вражде были мы… и он меня в отношении ее умиротворил и мы заключили договор». Иными словами, после кратковременной попытки Муватталиса повернуть Вилусу против Ахиявы и решительного военного ответа последней статус-кво был восстановлен и в отношениях, между хеттами и Ахиявой снова наступила идиллия. Но времена менялись. И в дипломатических текстах, относящихся к правлению следующего хеттского царя, воинственного Тудхиялиса Четвертого (1265–1235 гг. до н. э.), царь Ахиявы уже перестает быть «братом и другом». Причем перестает им быть весьма эффектно. В перечислении великих царей, содержащемся в одном из тогдашних документов, знак титулатуры «Его Величество», поставленный писцом перед словами «царь Ахиявы», стерт с таблички с таким усердием, словно была допущена грубая политическая ошибка. И в другом тексте, повествующем о победоносном походе хеттов на Аласию-Кипр, где в то время, — археологам это доподлинно известно — было много ахейских городов, никакого упоминания о «великой Ахияве» тоже нет, она в этом тексте не присутствует вообще. И то же самое — в третьем тексте, в «Письме в Милаванду», где этот давний и главный ахейский форпост в Малой Азии запросто, словно так и должно быть, словно так всегда и было, именуется хеттским владением — нет Ахиявы! Что, микенская держава распалась, исчезла под натиском каких-то врагов? Нет, она существует, это известно из других — греческих — источников, но хетты уже с ней не считаются, теперь она для них — побежденный и поверженный противник. Когда и как это произошло? Возможный ответ на это содержит документ, относящийся, по всей видимости, к началу царствования Тудхалияса Четвертого и представляющий собой очередное сообщение о военных столкновениях на западном побережье: «(Царь или народ) Страны реки Сеха снова дважды согрешил… вел войну. И царь страны Ахиявы отступил назад… отступил назад, а я, Великий Царь, пришел». Судя по этому тексту, сам царь Ахиявы вторгся в хеттские владения в районе реки Сеха, но потерпел сокрушительное поражение и был отброшен назад. Кажущееся незначительным и рядовым, событие это давно уже привлекло внимание хеттологов своим сходством с другим событием того же (если верить греческой традиции) времени, происходившем в том же (если верить традиции) месте. Речь идет об упоминаемом множеством древнегреческих авторов неудачном «первом» походе царя Микен Агамемнона и его спутников на Трою. У Гомера об этом событии глухо говорит Елена Прекрасная в своем плаче по Гектору, в самом конце «Илиады»: «Ныне двадцатый год круговратных времен протекает с оной поры, как пришла в Илион я, отечество бросив». Кажется странным, что Елена насчитывает уже 20 лет со времени своего побега с Парисом в Трою — ведь осада Трои, по Гомеру, продолжалась всего 10 лет! Но поэмы упоминавшегося нами в первых главах (и предшествовавшего Гомеру) «Эпического цикла», прежде всего — «Киприя», пересказ которой сохранился у автора V века до н. э. Прокла, рассказывают, что походов на Трою на самом деле было два, и во время первого ахейцы, «выйдя в море, причалили к Тевтрании и начали ее грабить, как будто Илион; Телеф же (местный царь) поспешил на помощь». Аналогично у другого автора V века — Аполлодора: «Не зная морского пути в Трою, пристали к Мисии (Тевтрании) и стали ее разорять, думая, что это Троя; Телеф же, царствовавший над мисийцами, погнал эллинов к кораблям и убил многих». После этого ахейцы целых 10 лет не могли оправиться от позорного поражения и лишь затем снова собрались с силами для второго похода, который и стал знаменитой Троянской войной; Елена, стало быть, была права, говоря о двадцати годах своего пребывания в Трое: десять лет перерыва между первым и вторым походами и десять — осады. Мисия, или Тевтрания, согласно греческой традиции, — это страна между реками Каик и Меандр, что к югу от Трои; об этом говорит историк II века Павсаний («У отправившихся в Трою с Агамемноном случилась ошибка во время плавания, результатом чего была битва в Мисии, и как напоминание об этом входящему в долину Каика служит камень в городе Элее…») — но у хеттов эти же места назывались Страной реки Сеха, и именно здесь, если верить документу тудхалиясовских времен, был с позором разгромлен «царь Ахиявы». И поскольку все прочие документы из анналов того же Тудхалияса Четвертого «великую Ахияву» больше не упоминают, надо полагать, что это незадачливое вторжение ахейцев произошло в самом начале правления Тудхалияса, т. е. близко к 1265 году до н. э. Если вся эта трактовка верна (а многие хеттологи на ней настаивают), то мы наконец-то можем с истинно гоголевским удовлетворением воскликнуть: «Отыскался след Троянского похода!» И ведь действительно вроде бы отыскался — пусть не второго, главного, а первого, неудачного, что из того? Куда важнее, что Гомер говорил правду: Троянская война — была! Гиндин и Цымбурский привлекают в этом месте внимание специалистов к еще одному замечательному документу, который представляет собой письмо царя хеттов к царю Ахиявы (именуемому без титула пренебрежительным «господин»). Пробиваясь сквозь путаницу фраз: «(ты)… написал… какие твои (страны) в запустении (были), их мне во владения отдал Бог Грозы. Царь страны Ассува… Акагамнус, дед отца, связал. А нынче Тудхалияс… его низвергнул», авторы делают смелое предположение, что речь идет о давней попытке прадеда нынешнего царя Ахиявы, некого «Акагамнуса», выступавшего под покровительством Бога Грозы, оттягать себе хеттские земли, пользуясь каким-то их «опустошением» — например, в результате землетрясения: известно ведь, что Троя-6 была разрушена мощным землетрясением примерно за 50 лет до того, как ее осадил и взял Агамемнон. Предположение смелое, потому что авторы, по сути, хотят одним махом решить загадку Троянской войны, объявив указанный документ ее «хеттским отголоском». В самом деле, если, вслед за авторами, видеть в «Акагамнусе» хеттское произношение имени «Агамемнон», в Боге Грозы — Громовержца Зевса, а в самом нашествии «ахиявцев» — взятие ахейцами Трои через 20 лет после их неудачной высадки на реке Каик, в начале царствования Тудхалияса Четвертого, то событие это следует отнести к середине или даже к концу этого царствования — скажем, к 1245–1240 годам до н. э., что, вообще говоря, совпадает с датой Троянской войны, предложенной К. Блегеном. Но эта гипотеза немедленно наталкивается на очевидные трудности. К каким временам относится рассматриваемое письмо, коль скоро его писал правнук «Акагамнуса»? Ведь даже приняв дистанцию между правнуком и прадедом всего в 60 лет, мы оказываемся в 1180 году до н. э., а в это время хеттская империя была уже сокрушена, и никаких царей, к которым могло быть. обращено такое послание, в Хаттусе уже не было, потому что и самой Хаттусы не было — сожжен он был и разрушен. И когда же, задумаемся, успел Тудхалияс Четвертый «низвергнуть» надменного этого «Акагамнуса»-Агамемнона после его победы над Троей, если всех лет царствования этому хеттскому царю осталось в лучшем случае четыре-пять? Нет, предположение Гиндина — Цымбурского загадку Троянской войны не решает, и потому нам придется сделать еще одно — впрочем, на сей раз действительно последнее, — усилие и попытаться найти в хеттских текстах иное, более убедительное свидетельство ее реальности. Или даже доказательство, если повезет. Повезет ли? >ГЛАВА 12 ИСТОРИЯ ТРЕХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ Подсчитаем наши бесспорные достижения. Мы убедились, что хеттские документы подтверждают реальное существование могучей микенской державы ахейцев, о которой говорит Гомер, — у хеттов это Ахиява. Мы увидели, что хеттские тексты засвидетельствовали реальное существование сильного и геополитически важного Троянского царства; у хеттов это царство Вилуса, расположенное на северо-западе малоазийского полуострова — именно там, где Шлиман нашел великую Трою. Мы обнаружили даже следы одного из царевичей Трои, названных велитсим Гомером, — усыновленного Париса-Александра, виновника Троянской войны; похоже, что у хеттов это Алаксандус, усыновленный царем Вилусы и поддержанный на троне властителем хеттской империи Муватталисом. Описанная в поэмах догомеровского «Эпического цикла» ошибочная высадка экспедиции Агамемнона у реки Каик и ее позорный разгром и бегство описаны также и хеттами — в виде незадачливого вторжения царя Ахиявы в Страну реки Сеха; даже географическое положение мест почти совпадает. Этих перекрестных совпадений так много, что постепенно они складываются в плотную сеть взаимосвязанных прочтений, каждое из которых подкрепляет предыдущее и подсказывает последующее, как во внезапно полностью раскрывающемся кроссворде. В целом можно сказать, что мы нашли еще одно подтверждение реальности микенской цивилизации — Шлимана — на сей раз в документах хеттов. Но наш поиск еще не закончен. Мы еще не нашли пока в этих документах никакого упоминания о том ахиявском триумфе в Вилусе, который греческая традиция описывает как осаду и взятие великой Трои ахейцами, как победное завершение Троянской войны. Чтобы приблизиться к этой цели, нам придется двинуться несколько обходным, на первый взгляд, путем — вернуться в Троаду-Вилусу и ее великую столицу. Великая Троя… Раскопки Шлимана лишь обнаружили ее истинное расположение; Дорпфельд углубился чуть дальше в ее прошлое, но только многолетние труды Карла Блегена позволили наконец выявить главные даты в биографии могучей крепости на равнине Скамандра и со всей несомненностью установить, что ее начало, первые следы поселения людей на Гиссарлыке, восходит к поистине баснословной древности — примерно 3600 лет до н. э.! До своего окончательного исчезновения, скажем, в XV веке нашей эры, Троя, следовательно, прожила свыше пяти тысячелетий, всего на пару тысяч лет меньше, чем Йерихо, этот древнейший город на Земле. В том культурном слое, который Шлиман, открыв его во время своего второго цикла раскопок, считал «древнейшим», поселение было заложено около 2500 года до н. э., то есть через целую тысячу лет после основания городища на холме. Знаменитая шлимаиовская Троя-2, которую он поначалу считал современницей Троянской войны — «Приамовой Троей», возникла в действительности за две тысячи лет до нашей эры, а это значит — как минимум за шесть столетий до предполагаемой даты этой войны. Судя по найденным там Шлиманом развалинам дворца и многочисленным золотым украшениям (пресловутая «диадема Елены»), Троя уже в то время была центром какого-то небольшого царства, властители которого, надо полагать, обогащались за счет выгодного стратегического положения своего города вблизи Дарданелл. Видимо, уже и тогда эти «таможенные поборы» троянцев вызывали чье-то сильное недовольство, ибо Троя-2 погибла в результате штурма: об этом свидетельствуют следы пожара и разрушений, а также тот факт, что «диадема Елены» вместе с прочим золотишком были брошены просто на землю, словно жителям, торопливо бежавшим из города, было уже и не до золота. Можно думать, однако, что это же «проклятие» Трои было одновременно и ее «благословением», ибо местоположение города у Дарданелл побуждало людей снова и снова возвращаться в эти края и основывать здесь поселение или даже крепость, — уже через сто лет после разрушения Трои-2 на ее развалинах (поверх них) возник очередной город — Троя-3, а еще через сто лет — на развалинах этого города — следующий, Троя-4. Проходит еще столетие, и его сменяет Троя-5 — по предположениям историков, именно тогда в здешние места пришли новые, индоевропейские племена, умевшие приручать и использовать лошадей (вспомним, что Гомер в «Илиаде» тоже говорит о «троянских конях», да и хетты тоже, как полагают, вывели свое название всего западного побережья Малой Азии, «Ассува», из слова, означавшего у них коня). Некоторые историки полагают, что племена, пришедшие тогда в Трою, составляли часть огромного воинства, основная масса которого осталась на противоположном берегу Дарданелл, на севере Балкан, и много позже стала называться фракийцами; они видят подтверждение этой гипотезы в совпадении множества названий околотроянских мест и народностей с фракийскими топонимами и этнонимами. Лишь позднее, говорят они, Троя обособилась, стала отдельным царством, и ее жители стали называть себя «троянцами» или «дарданцами». Что ж, возможно; возможно даже, что из тех же протофракийских племен, что троянцы, вышли (и двинулись на юг) и будущие греки; это могло бы объяснить их последующую, роковую, многовековую тягу к Троаде — неосознанное родство, почти по Фрейду. Впрочем, оставим. Несколько позже, на грани 1600–1500 годов до н. э., в культурных слоях Трои-5 обнаруживается микенская посуда, то есть следы прямых контактов между Троей и Микенами. Эти следы сохраняются до 1200 года до н. э., но за это время совершаются четыре важнейших события в истории Трои: возникает Троя-6 с ее крепостными стенами и бастионами, дворцом и аристократическими зданиями, напоминающими описания Гомера; происходит землетрясение, разрушающее этот город; окрестные жители возвращаются на развалины и строят там убогие, тесные и скученные лачуги — Трою-7а; и спустя 50 лет после своей предшественницы Троя-7а гибнет, как и та, только уже от рук людей — в огне и разрушениях, военного штурма. Последнее событие Блеген помещает между 1270–1250 годами до н. э. Снова проходит каких-нибудь полвека, и над развалинами Трои-7а возникает новый, тоже небольшой город — Троя-7б. Ее остатки тоже свидетельствуют о насильственном разрушении, но не таком полном, как раньше, — следы жизни переходят в следующий культурный слой непрерывно, как если бы часть жителей осталась на месте и продолжала поддерживать существование, города; более того, останки посуды свидетельствуют о смешении этих коренных троянцев с какими-то пришельцами из-за Дарданелл, возможно — опять из той же Фракии. Такая же посуда обнаруживается несколько выше по течению Скамандра, в Бурунбаши, — видимо, часть троянцев переселилась туда, так что недаром в новое время кое-кто считал, что Троя находилась именно в Бурунбаши, а не на Гиссарлыке. Однако примерно к 1000 году до н. э. последние следы жизни и там, и там исчезают древняя Троя окончательно уходит в прошлое. Но место «свято», и оно не опустевает: еще 200–300 лет спустя в Троаду (или, как она еще называлась, Илион, а у хеттов — Вилуса) приходят поселенцы с соседнего греческого острова Лесбос и основывают здесь «Эллинскую Трою» — «маленький торговый городок», как сообщают первые древнегреческие историки. Возможно, именно здесь побывал когда-то Гомер; возможно, в этих местах еще сохранялись тогда следы Древней Трои и, кто знает, даже легенды о героическом прошлом этого города. Как бы то ни было, с этого момента Троя вступает в период письменно зафиксированной истории: «Новый Илион» сменяется городом Александрова полководца Лизимаха, «Александрией Троянской», потом римской колонией Новый Илион, это уже Троя-9, по датировке Блегена; ее сменяет центр христианского епископата — «Византийская Троя», но к 1000 году нашей эры это поселение тоже угасает, и спустя еще 500 лет тут возникает последнее на Гиссарлыке поселение — деревня Гиплак, позднее покинутая жителями; останки ее поросли диким кустарником, не гнущимся даже под здешними ветрами. Очертим границы нашего поиска: весь наш предшествующий рассказ сосредоточен практически в пределах одного-полутора столетий — от гибели многовековой Трои-6 до гибели скоротечной Трои-7б. Как мы помним, поначалу Дорпфельд решил, что «Приамовой» («гомеровской») является именно могучая Троя-6. Но затем Блеген объявил, что этот богатый и укрепленный царский город был на самом деле разрушен мощным землетрясением, зато следы пожара, убийств и разрушений, которые могла причинить только война, присущи жалкой, «лачужной» Трое-7а, находившейся в полуразрушенных стенах предыдущей крепости. На первый взгляд, такая последовательность событий соответствует греческой мифо-эпической традиции. Эта традиция утверждает, что задолго до Агамемнона великий Геракл уже предпринял поход против троянского царя Лаомедонта, которому помогал бог моря Посейдон. Естественно Геракл победил: он захватил и разрушил Трою и посадил в ней нового царя — Приама, но предварительно ему пришлось схватиться врукопашную с неким «Посейдоновым чудищем», которое бог послал на защиту любимого города. Остается вспомнить, что греки считали Посейдона «сотрясателем земли», т. е. приписывали ему причину землетрясений, и тогда в эпизоде сражения Геракла с «Посейдоновым чудищем» легко усмотреть подернутое мифопоэтическим туманом воспоминание о реальном землетрясении, некогда разрушившем город Лаомедонта. Поскольку, по Блегену, землетрясение разрушило именно Трою-6, то именно ее он и объявил «Лаомедонтовой». По его расчетам, это «первое взятие Трои» (Гераклом) произошло примерно в 1300 году до н. э. (Заметим, что такая дата хорошо согласуется с описанной в «Письме о Тавакалавасе» распрей хеттов с Ахиявой за Вилусу, при царе Муватталисе.) Здесь уместно объяснить, на чем основывались эти расчеты. Подобно всем другим археологам до и после него, Блеген руководствовался в определении дат типом посуды, или, точнее, типом обработки керамической посуды, обнаруживаемой в том или ином культурном слое. В истории микенской керамики (которая сама датируется по египетским памятникам и, в свою очередь, позволяет датировать те раскопки, где она обнаруживается) существует очень важная и отчетливо прослеживаемая граница — примерно 1240–1190 годы до н. э., скорее, ближе к последней дате: до этого перелома керамика принадлежит к типу 3В (или еще более ранней 3А), после него — к типу 3С (более примитивному и грубому, который еще иногда называют «варварским»). Считается, что упрощение способов обработки керамики связано с общим падением ремесел в микенской Греции, а оно — с распадом и крахом микенской цивилизации в целом, павшей под натиском неведомых пришельцев с севера. Об этих загадочных пришельцах, разрушивших не только Микенский союз древнегреческих царств, но заодно и Хеттскую империю, и вообще радикально переменивших лицо древнего Средиземноморья, мы уже однажды упоминали, обещая поговорить о них в конце нашего рассказа; и нам действительно придется сейчас о них говорить. Но пока вернемся к Блегену и его расчетам. Раскапывая Трою-7а, Блеген не нашел в ее слоях признаков керамики типа ЗС и потому заключил, что этот город погиб раньше роковой даты варварского вторжения, т. е. раньше 1240 года до н. э.; поэтому он отнес дату взятия Трои-7а на 1270–1260 годы. Мы следовали этой схеме, когда в одной из предыдущих глав закончили рассказ о раскопках Трои выводом, что «Приамовой Троей» оказалась блегеновская Троя-7а. Теперь я вынужден с огорчением сказать, что нам придется изменить этот вывод. Дело в том что через несколько десятилетий после Блегена, в серии работ 1970–1980 годов самый авторитетный в мире специалист по микенской керамике Фурумарк сообщил, что повторное изучение некоторых керамических обломков, найденных Блегеном в Трое-7а, заставляет отнести их к типу 3С. Но керамика этого типа могла появиться в городе только после 1240–1230 годов до н. э. как минимум. Значит, Троя-7а существовала после этой переломной даты. Однако в ту пору Микенский «союз греческих героев» уже никак не мог осадить, захватить и разрушить Трою-7а, ибо сам был к тому времени подорван, а то и вовсе разрушен пришельцами с севера. Стало быть, блегеновская Троя-7а никак не могла быть той «Приамовой» Троей, которую осаждал и захватил Агамемнон. Прямым следствием этих сенсационных выводов Фурумарка было то, что археологи и историки. в подавляющем своем большинстве отвергли схему Блегена, и последние годы основная часть специалист тов снова вернулась к мнению Дорпфельда, признав «Приамовой» (гомеровской) могучую Трою-6. Английский историк Майкл Вуд сформулировал это новое представление следующим категорическим образом: «Если Троянская война была столь величественной, как описано у Гомера, она могла быть только войной против Трои-6». В поддержку этого утверждения сегодня приводится ряд новых фактов. Как показали археологические открытия последних лет, Трою-6 действительно постигло мощное землетрясение, и в этом Блеген был прав, но окончательное разрушение ее дворцов и аристократических зданий (на месте которых возникли позднее лачуги и времянки Трои-7а) было все же делом рук человеческих, а точнее — греческих, микенских: археологи нашли в слоях Трои-6 многочисленные останки микенского оружия, следы пожара, возникшего при захвате и разграблении города, и некоторые признаки нарочитого разрушения крепостных стен. Этот бесславный конец могучей Трои-6, просуществовавшей несколько столетий, сегодня датируется 1270–1260 годами до н. э. Новая датировка обоснована надежнее блегеновской, потому что базируется на более точном и детальном анализе типа керамики, но фактически она совпадает с датировкой Блегена. «А что же Троя-7а?» — немедленно спросите вы. Если поход Агамемнона («Троянская война») имел целью захват и разрушение Трои-6, то кто же и когда разрушил следующую по счету Трою, возникшую на развалинах предыдущей? И что означали найденные Блегеном в этом следующем городе признаки подготовки его жителей к осаде — скученность жилищ, врытые в землю кувшины с запасами продовольствия и т. п.? Упомянутое «большинство специалистов» располагает ответами и на эти-заковыристые вопросы. Они утверждают, что Троя-7а просуществовала вплоть до начала XII века до н. э., примерно до 1190–1180 годов. Но надо иметь в виду, что вся вторая половина XIII и начало XII веков до н. э. были эпохой нашествия северных варваров, которые накатывались на Средиземноморье несколькими последовательными волнами. То были времена всеобщего разрушения, хаоса и неустойчивости, и поэтому можно думать, что особенности жизни в Трое-7а попросту отражали общую неуверенность тогдашних людей в завтрашнем дне, их постоянную настороженность в предчувствии возможного набега бродивших повсюду варварских отрядов. «Не исключено, — говорит тот же М. Вуд, — что именно один из таких отрядов и разрушил Трою-7а, ведь она была слишком бедна и слаба, чтобы долго защищаться даже против небольшой группы захватчиков; не исключено также, что в числе этих захватчиков были и примкнувшие к варварам микенские ахейцы; но в любом случае то не были уже дружины Агамемнона и других греческих героев — времена героев давно прошли; скорее то была жалкая кучка искателей приключений и легкой наживы». Так выглядит новая схема «троянских событий», сложившаяся в самые последние десятилетия и принятая, как уже сказано, большинством современных исследователей. А как выглядит в свете этой схемы наш поиск отголосков Троянской войны в хеттских документах? Всмотримся снова в даты, и мы поймем, что искать в этих документах следы грабительского набега варваров на Трою-7а попросту безнадежно: в то время, к которому Вуд и другие относят это событие, в 1190–1180 годах до н. э., Хаттуса уже лежала в развалинах, ибо хеттская империя и сама уже рухнула под натиском тех же варваров. Но поход Агамемнона (если он вообще реален) происходил по этой схеме в 1270–1260 годах до н. э., а в это время хеттская империя еще существовала. По нашей «хронологии хеттских царей», это годы правления воинственного Тудхалияса Четвертого, того самого, при котором произошло вторжение «царя Ахиявы» в Страну реки Сеха (точности ради заметим, что сторонники новой схемы пользуются несколько иной хронологией и потому считают, что в это время в Хаттусе еще правил Хаттусилис Третий). Об этом вторжении упоминается в одном из хеттских документов, связанных с Ахиявой, — в письме правителя Страны реки Сеха к хеттскому царю. Так вот, говорят современные историки, это упоминание и есть искомый «хеттский отголосок» Троянского похода микенского царя Агамемнона, если угодно — прямое подтверждение реальности этого похода. Если принять это толкование, то наши поиски становятся излишними: мы, оказывается, давно нашли то, что искали; мы только не опознали найденное. Разумеется, такое разочаровывающе будничное завершение долгих поисков напоминает скорее сырое шипенье намокшего заряда, чем тот эффектный громовой взрыв, который от него ожидался, но что делать, если авторитетные специалисты думают именно так? Только развести руками. Хорошо еще, что мы выбрали в качестве представителя мнения большинства цитату из Майкла Вуда, который все-таки верит в реальность Троянской войны; много более авторитетный Шахермайр, к примеру, в это не верил и в свете новых данных считал, что Троянской войны не было вообще: «Илиада» — это переработка мифа о походе Геракла, а Троянский конь — это преобразованное воображением Гомера «Посейдоново чудище». Есть, однако, еще и мнение меньшинства, которое не согласно ни с Вудом, ни, тем более, с Шахермайром. Это меньшинство предлагает совершенно иное решение загадки Троянской войны, и этому меньшинству мы и предоставим сейчас, как давно обещали, последнее слово в нашем историческом расследовании. >ГЛАВА 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. НАРОДЫ МОРЯ Мы обещали в заключение предоставить слово тому меньшинству среди современных историков и лингвистов, занимающихся загадкой Троянской войны, которое энергично отстаивает свой особый взгляд на эту проблему. Судить об их правоте или неправоте мы, конечно, не сможем, но несомненную увлекательность возникающей из их рассуждений картины наверняка сумеем оценить. Начать хотя бы с того, что первые, кто во весь рост появляется на этой картине, — это те самые загадочные «северные варвары», о которых мы уже несколько раз говорили. Теперь мы, наконец, узнаем, кто они такие. Это — «народы моря», разгадке происхождения которых посвящены сотни исследований и десятки толстых научных книг. Их название восходит к двум египетским документам времен фараонов Мернепты и Рамзеса Третьего, один из которых правил в, 30-е годы XIII века до н. э., а второй — лет на сорок позже. Как сообщает рассказ Мернепты (точнее, его писца), на 5-й год правления этого фараона «пришли с моря народы» — лувийцы, шардана, ахейцы, турша, сикелы и многие другие — и пытались ворваться в Египет. Мернепта дал им бой и разгромил. На поле битвы осталось около двух с половиной тысяч пришельцев. Египтяне разделили убитых на два класса: обрезанных, как и они, — у этих они для счета отрубали одну руку, и необрезанных, у которых для счета отрубался пенис. Все эти руки и половые члены были свалены в кучу у ног фараона-победителя, как немецкие флаги некогда на Красной площади, и отсюда мы знаем, что необрезанных лувийцев и прочих было тысячи полторы, а все остальные были ахейцы (которые в ту пору, представьте, практиковали обряд обрезания). Благодаря историкам мы знаем также, что означают некоторые из упомянутых выше этнонимов: «шардана» — это балканский народ, который впоследствии заселил остров Сардиния, «турша» — это тирсены, поначалу северо-балканское племя, позднее переселившееся на юг Троады (о нем упоминает Гомер), после распада первой коалиции «народов моря» они мигрировали в Италию, где, по-видимому, дали начало этрускам; «сикелы» — будущие сицилийцы; ахейцы же нам знакомы — это микенские греки. Вся эта огромная масса племен, по мнению историков, двигалась с севера, из нынешней Фракии, сметая на своем пути прежние государства, в том числе Микены и Хатти, вынуждая к бегству одни народы (в это время началось великое переселение греков на периферию своего мира), обращая в рабство другие и увлекая за собой третьи. В документах из древнего ближневосточного города-государства Угарит сохранились письма от царя хеттов, который панически просит прислать ему на помощь угаритский флот, чтобы отбить нашествие варваров; известно (из египетских источников), что Мернепта послал царю Хатти пшеницу, чтобы прокормить население, оставшееся среди растоптанных полей; дипломатическая, переписка великих держав того времени запечатлела ощущение страха и судорожные попытки организовать совместный, отпор чудовищному потоку диких воинов на конях, повозках и идущих пешком. Попытки эти не увенчались успехом. Новое вторжение удалось лишь оттянуть — лет на тридцать, — но не предотвратить. На 5-й год правления Рамзеса Третьего, сообщает его стела, «народы моря» пришли вновь. На сей раз они окончательно сокрушили Хатти (впрочем, считается, что этому немало помогли внутренние распри), Арцаву, Аласию (Кипр), Угарит, полностью разорили микенскую Грецию и Крит, угрожали самому существованию Египта. Свою победу над ними Рамзес Третий считал главным достижением своей жизни. Он утверждал, что их вторжение было опасней гиксосского. В этот раз основу пришельцев составляли тевкры (из протофракийских племен, родственных троянцам) и пелашти; отброшенные Рамзесом от границ Египта, эти пелашти осели на восточном берегу Средиземного моря, дав название своей стране — Палестина, а сами стали теми «филистимлянами», что так хорошо известны Библии (там они называются «плиштим»); их культура (керамика, захоронения, обычаи) была во многом микенской, заимствованной по дороге; их предыстория связывает наш рассказ с предысторией евреев в Земле обетованной, но мы не будем сейчас отвлекаться в эту интереснейшую сторону (желающие могут обратиться, например, к книге копавших древнюю Филистию израильских археологов Моше Дотана и его жены Труды «Народы моря в поисках филистимлян», Нью-Йорк, 1993). Сейчас нам важнее узнать, что, оказывается, греческая традиция хранит некие смутные воспоминания о том, что когда-то в незапамятные времена ахейцы действительно вторгались в Египет и что это вторжение напрямую связано с Троянской войной! В поэмах догомеровского «Эпического цикла» рассказывается, что греки, взяв Трою, рассорились: Менелай обиделся на Агамемнона, отделился от главного отряда, вернувшегося на родину, и двинулся со своей дружиной в Египет, где был, однако, разбит. Гомер в «Одиссее» (песни 3 и 4), переиначивая тот же мотив, говорит, что на обратном пути из Трои буря занесла корабли Менелая в Египет, где он скитался целых 10 лет. В той же поэме, в песнях 13 и.14, Одиссей (уже на Итаке) рассказывает, будто во время своих скитаний пытался вторгнуться со своей дружиной в Египет, но был отогнан. И много позже Геродот собирает, повторяет и дополняет своими вымыслами все эти истории. По расчетам археологов, вторжение «северных варваров» в Грецию произошло примерно в 1240–1230 годах до н. э. — именно к этому времени относится появление керамики «варварского» стиля. Согласно египетской хронологии (она допускает несколько толкований, но здесь берется самая ранняя дата), первое вторжение «народов моря» произошло примерно в 1230 году. Главной ударной силой этого вторжения были ахейцы, видимо, примкнувшие к северным варварам, и жители южной Троады — турша, или тирсены. Что свело их вместе? Не могло ли быть так, осторожно спрашивают Гиндин и Цымбурский («Гомер и история восточного Средиземноморья»), что они объединились в Троаде, куда ахейцы вместе с другими северными варварами пришли для захвата Трои? Именно там, взяв город, разграбив и разрушив его, обретя дополнительных сильных союзников и гонимые мечтой о новых грабежах и новой добыче, ахейцы могли повернуть дальше на юг и, пройдя страну Хатти, ворваться в Египет фараона Мернепты. Если дело действительно обстояло так, то нельзя ли предположить, продолжают наши авторы, что это и был тот поход ахейцев, который много позже разросся в воображении потомков до размеров Троянской войны и последующей вооруженной высадки Менелая и Одиссея на египетских берегах? В таком случае придется признать, что Троянская война происходила не на взлете Микенского царства, а на его излете, когда оно уже рушилось под натиском северных варваров. Не случайно царствовавший именно в те времена Тудхалияс Четвертый велел вычеркнуть Ахияву из списка великих держав. И не случайно и Гомер, и народная традиция греков утверждают, что конец Троянского похода совпал с гибелью его царственных героев, распадом их царств и концом «героического века». Суммируя эти факты и предположения, сторонники новой гипотезы рисуют следующую, уже третью по счету, возможную картину событий (она третья, если первой считать блегеновскую трактовку Троянской войны как «похода на Трою-7а», а второй — новейшую трактовку этой же войны как «похода на Трою-6а»). В этой третьей трактовке никакой «великой» Троянской войны не было; а было вот что — где-то около 1240 года до н. э. Греция пережила первое нашествие северных варваров, резко ослабивших ее царства, но после их возвращения на Балканы предприняла попытку восстановить свои прежние позиции. Именно тогда царь Микен (Ахиявы) послал хеттскому царю Тудхалиясу Четвертому письмо с напоминанием договора о Вилусе; царь Хатти, однако, игнорировал это напоминание, и микенцы решили силой отвоевать Вилусу-Трою, но, увы, по ошибке высадились в Стране реки Сеха (Каик) и потерпели поражение. С этого момента начинаются их беспрестанные попытки расквитаться за позор, поэтому неудачную высадку у Сехи можно считать началом Троянской войны. В таких мелких попытках проходит почти 20 лет, но потом ахейцы все же добиваются своего благодаря помощи вновь пришедших в Грецию северных варваров, «народов моря». Объединившись с ними, они наконец захватывают Трою (по датам это Троя-7а, так как дело происходит примерно в 1230–1220 годах до н. э.), после чего движутся на Египет, где терпят поражение, откатываются и рассеиваются по берегам Средиземного моря. Этот уход из Греции множества ее самых отчаянных, предприимчивых молодых воинов (не забудем — только в бою с Мернептой их погибло свыше тысячи двухсот — огромное по тем временам число) окончательно ослабляет страну, и в образовавшийся вакуум вскоре вторгается новое северное племя, на сей раз родственное грекам, — дорийцы. Наступают «темные века» греческой истории. В отличие от двух первых гипотез, базирующихся в основном на археологических фактах, эта третья опирается преимущественно на факты лингвистические. Но нельзя не видеть, что и в этой схеме есть множество хронологических и прочих натяжек. В целом выводы из всего сказанного представляются, скорее, неутешительными. То, что во времена Шлимана казалось таким ясным и определенным, сегодня снова подернулось туманом зыбкой неопределенности. Хотя новейшая «археологическая гипотеза» объявляет «Троянской войной» поход ахейцев против Трои-6, она не исключает возможность их второго, крайне незначительного, похода против Трои-7а совместно с варварми. Со своей стороны, новейшая «лингвистическая гипотеза» считает подлинной «Троянской войной» именно этот поход (с ее точки зрения, единственный). А в схеме стоящего особняком Шахермайра никакого Троянского похода, как мы видели, не было вообще. Так что нам, скорее всего, так и не удастся до конца решить загадку этой воспетой Гомером войны — была она в действительности или нет? И если была, то когда? Пройдя по текстам Гомера, через данные археологических раскопок, тексты линейного письма Б хеттские клинописные документы, мы нигде не отыскали совершенно однозначных свидетельств «за» или «против» ее реальности. Каков же итог? Скорее всего, правы Гиндин и Цымбурский, когда заключают: «Видимо, слияние некого многовекового лейтмотива (прежних походов — Геракла или хеттской «Ахиявы» — на Трою. — Р.Н.) с порывом «бегства за моря», охватившим массы ахейцев после первого нашествия северных варваров и придавшим новому походу на Илион общеахейский размах, и породило тот грандиозный облик, какой обрела в памяти греков Троянская война». Та «Троянская война», что была, добавим, последней. Больше уже, если верить названию пьесы Жана Жироду, «Троянской войны не будет»… >Комментарии id="c_1">1 Самыми последними из этих книг по времени уже в наши дни стали многочисленные произведения, посвященные т. н. «теории разумного дизайна» («Intelligent Design», или ID). Этими словами ее создатели сокращенно называют утверждение, будто сложность живых существ и обнаруженное астрономией точное соответствие космических параметров всем требованиям возникновения разумной жизни якобы свидетельствуют о том, что космос был «сконструирован» (причем именно для появления жизни и человека) неким высшим Разумом, или Разумным Конструктором. С благословения сочувствующих этому тезису американских политиков-республиканцев, в том числе и самого президента Буша, эта теория, по сути возрождающая креационизм в новом обличье, сейчас внедряется в американские школы в качестве «научной» альтернативы теории эволюции. id="c_2">2 В еврейской системе летосчисления, изложенной в летописи «Седер Олам Рабба» и ведущей счет годам от Сотворения Мира, «баhарад» — сокращенное название для новолуния первого месяца от начала мироздания; это первое новолуние называется также «новолунием хаоса» (молад ТОРУ). id="c_3">3 Цепочка рава Элиягу Залмана замечательна и другими своими особенностями. Например, между «мэм» в слове «мишнэ» и «тав» в слове «тора» пропущено ровно 613 букв, что равно числу мицвот (заповедей) в Торе; первые буквы последних четырех слов стиха 11:9 — это «рэйш», «мэм», «бет» и «мэм», что складывается в «Рамбам»; один из стихов той же главы содержит дату «четырнадцатое нисана», что является днем рождения Рамбама; и, наконец, 49 — это священное для евреев число — количество дней Омер между праздниками Песах и Шавуот. Между прочим, рав Вейсмандель тоже обратил внимание на тот факт, что его буквенные цепочки «т-о-р-а» имеют пропуск в 49 букв. Правда, в последней цепочке пропуск на одну букву меньше, но рав Вейсмандель объяснил это тем, что последняя книга, «Дварим», рассказывает о смерти Моисея, а Моисей однажды согрешил перед Всевышним самовольным чудотворством, и за это перед ним была закрыта одна из дверей мудрости Торы. id="c_4">4 Первая (еврейская) буква этого слова — «хэй», что может означать «ha» — это определенный артикль. Вообще-то слово «ханука» (название еврейского религиозного праздника) пишется без такого артикля, но мы пока отложим разговор о том, почему оно в данном случае написано именно так. id="c_5">5 «Хашмонай» — представитель знаменитого в еврейской истории рода Хасмонеев, которые во II в. до н. э. возглавляли борьбу евреев за религиозную независимость; праздник Ханука был учрежден как раз в честь победы в этой войне. Отметим важный факт — то, что буквы второго слова («Хашмонай») не образовали вертикальный столбик, а идут по диагонали, связано с тем, что пропуск между ними другой: им нужна чуть более длинная окружность оборота нити, чтобы улечься друг под другом. Но если бы мы выбрали цилиндр с чуть большей окружностью, то не легли бы друг под другом буквы слова «hа-ханука». Два слова стали бы столбиками только при одной и той же длине оборота, т. е. если бы интервалы между буквами обоих слов были одинаковыми. id="c_6">6 Под наименованиями понимаются сокращенные прозвища, аббревиатуры или акронимы, с которыми те или иные еврейские мудрецы вошли в историю, — например, Рамбам или Маймонид (рав Моше бен Маймон), «Бейт-Исраэль» или просто «Бейт-Йуд» (так назвали рава Йосефа Каро по заглавию его важнейшей книги) и т. п. У некоторых мудрецов есть по 3–4 таких наименования. id="c_7">7 Например, одна и та же дата может быть словами записана как «шени бэ нисан», «бэ шени бэ нисан» и т. п. id="c_8">8 Сухие определения — такой-то век до н. э. — вряд ли способны создать правильное ощущение времени. Та «классическая эпоха» греческой истории, которую мы знаем из школьных учебников истории, — война греков с персами, Афины, Перикл, Парфенон, война Афин со Спартой — очень близка к нам, это V век до н. э. Гомер жил за 300–400 лет до возвышения Афин, а описанная им «героическая эпоха» имела место в совсем уж глубоком прошлом — за 800 лет до Перикла! Это лет на сто раньше еврейского Исхода из Египта и на 2000 лет раньше Киевской Руси. id="c_9">9 Сокровищам, которые Шлиман нашел в Микенах, повезло больше: они сохранились полностью, и сегодня каждый желающий может увидеть поразительной, красоты золотую маску Агамемнона в афинском музее. Стоит, однако, предупредить, что маска эта по мнению современных ученых, на несколько столетий старше гомеровского Агамемнона, даже если последний действительно существовал. Современный американский специалист проф. Калдер примерно 30 лет назад поставил вопрос, не является ли и эта находка Шлимана его фальсификацией: это вызвало продолжающуюся по сей день оживленную дискуссию; отчет о которой можно найти в журнале Archeology (т. 52. 4, 1999). id="c_10">10 Впоследствии ему и это лыко поставили в строку; в мае 1995-го тот же журнал «Археология» сообщил, что потомки Кальверта решили потребовать возвращения принадлежащих им по праву наследования двух золотых мечей, найденных Шлиманом на восточной оконечности холма Гиссарлык, принадлежавшей Франку Кальверту (он купил ее у оттоманских властей). В момент публикации сообщения мечи эти находились в Пушкинском музее. Чем кончилось дело, мне неизвестно. id="c_11">11 Много позже, в ходе раскопок 1930 года, золотые предметы были найдены и во многих других местах второго слоя, словно жители того давнего города бежали из него в панике, теряя на бегу драгоценности и пожитки: это, кстати, доказывает, что Шлимана, видимо, зря обвиняли в фальсификации сокровищ. id="c_12">12 Самое интересное во всей этой истории то, что спустя семьдесят с лишним лет греческие археологи обнаружили второй такой же круг гробниц, но уже вне стен крепости, снаружи от Львиных ворот — там, где некогда простирался древний город (внутри крепостных стен находились в древности лишь дворцовые постройки). Скорее всего, именно этот круг и был тем, который когда-то видел Павсаний. Так что в итоге оказалось, что Шлиман неправильно понял Павсания, но как раз эта ошибка и принесла ему сказочную удачу. id="c_13">13 Принятая сегодня хронология различает три главные эпохи греческой предыстории: ранний бронзовый век, 2800–1900 гг. до н. э.; средний бронзовый век, 1900–1600 гг. до н. э.; и поздний бронзовый век, 1600–1100 гг. до н. э.; далее начинается век железный. Эти абсолютные даты базируются на синхронности определенных критских и греческих находок с аналогичными находками в Древнем Египте и наоборот; египетская же хронология благодаря сохранившимся надписям известна с достаточной точностью. id="c_14">14 Уже в наши дни некоторые ученые выдвинули предположение, что причиной этой катастрофы могло быть знаменитое извержение вулкана на близлежащем острове Санторин, он же Тера (эта же катастрофа, по их мнению, положила начало мифу об утонувшей Атлантиде). Имеются, однако, убедительные основания считать, что это извержение произошло почти на столетие раньше. id="c_15">15 Любопытно, что следов микенской посуды почему-то почти нет на северо-западе, если не считать раскопанной Трои: здесь, видимо, не было других крупных городов, или же местные жители, будучи более воинственны, успешно отражали попытки ахейского проникновения. id="c_16">16 Некоторые хеттологи видят в «Аттариссии» прародителя микенских царей Дтрея, но, как указывают другие, такое отождествление противоречит законам хеттской и греческой фонетики. Л. Гиндин и В. Цымбурский отмечают, однако, что эти противоречия можно обойти, если принять, вслед за О. Семереньи, что хеттское «Аттарисий» не столько тождественно греческому «Атреус» по фонетическому звучанию, сколько передает тот же смысл («бесстрашный»), только на хеттский лад, поскольку восходит к анатолийскому корню «a-trs-io», имеющему значение «не знающий страха». ЧАСТЬ 6 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА >ГЛАВА 1 А БЫЛА ЛИ ОНА ВООБЩЕ?
История насмешлива. Отодвигая события в прошлое, она делает их сомнительными (порой незаслуженно сомнительными) для потомков. При этом, будучи одинаково равнодушной ко всему в себе, она и в этом вопросе не знает исключений. «Я слышал сомнения в реальности Трои», — писал Байрон после посещения Гиссарлыкского холма. И предрекал, улыбаясь: «Со временем усомнятся и в Риме». Подлинность Древнего Рима пока еще несомненна, но реальность Троянской войны в последние столетия действительно стала — предметом бурных споров. Не то было раньше. «Для античности, — говорят Гиндин и Цымбурский, — Троянская война была несомненным фактом… О ней напоминали родословные, идущие от ее героев, названия основанных ими городов, гавани, где были стоянки их кораблей». Эти родословные и названия были известны всем. Великий Вергилий в своей поэме «Энеида» писал, что когда уцелевший троянец Эней в своих странствиях навстречу судьбе (ему было якобы предназначено основать Рим, который возродит троянскую славу) добрался до далекого Карфагена, что на другом от Трои конце Средиземного моря, и попытался поведать тамошней царице Дидоне, откуда он родом, оказалось, что Дидона и сама уже может рассказать ему историю осады и гибели Трои и ее героев. Как объясняет В. Топоров в своей книге «Эней — человек судьбы», Вергилию, писавшему в I веке до н. э., представлялось очевидным, что в Энеевы времена о падении Трои должен был знать каждый средиземноморец, коль скоро это было реальное событие, потрясшее весь средиземноморский мир. Свидетельств такой безусловной веры многих поколений (от Гомера к Вергилию и далее до средневековых) в историческую реальность Троянской войны несчетное множество; вот одно из них, возможно, самое яркое. В «Илиаде», рассказывая о главных героях Троянского похода, Гомер среди прочих повествует бб Аяксе — царе Локриды, что находилась в срединной Греции неподалеку от Дельф с их оракулом. Гомер называет этого Аякса «малым», чтобы отличить от другого, «большого», или «великого», Аякса Теламонида:
Помимо отличного метания копья, Аякс Локридский отличался, видимо, еще и необузданно диким нравом — после взятия Трои он ворвался в храм Афины, где пророчица Кассандра, ища спасения, прильнула к статуе богини, и, увидев несчастную девицу, воспылал к ней нечистым желанием; а поскольку ему никак не удавалось оторвать руки Кассандры от статуи, он схватил ее за волосы и потащил прочь вместе с каменным изваянием. Этим поступком, осквернившим алтарь Афины, Аякс Локридский вызвал понятную и вечную ненависть богини, и вот, как сообщают древнегреческие памятники, жители Локриды даже в IV веке до н. э., т. е. спустя тысячу лет (!) после описанных Гомером событий, были настолько убеждены в реальности этого давнего проступка своего давнего царя, что продолжали замаливать его вину перед Афиной и отвращать ее гнев, ежегодно отправляя двух своих девушек (из самых аристократических семей) в отстроенную к тому времени Трою, дабы они служили там хранительницами восстановленного храма оскорбленной богини. Правда, некоторые скептики издавна утверждали, что обвинение Аякса в попытке изнасиловать Кассандру было облыжным и его якобы придумал в каких-то своих целях хитроумный и коварный Одиссей. Но если даже локридцы поверили наговорам Одиссея, все равно, они и в этом случае, в конечном счете, поверили Гомеру. Нет, бесспорно, сомнения в исторической достоверности гомеровского рассказа не приходили тоща в голову почти никому — разве что Анаксагору, который, видите ли, требовал доказательств этой достоверности; но на то Анаксагор и был философ. Всем прочим людям, нефилософам, доказательства казались излишни, ибо, как писал древнегреческий историк V века до н. э. Фукидид, «в правдивости гомеровского рассказа не приходится сомневаться», поскольку за нее ручаются «великие поэты и всеобщая традиция» («поэты» здесь во множественном числе, потому что, кроме гомеровских, существовали и несколько менее пространных поэм о Троянской войне, совместно известных как «Эпический цикл» и дошедших до нас в записях VI века до н. э.). «Ручательство» это становилось тем более убедительным, что поэты и традиция взаимно удостоверяли подлинность своих свидетельств: например, «Эпический цикл» утверждал, что Афина наложила на Локриду тысячелетнее проклятие и, согласно традициям самих локридцев, им суждено было посылать своих девушек в. Трою тоже на протяжении тысячи лет, так что они покончили с этим тягостным обычаем лишь в 264 г. до н. э., тем самым заодно засвидетельствовав, что, согласно их традиции, падение Трои произошло в 1264 г. до н. э. Кстати говоря, хотя вера в реальность этого события не умалялась с веками, но сама его дата постепенно уходила в туман и уже в древности стала предметом ожесточенных споров. Так, великий древнегреческий историк Геродот (484–424 гг. до н. э.) путем сопоставления генеалогий царских семей, сохранившихся в различных греческих традициях, пришел к выводу, что поход на Трою состоялся в 1260 г. до н. э., чем, в сущности, научно подтвердил «традиционную» датировку. С другой стороны, двумя столетиями спустя географ и астроном Эратосфен (276–194 гг. до н. э.), использовав те же данные, что Геродот, но подойдя к ним с большей придирчивостью, заключил, что Троянская война началась на сто лет позже, в 1164 году до н. э. (Многие ученые до сих пор считают это наиболее авторитетной датировкой.) Самой древней из называвшихся дат Троянской войны был 1334 год до н. э., самой поздней — 1135-й, а вот некий безымянный резчик, живший как раз между Геродотом и Эратосфеном, в начале III века до н. э. высек на мраморном памятнике в Фаросеи такую (уже неизвестно откуда взятую) дату того же события: 5 июня 1200 года до н. э. — то есть с точностью не только до месяца, но даже до дня! Во всем этом важна, конечно, не сама дата и даже не то, что разные даты отличались друг от друга, — куда важнее поразительная готовность каждого автора назвать точную дату, ибо такая готовность, несомненно, проистекала из абсолютной веры в реальность описанных Гомером событий. Нам, современникам, трудно разделить эту наивную уверенность — прежде всего потому, что, как нам сегодня уже известно, догомеровская (а скорее всего, и гомеровская) Греция еще не знала письменности (а точнее, знала, но утратила, как выяснилось позже, причем еще в XII веке до н. э., задолго до времен Гомера); поэтому народные предания (то, что Фукидид называл «всеобщей традицией») никем и никак не могли быть записаны. Незаписанная же «народная память» — весьма ненадежный свидетель. Как писал знаменитый историк Иосиф Флавий, «хотя часто говорят, будто древние греки были первыми, кто стал заниматься прошлым на более или менее точный научный манер, на самом деле, очевидно, что так называемые варвары сохранили историю лучше, чем греки… Дело в том, что греки поздно усвоили алфавит, и он дался им с трудом… так что во всей греческой литературе нет сочинений, относительно которых существовала бы уверенность, что они древнее Гомера. Однако время Гомера было явно намного позже Троянской войны, и даже он оставил свои поэмы незаписанными…» Действительно, тот же Геродот считал, что Гомер жил за 400 лет до него, а это соответствует, как легко посчитать, IX веку до н. э., и хотя некоторые другие историки порой отодвигали время его жизни чуть ли не в XII век до н. э., т. е. делали его прямым современником воспетой им войны, большинство современных ученых склоняется скорее к точке зрения Геродота. Это большинство поддерживает и утверждение Иосифа Флавия о сравнительно позднем возникновении греческой письменности; правда, некоторые пылкие умы в прошлом выдвигали предположения, будто эта письменность была создана уже за столетие до гомеровских поэм или же, в крайнем случае, одновременно с ними (именно для их записывания), а то и самим Гомером (для той же цели), но сегодня это событие единодушно относят примерно к тому же моменту, что и первые общегреческие Олимпийские игры, а они состоялись в 776 г. до н. э. Это мнение достаточно обосновано: самые ранние из обнаруженных на сей день надписей, исполненных несомненно греческим алфавитом, датируются 770 годом до н. э. С другой стороны, сегодня существует и вполне надежное основание считать, что Троянская война, если она происходила, вряд ли могла произойти позже середины XI века до н. э., ибо во второй половине этого века, как свидетельствует археология, союз древнегреческих государств, возглавлявшийся Микенами, уже не существовал — он распался под натиском каких-то пришельцев с севера, а еще через несколько десятилетий рухнули и сами Микены. Стало быть, позже, скажем, 1150 года до н. э. возможность организации того коллективного, общегреческого похода под водительством Микен, какой описан в «Илиаде», стала весьма сомнительной. Таким образом, между Гомером и — описываемыми им событиями зияет временной разрыв протяженностью в 300–400 лет. И тут возникает первый из серии вопросов, в совокупности образующих загадку Троянской войны: могла ли устная традиция сохранить и перенести через такой провал достоверные воспоминания о столь давнем прошлом? Но этот вопрос тут же осложняется еще одним. Допустим все же, что устная традиция сумела сохранить верность далекому прошлому. Но вот незадача: исследования современных филологов убедительно показали, что гомеровские поэмы, которые были вершиной и завершением этого многовекового устного творчества, представляют собой не столько точную (пусть и гениальную) фиксацию «преданий старины глубокой», а скорее — весьма индивидуализированное художественное преображение этих фольклорных материалов. Но можно ли в таком случае говорить об их исторической достоверности? Можно ли говорить об исторической реальности неких событий на основании текста, хоть и рассказывающего об этих событиях, но созданного по законам поэтического творчества? Иными словами, насколько надежны свидетельства гомеровских поэм? Обратимся к Гомеру. >ГЛАВА 2 ГОМЕР И ЕГО ПОЭМЫ Что мы знаем о Гомере? Что он был автором двух пространных, изложенных гекзаметром поэм «Илиада» и «Одиссея», в которых повествуется о десятилетней войне греков (в этих поэмах они именуются более древним названием «ахейцы») против троянцев, жителей города Троя, что существовал когда-то на западном берегу малоазиатского (ныне Турецкого) полуострова. Однако современная историко-филологическая наука утверждает, что самым первым источником всех знаний и представлений об этой войне был не Гомер, а предшествовавшая ему древнегреческая народная традиция — эпические сказания, изустно передававшиеся сказителями-певцами («аэдами») из поколения в поколение задолго до Гомера. Сами эти сказания до нас не дошли, но, начиная с V века до н. э. (т. е. уже много позже Гомера) их тексты, сохранившиеся в неполном и разрозненном виде, были собраны различными греческими авторами — Аполлонием с Родоса, Аполлодором из Афин, Квинтом из Смирны, Арктиносом из Милета и другими — в виде нескольких коротких поэм, повествовавших об отдельных эпизодах Троянской войны, не фигурирующих в «Илиаде» и «Одиссее». Так, «Киприя» Арктиноса Милетского излагала предысторию этой войны; «Малая Илиада» Квинта Смирнского заполняла промежуток между «Илиадой» и «Одиссеей», рассказывая о дальнейших событиях осады Трои — от смерти Гектора и до взятия города (гибель Ахилла; смерть Париса; изготовление «Троянского коня»); во «Взятии Трои» того же Арктиноса рассказывалось о падении троянской крепости, ее разграблении и судьбах ее жителей — царя Приама, его жены Гекубы, дочери Кассандры, вдовы Гектора Андромахи и Елены Прекрасной; поэма «Возвращения» была посвящена истории возвращения греческих героев на родину и судьбам некоторых из них. Следует заметить, что, не будь этих поэм, мы бы не знали сегодня множества знаменитых и красочных деталей, которые ныне у всех на слуху, — ни рассказа о «суде Париса» и похищении им прекрасной Елены (с чего, собственно; и началась вся Троянская распря), ни истории смерти Ахилла, пораженного стрелою в пятку — единственное уязвимое место на его теле, ли многих других; ибо, как уже сказано, ни одной из этих историй нет ни в «Илиаде», ни в «Одиссее». Тем не менее, несмотря на эту неполноту, именно «Илиада» и «Одиссея» являются самым главным и самым авторитетным источником наших сведений о Троянской войне. Объясняется это, прежде всего тем, что эти поэмы уже в древности обрели-статус величайшего произведения греческой культуры. Древние греки считали их чем-то, далеко выходящим за чисто литературные рамки: они учили и воспитывали на них своих детей, почитали как непреложный кодекс нравственности и зачастую даже руководствовались ими в своей практической деятельности. Влияние этих поэм на европейскую культуру последующих веков тоже было огромно. По их образцу было создано величайшее произведение римской литературы — поэма Вергилия «Энеида»; позднее они вошли в литературный кодекс византийской империи, где стали предметом углубленного изучения и комментирования; а еще позже, проникнув из Византии в Италию, оказали глубокое влияние на культуру Ренессанса. В Новое время, обретя благодаря многочисленным переводам даже более широкую популярность, чем Данте или Шекспир, они стали одной из важнейших основ всего классического образования многих поколений европейцев. Не удивительно, что отношение к этим великим поэмам приобретало порой настолько благоговейный характер, что их подчас даже отказывались признавать творением отдельного, пусть и гениального, человека — один немецкий филолог XVIII века выдвинул в свое время фантастическое предположение, что обе они, и «Илиада» и «Одиссея», были созданы посредством спонтанного «творческого выдоха» всего древнегреческого народа как целого. Достоверно известно, однако, что сами древние греки упорно приписывали создание обеих поэм одному конкретному человеку — слепому певцу Гомеру — и даже придумали этому человеку развернутую биографию, согласно которой он родился на острове Хиос в Эгейском море, много странствовал по Малой Азии, Египту и самой Греции и оставил потомков — так называемых гомеридов, взявших на себя задачу сохранения и распространения его поэзии. Еще более детальную (и более фантастичную) биографию Гомера придумал Геродот, который приписал ему несколько поколений предков и великое множество путешествий. Из всего этого единственно достоверным является то, что в более поздние века на острове Хиос действительно существовала гильдия или «школа» поэтов, именовавших себя «гомеридами» и исполнявших преимущественно произведения Гомера, которого они считали своим земляком. Какую позицию в этих спорах занимает современная филологическая наука? Она считает достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал эпический поэт по имени Гомер и что именно он сыграл ведущую роль в окончательном формировании «Илиады» и «Одиссеи» (составные части которых, возможно, существовали уже до него в виде устных поэм). Почему это «достаточно вероятно», станет ясно чуть далее. Пока же заметим вслед за специалистами, что, поскольку некоторые языковые приметы гомеровских поэм близки к особенностям ионийского диалекта древнегреческого языка, который был в ходу у жителей островов восточной части Эгейского моря, то и предание о хиосском происхождении Гомера могло иметь под собой реальную основу, поскольку Хиос относится к Ионическим островам. Многие специфические детали «Илиады» свидетельствуют, что ее автор был хорошо знаком с географическими и климатическими особенностями Хиоса, Родоса и других островов, а также близкого к ним малоазийского побережья. Он, например, упоминает о птицах, гнездящихся в устье реки у малоазийского города Эфес, о виде на горы, открывающемся с Троянской равнины, о северо-западных ветрах, преобладающих на Хиосе, и т. п. Таких восточноэгейских примет много меньше в «Одиссее», что, в частности, побудило Аристотеля высказать предположение, что эта поэма была написана Гомером в глубокой старости, а других исследователей — даже утверждать, будто она вообще приналежит иному автору (к тому же она совершенно отлична по жанру). Тем не менее современная филология и здесь пришла к выводу, что, при всех сомнениях, «Одиссея» была как минимум вдохновлена Гомером, а то и создана им самим. Однако время создания обеих поэм представляется сегодня несколько иным, чем в древности: определенные детали текста побуждают отнести «Илиаду» к концу IX, «Одиссею» — скорее даже к середине VIII века до н. э. А это означает, что они существенно моложе древних поэм «Эпического цикла». Тем не менее «Илиаду» и «Одиссею» нельзя противопоставлять этим поэмам. Как показал в 30-е годы нашего века американский филолог Малькольм Пэрри, поэтика «Илиады» и «Одиссеи» — это все же поэтика устного эпического творчества, и в этом смысле их создатель был прямым продолжателем традиции пред-. шествовавших ему эпических сказителей. Не случайно Гомер и сам применяет для определения поэта тот же термин «аэд», который в древности характеризовал этих певцов-сказителей. Но он. был весьма особым их продолжателем. В своих поэмах он далеко превзошел всех безвестных предшественников. Как показало изучение еще сохранившихся (на Балканском полуострове и в других странах) традиций устного эпического творчества, для поэтов-певцов и сказителей характерно создание сравнительно небольших «песен» (т. е. коротких поэм), каждая из которых содержит часто всего один законченный эпизод и исполняется (при подходящем случае и в подходящей обстановке) в один прием. Это опять же подтверждает сам Гомер, пересказывая в «Одиссее» две такие. законченные песни: одну — о любовном романе между богом Аресом и богиней Афродитой, другую — о придуманном Одиссеем «Троянском коне», — каждая из которых занимает примерно по 100 строк поэмы. Примеры таких же коротких поэм сохранились и в «Эпическом цикле». Так вот, по утверждению специалистов-филологов, главное и величайшее новаторство Гомера состояло в резком переходе от этих коротких песен к качественно новому поэтическому жанру — к монументальной эпической поэме, включающей десятки песен и многие тысячи строк (в одной «Илиаде» их более 16 тысяч). Это новаторство Гомера можно уподобить разве что столь же революционному прорыву последующих времен — изобретению романа как совершенно новой формы повествования. Громадность материала, который становился при этом доступен, широта возникавшей отсюда картины событий, их историческая и психологическая глубина не могли не произвести огромного впечатления на слушателей, привыкших доселе исключительно к коротким рассказам. Можно думать, что слушатели Гомера были столь же потрясены, когда этот неведомый им прежде слепой певец из вечера в вечер несколько дней подряд исполнял перед ними свое монументальное творение. Сам размах этого исполнения предполагал совершенно исключительные творческие качества нового певца, и не удивительно, что имя Гомера с такой силой врезалось в память народа. Не удивительно также, что устная эпическая традиция, достигнув в поэмах Гомера своего высшего, развития, достигла в них и своего естественного завершения: после Гомера петь «по-старому» стало практически невозможным. Произносившийся самим Гомером текст, скорее всего, был нестабильным и несколько менялся от выступления к выступлению. Это не удивительно, ведь, греки в те времена еще не знали письменности, ее широкое распространение началось, мы говорили об этом, лишь во второй половине VIII века до н. э. Но так как слушатели Гомера не обладали его памятью и способностями и в то же время хотели знать его «божественные» (как они их называли) поэмы от слова до слова, то можно думать, что уже с началом распространения греческой письменности начались попытки записи этих поЗм и постепенного приведения этих записей к одному стабильному («каноническому») варианту. Согласно некоторым древнегреческим источникам, уже в середине VI века до н. э., при афинском правителе-тиране Писистрате, «Илиада» зачитывалась по его приказу перед толпами, собиравшимися на площади около построенного тираном величественного храма богини Афины. Поскольку она именно «зачитывалась», то была, надо думать, уже записана, и итальянский философ Нового времени Джамбатиста Вико (1668–1744) даже предположил, что именно по приказу Писистрата поэмы Гомера и были записаны в первый раз и притом в окончательном, «канонизированном» виде, дабы предотвратить дальнейшую порчу этого «национального достояния» при устной передаче. Нам никогда не удастся узнать, так это или не так, потому что первый дошедший до нас (имеющийся в распоряжении ученых) список гомеровских поэм восходит всего лишь к X веку нашей эры — это копия византийского издания 860 года (оригинал его погиб), тщательно отредактированного и снабженного всеми накопившимися за столетия комментариями; копия эта хранится ныне в соборе св. Марка в Венеции и именуется «Венетус А». Каков же этот дошедший до нас текст? О чем он, собственно, рассказывает? Как выглядит в его передаче интересующая нас Троянская война? Оказывается, ее начало лежит за пределами этого текста. Только из поэм «Эпического цикла» (в передаче более поздних авторов) можно узнать, что война началась из-за спора трех богинь — Афины, Афродиты и Геры — за обладание яблоком с надписью «прекраснейшей», которое подбросила им богиня раздора Эрида (Эрис). Зевс велел отвести спорящих богинь в Троаду, к тамошнему принцу Парису-Александру, сыну троянского царя Приама, чтобы тот их рассудил, и Парис отдал яблоко Афродите, обещавшей ему любовь Елены Прекрасной, жены одного из греческих царей Менелая (этим «судом Париса» объясняется, кстати, почему в ходе последующей войны Афродита помогает троянцам, а Гера и Афина — грекам). Далее выясняется, что Парис, вдохновленный обещанием Афродиты, отправился в Спарту, во владения Менелая, и, пользуясь его отсутствием, соблазнил и похитил Елену, а затем привез ее в Трою, где его сестра, пророчица Кассандра, тотчас возвестила, что поступок Париса обрекает город на войну и гибель; Кассандре, однако, никто не поверил, ибо когда-то бог Аполлон, оскорбленный ее отказом ему отдаться, наплевал ей в уста — как раз для того, чтобы никто ей не верил. Однако пророчество Кассандры, увы, оказалось вещим. Опозоренный Менелай обратился к своему могущественному брату — микенскому царю Агамемнону — с просьбой помочь ему отвоевать Елену и отомстить, за унижение. Агамемнон, в свою очередь, обратился к царям других греческих городов, призывая их объединиться для похода на Трою, и его призыв нашел благожелательный отклик. В итоге в составе греческого воинства оказались все великие герои тогдашней Греции — прежде всего, разумеется, Ахилл, но также и Диомед, Филоктет, Одиссей, оба Аякса, «большой» и «малый», и многие-многие другие. (Их поименование вместе с перечнем приведенных каждым из них боевых кораблей и воинов составляет содержание т. н. «списка кораблей», помещенного Гомером в конце второй песни «Илиады». Вспомним у Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины…»). Главой похода был избран Агамемнон — как самый могущественный из всех. Начало похода обернулось для греков неудачно: Аполлон послал им некое знамение, которое прорицатели истолковали как намек, что война будет продолжаться 10 лет. Затем греческие войска по ошибке высадились много южнее Трои, потерпели позорное поражение в битве с тамошними царями, а на обратном пути вдобавок еще попали в бурю и с трудом добрались домой. Все это оттянуло подлинное начало войны (по одним источникам — на несколько месяцев, по другим — на добрых 9 лет), но, как бы то ни было, герои снова собрались и двинулись на Трою, на сей раз, предварительно принеся в жертву — чтобы задобрить богов — дочь Агамемнона Ифигению; этот эпизод позднее стал сюжетом многих трагедий. Высадившись на Троянской равнине, греки долго стояли у неприступных стен Трои, то и дело сходясь с троянцами в рукопашных схватках, где удача попеременно склонялась то на одну, то на другую сторону. Но вот в начале десятого года осады события обрели драматический оборот. Произошла бурная ссора между Агамемноном и Ахиллом: оскорбленный тем, что микенский царь отнял у него пленницу Брисеиду, гордый Ахилл, этот главный герой похода, отказался участвовать в сражениях и укрылся в своем шатре. Узнав об этом, троянцы вышли из города, навязали грекам бой и стали теснить их к гавани, где стояли на якорях греческие корабли. Греки в панике обратились за помощью к Ахиллу, но тот снова отказался выйти в поле, хотя и согласился послать туда своего побратима Патрокла. Но когда главный герой троянцев Гектор (еще один сын; царя Приама) убил Патрокла, обуянный жаждой мести Ахилл бросился наконец в бой и, в свою очередь, убил Гектора. Он устроил торжественное сожжение трупа Патрокла и намеревался уже предать позорному погребению останки Гектора, но прибывший в его шатер престарелый царь Приам воззвал к его состраданию и к чувству воинской чести и в конце концов буквально вымолил у него труп своего сына. «Илиада» начинается со слов: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» — то есть с эпизода ссоры Ахилла с Агамемноном, а кончается сценой сожжения останков Гектора в стенах Трои. Иными словами, ее действие занимает несколько считанных дней. О завершении войны (как и о ее начале), а также о дальнейших судьбах ее героев мы знаем все из тех же внегомеровских источников (в переложении главным образом Аполлодора и Аполлония), которые рассказывают о гибели Ахилла, сраженного стрелой Париса, о гибели самого Париса, о взятии Трои с помощью Одиссеева «Троянского коня» и расправе с уцелевшими сыновьями и дочерьми Приама (Кассандра становится наложницей Агамемнона, Андромаха — Неоптолема, Поликсену приносят в жертву на могиле Ахилла). Из тех же источников (а не только из «Одиссеи») становится известно, что во время возвращения героев из-под Трои многие из них погибли в буре, насланной богами в отместку за насилие, совершенное Аяксом Локридским над Кассандрой, — Менелай и Одиссей были унесены ветрами в дальние страны, где многие годы странствовали в поисках пути на родину; Агамемнон по возвращении в Микены погиб от рук собственной жены и ее любовника. Так что в целом Троянскому походу суждено было стать, как оказалось, последним великим совместным деянием древних греков и как бы ознаменовать собой завершение их древнейшей «героической эпохи»{8}. Наш пересказ может породить впечатление, что «Илиада» — это, в сущности, не столько рассказ о Троянской войне как таковой, сколько рассказ об одном ее небольшом эпизоде — о «гневе Ахилла», о том, как обиженный Ахилл сначала укрылся в своем шатре, не желая сражаться под началом Агамемнона, а потом силою обстоятельств был как бы «вытолкнут» снова на сцену боя, в центр событий. Это так и не так. С одной стороны, в центре «Илиады» действительно находится некий интересный, яркий и по-своему увлекательный эпизод, который в прошлом, до Гомера, вполне мог бы стать (а может быть, и был) сюжетом отдельной небольшой эпической песни. С другой стороны, по мере знакомства с тем, как излагает Гомер этот эпизод, становится все более ясно, что у него он служит скорее рамкой повествования, неким организующим стержнем, позволяющим исподволь и как бы вполне естественно вплести в рассказ события многих предшествующих лет войны, другие ее яркие эпизоды, впечатляющие характеристики ее главных героев и их взаимоотношений, а попутно и многое, многое другое — о людях, о. городах, о странах, о плаваниях, о богах, о пирах, о битвах и так далее, и так далее, иными словами — сделать из незамысловатого эпизода то художественное целое, что, собственно, и составляет литературу. «Гнев Ахилла», таким образом, оказывается мощным художественным средством, дающим автору возможность воссоздать гигантскую эпопею микенско-троянских времен. Типичная литература, этакая «Война и мир» трехтысячелетней давности или, если переиначить Белинского, «энциклопедия всей героической эпохи». И тут, после долгого отступления, мы возвращаемся наконец к обещанному разъяснению, почему современные специалисты считают достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал некий конкретный человек по имени Гомер, который был автором этой гениальной эпопеи. Специалисты-филологи говорят, что эта эпопея никак не могла быть продуктом некоего «коллективного устного творчества» — уже хотя бы потому, что ее продуманная «выстроенность», ее сюжетная и композиционная «организованность», ее «литературность», наконец, — все это неоспоримо свидетельствует об индивидуальном замысле. Почерк индивидуального гения безошибочно виден в том, с какой поразительной композиционной стройностью, как необыкновенно гармонично организован в «Илиаде» весь ее огромный материал, с какой продуманностью он расположен относительно объединяющей его сквозной сюжетной оси, как изобретательно поддерживается при этом его драматичная напряженность с помощью искусно вплетенных в сюжет многочисленных «отступлений в прошлое», играющих роль своего рода «сюжетных задержек», которые последовательно нагнетают у слушателей нетерпеливое ожидание триумфальной развязки (этот древний прием отлично знаком всем зрителям современных кинотриллеров и читателям современных детективов). В конце концов, ожидания, как мы уже знаем, разрешаются благополучно: Ахилл появляется из своего шатра, и «Илиада», как и положено триллеру, завершается своего рода мстительным хэппи-эндом — поражением троянцев и смертью Гектора. Патриотические слушатели Гомера, несомненно, жаждали этого возмездия. Может быть, они даже рукоплескали ему. Тем более что рассказ о последующей гибели самого Ахилла был расчетливо, иначе не скажешь, вынесен автором за скобки всей этой симфонической «романной» структуры. Однако, строго говоря, поэма не кончается на мстительной ноте. Подлинный конец «Илиады» — это плач Приама над убитым Гектором, плач, который смягчает даже сурового Ахилла, плач, в котором горькая и трагическая изнанка войны совсем по-иному высвечивает ее героическую красоту, незадолго до того воспетую тем же Гомером. Так что, в конечном счете, «Илиада» все-таки не завершается стандартным хэппи-эндом и не оборачивается банальным триллером. Пафос гомеровской поэмы куда шире и грандиозней, говорят специалисты. Созданная спустя столетия после конца «героической эпохи», она не просто отображала ее трагический закат: противопоставив его описанной перед тем с той же художественной силой картине величественного расцвета ахейской державы, объединенной под руководством могущественных Микен, она одновременно должна была заронить в душу слушателей тоску по этому былому величию, а заодно и по былому и утраченному единству. Может быть, высокий авторитет Гомера у потомков как раз и был вызван тем, что его рассказ позволял им предчувствовать и предвидеть новое единство вслед за «темными веками», отделявшими героическую эпоху от уже начинавшегося «ренессанса»? Таковы, говоря вкратце, основные выводы современной науки касательно личности Гомера. Однако, ограничившись этими выводами, мы, пожалуй, не приблизимся к ответу на вопрос, в какой степени можно доверять свидетельствам Гомера. Напротив, кое у кого сомнения в достоверности гомеровского рассказа, возможно, даже усилятся. В самом деле, скажет иной скептик, если даже современные специалисты подтверждают, что этот рассказ был сочинен, т. е. представляет собой художественный вымысел некоего автора, и вдобавок был подчинен не только художественным, но отчасти даже идеологически-патриотическим задачам, то можно ли ожидать, что такой рассказ будет исторически правдивым? А может быть, это всего лишь приятная для греческого слуха легенда? Знаем же мы, к примеру, такой, тоже авторский, поэтический роман — знаменитую «Песнь о Роланде», в которой гибель обыкновенного франкского рыцаря, павшего в засаде, которую устроили ограбленные им баски, преображена в героический национальный эпос о «великой битве» христиан… с маврами. Сомнения эти вполне естественны. Чтобы развеять их, нужно выяснить, как отвечает современная филология на вопрос о соотношении преображающего вымысла Гомера с реальной правдой греческой истории. Обратимся к филологии. >ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМА ГОМЕРА Вопрос о соотношении гомеровских поэм с исторической реальностью находится в центре так называемой «проблемы Гомера», споры вокруг которой продолжаются в филологической науке уже добрых полтораста лет. Мы уже говорили в предыдущей главе, что, по одной из версий, первый полный письменный текст этих поэм появился только во времена афинского тирана Писистрата (560–529 гг. до н. э.). Эта «Писистратова версия», выдвинутая итальянским философом XVIII века Джамбатиста Вико, была у него связана с весьма решительным утверждением, будто никакого Гомера на самом деле не было, а прозвище это (одни толкуют его как «слепой», другие — как «заложник») в действительности означало весь коллектив «аэдов», сказителей древних преданий, устно передававших разрозненные части будущей «Илиады» вплоть до писистратовых времен, когда она только и обрела благодаря записи вид единой поэмы. Хотя против этой гипотезы выступали уже многие современники Вико (Гете, например, Даже написал целый трактат, доказывая принадлежность «Илиады» одному автору), она возымела большое влияние, и первые серьезные филологические исследования, посвященные «проблеме Гомера», ставили своей главной целью разъять гомеровский текст на более мелкие куски, якобы принадлежащие различным более ранним устным сказаниям. Такой подход, рассказывают Л. Гиндин и В. Цымбурский в упоминавшемся мною (во вступлении) филолого-лингвистическом исследовании «Гомер и история Восточного Средиземноморья», основывался на господствовавшем поначалу в филологии XX века априорном представлении об устном народном эпосе как о совокупности «окаменевших» текстов, которые после своего создания передавались неизменными от певца к певцу и могли лишь «состыковываться» в готовом виде в более крупные поэмы. Считалось также, что сюжеты этих малых «первичных» текстов должны были быть крайне простыми, а поскольку Гомер начинает «Илиаду» с обещания рассказать о «гневе Ахилла» и затем то и дело нарушает это обещание многочисленными сюжетными отступлениями — в сущности, перебивает сюжет другими короткими рассказами, — такое построение казалось как раз подтверждением того, что «Илиада» является механической смесью «простых» первичных текстов. Был, дескать, в глубокой древности простенький рассказ об Ахилле и Агамемноне, построенный на традиционной формуле «обида — примирение», характерной для многих эпических сюжетов, и к этому рассказу постепенно присоединялись другие, побочные. Эта теория продержалась до 20-30-х годов нашего века. Затем, однако, в результате углубленного изучения эпических традиций, сохранившихся у некоторых балканских и азиатских народов, было выявлено, что от певца к певцу передаются не столько готовые тексты, сколько, скорее, «формульные конструкции» — набор традиционных сюжетов, канонизированных образов и ситуаций, словесно-ритмических формул и тому подобных «готовых наборов», с помощью которых каждый сказитель создает всякий раз заново рассказываемую им историю. Когда эта закономерность была проверена на материале поэм Гомера, оказалось, что и он самым широчайшим образом пользовался таким приемом. Один из исследователей подсчитал, что в некоторых частях его поэм — например, в зачинах и окончаниях речей героев или в характеристиках действующих лиц, — «формулы», от простейших до самых сложных, занимают около 90 процентов текста! Так, уже в первой песне «Илиады» предводитель. Троянского похода, микенский царь Агамемнон, именуется то «пространно-властительным», то «могучим», то «гордым могуществом», то «повелителем мужей»; а пройдя по всем 24 песням поэмы, можно обнаружить, что буквально для каждого из важнейших ее героев заготовлен набор из десятка и более таких характеристик, чередующихся в самом разнообразном порядке. Как ни странно, именно эта «формульность» гомеровской поэтики позволила М. Пэрри и А. Лорду выдвинуть утверждение, что Гомер был «индивидуальным автором внутри коллективной традиции». Это утверждение может показаться противоречивым, однако в действительности оно вполне логично. В самом деле, в том смысле, что некое эпическое сказание, каждый раз импровизируется данным певцом заново, оно действительно является его индивидуальным творчеством; но в том плане, что певец всякий раз использует общий набор элементов, присущий данной культуре и знакомый ее носителям, его произведение, несомненно, принадлежит к коллективному творчеству. Иными словами, Гомер, по мнению Лорда и Пэрри, был гениальным реализатором коллективного эпического канона. Такой точке зрения противостоял В. Шадевальдт, который в конце 30-х годов предложил изучать каждый эпизод. «Илиады» с точки зрения его функций в составе поэмы как целого и показал, используя этот подход, что гомеровская «Илиада» отличается от обычного эпоса наличием строго организованного единства. Ни один из ее эпизодов нельзя изъять, не нарушив общей связности поэмы. Композиция «Илиады» оказалась продуманной и структурно, и эстетически, а это возможно только в том случае, если текст всецело является авторским, то есть ближе к тексту, скажем, Вергилия, чем к песням неграмотных устных сказителей; это не просто реализация эпического канона, а творческое переосмысление его. Однако ведь и авторский текст может быть совершенно различным: грубо говоря, одни авторы создают близкие к подлинной истории романы-хроники, другие расшивают по исторической канве самые фантастические узоры. Что же создавал в этом смысле Гомер? Для суждения о соответствии гомеровских поэм исторической реальности войны ответ на этот вопрос имеет решающее значение. Здесь тоже имели место (и частично до сих пор продолжаются) ожесточенные споры: одни ученые — вроде Д. Пэйджа («История и «Илиада» Гомера», 1959) или Майкла Вуда («В поисках Троянской войны», 1986) — увлеченно утверждали, что «Илиаду» следует считать весьма или даже вполне надежным историческим источником, находя доказательства этого в данных современной археологии и лингвистики; другие, как влиятельный Майкл Финли («Троянская война», 1964), выражали изрядный скепсис в отношении историзма Гомера, находя в его творчестве многие черты сказки и мифа (достаточно вспомнить, что боги играют в «Илиаде» почти такую же роль, что земные герои, да и многие из этих героев описываются как дети богов). Но большинство филологов-гомероведов занимает в этом вопросе срединную позицию, которая совмещает оба указанных взгляда. С одной стороны, говорят эти филологи, эпос, в том числе и гомеровский, бесспорно содержит много мифических и сказочных элементов, поскольку он вырастает, ведет свое начало из мифа и сказки. Тем не менее эпос все-таки отличен от мифа. Как объяснял, например, замечательный российский исследователь мифопоэтики Е. Мелетинский, миф рассказывает о временах «создания» мира и всех его существующих форм, тогда как эпос занимается прежде всего «ключевыми», «героическими» периодами народной истории — вспомним былины о Владимире Красное Солнышко, героизирующие историю Киевской Руси, или, скажем, «Песню о Нибелунгах», отражающую становление раннегерманского общества в том же духе героических сказаний. Во всех этих классических памятниках мировой литературы прошлое народа воплощается по одному и тому же «эпическому канону» — в героических образах и великих деяниях. Все подобные произведения, как правило, монументальны по размаху, и все они, как показывают исследования, представляют собой заключительную стадию развития эпоса — стадию перехода к индивидуальному творчеству. Таким же было, как мы уже знаем, и творчество Гомера. Что же можно сказать об историзме такого эпоса? Этот историзм представляется несомненным (ведь и древний Киев с князем Владимиром, и раннегерманское племенное общество, и другие коллективные герои национальных эпосов различных народов существовали вполне реально), но он весьма специфичен. Эту специфичность блестяще вскрывает характеристика, предложенная крупнейшим специалистом по древним религиям Мирчей Элиаде: «Память об исторических событиях и о подлинных персонажах меняется по истечении двух-трех столетий таким образом, чтобы их можно было подвести под шаблон архаического способа мышления, неспособного к восприятию индивидуального и удерживающего в памяти лишь образцовое, то. есть сводящего события к категориям, а личности — к архетипам». Иными словами, в эпической поэзии появление, былинных, сказочных, мифологических черт попросту неизбежно, но это нисколько не противоречит ее сущностной историчности, поскольку, с другой стороны, в ней непременно должны содержаться и некоторые подлинные, фактические приметы былой истории, которые устный эпос не мог не увлечь с собой в своем развитии, как те зерна, вокруг которых только и могли кристаллизоваться его «архетипы». Эти «зерна» невозможно извлечь средствами одного лишь филологического анализа тут требуется помощь археологии и лингвистики. Мы еще обратимся к показаниям этих наук по вопросу о Троянской войне, здесь же ограничимся лишь несколькими частными примерами, подтверждающими наличие несомненных отголосков исторической реальности в эпических поэмах Гомера. Так, средства современного лингвистического анализа, основывающегося на том, что известно сегодня о диалектах Древней Греции, позволили обнаружить в гомеровском тексте прямые заимствования из языка, на котором говорили за полтысячи лет до Гомера, в древних Микенах. Немецкий исследователь Рейх заметил, что часто встречающаяся в «Илиаде» поэтическая «формула», которую можно перевести как «сила Гераклова», не укладывается в размер гекзаметра, которым написана поэма, но если написать имя Геракла так, как оно, судя по лингвистическим данным, произносилось в Древних Микенах, это противоречие немедленно исчезает. Можно думать поэтому, что данная «формула» сложилась еще в микенскую эпоху и дошла до Гомера неизменной, несмотря на изменившееся произношение. Другое яркое свидетельство в пользу исторической достоверности «Илиады» приводит И. Вуд в своей книге «В поисках троянской войны». Речь идет о так называемом «списке кораблей» во 2-й песне «Илиады». Этот список представляет собой в действительности перечень 164 греческих городов, которые послали свои корабли с воинами для участия в общем походе на Трою. Его отличие от общего стиля «Илиады», неуместность в той части текста, где он находится, и определенные расхождения с остальным текстом поэмы настолько бросаются в глаза специалистам-языковедам, что некоторые исследователи уже давно заподозрили здесь инородную вставку, а Д. Пэйдж даже выдвинул увлекательную гипотезу, что это — подлинный документ времен Микен, своего рода воинская диспозиция, отражающая расположение участников похода во время сражения. Действительно, такие длинные, однообразные списки имен, названий, предметов и т. п. были весьма характерны для древности, для периода возникновения первых, еще пиктографических (т. е. рисуночных) письменностей (полагают, что эти письменности и возникли-то из-за необходимости составлять такие списки). Но в «списке кораблей» есть и другая любопытная деталь, глубокая историчность которой выявилась лишь в наше время благодаря новейшим данным археологии. Здесь упоминаются некоторые подвластные Микенам города, многие из которых во времена Гомера уже не существовали, превратившись в руины, — например, «ветреный Эниспе» или «песчаный Пилос». Как мог Гомер знать о самом существовании этих городов, не говоря уже об этих их особенностях? А между тем раскопки Шлимана и других археологов подтвердили все эти детали. Об историзме Гомера столь же убедительно свидетельствуют и его характеристики Трои. Если бы эпос не содержал крупиц исторической реальности, Гомер никак не мог бы узнать о слабости троянских стен в одном определенном их месте — ведь эти стены давно были погребены под вековыми отложениями. Между тем раскопки Дорпфельда показали наличие такой «слабины» именно в том месте, о котором говорит «Илиада»! Правдивыми оказались и гомеровские описания военного снаряжения, упоминаемые в описании сражений под стенами Трои. Некоторые нестандартные детали этих описаний, вызывавшие недоверие историков, — например, шлем Гектора, украшенный полоской «медвежьих зубов», или «подобный башне» щит большого Аякса, — были впоследствии найдены на изображениях микенского времени, обнаруженных в ходе раскопок Шлимана, Эванса и др. Наличие и обилие всех этих реальных свидетельств далекого прошлого вынудило даже такого убежденного скептика, как М. Финли, признать, что «Илиада» во многом верно воссоздает картину жизни Древней Греции времен расцвета Микен и Трои. Подытоживая, можно сказать, что историко-филологический анализ гомеровских поэм, проведенный учеными XX века, несомненно, приблизил науку к решению загадки Троянской войны. Он показал, что «Илиада» правдиво отражает определенные исторические реалии далекого прошлого, а потому и описываемую в «Илиаде» Троянскую войну тоже может считать более или менее правдивым отражением исторической реальности. Требовать более решительного утверждения попросту нельзя. Филологический анализ не может доказать, что такая война действительно имела место. Как мы уже видели, славные войны и героические походы — одна из обязательных примет любого эпоса («категория архаического сознания», по определению Мирча Элиаде): такое сознание всегда мыслит прошлое в категориях славных войн и великих походов, независимо от того, происходили они в действительности и были ли они славными и великими. Поэтому реальность отдельных деталей — условие, хотя и необходимое, но еще недостаточное для убедительного вывода о том, что они некогда воевали друг с другом. Филологический анализ подводит к выводу о правдоподобии такой войны, но не дает и не может дать однозначных доказательств ее исторической реальности. Такие доказательства могут скрываться только в развалинах древних городов или в текстах древних рукописей. Обратимся поэтому к этим свидетелям истории — к памятникам и документам. >ГЛАВА 4 ТРОЯ И МИКЕНЫ Историко-филологический «суд над Гомером» не помог нам вынести однозначный вердикт касательно исторической подлинности или вымышленности описанной им в «Илиаде» Троянской войны. Реальность этого события может быть подтверждена или опровергнута только археологическими и лингвистическими изысканиями. Но любой археолог, который и впрямь вознамерился бы проверить правдивость гомеровского рассказа, тотчас оказался бы перед трудностью, которую выразительно охарактеризовал английский историк и писатель Майкл Вуд в своей книге «Поиски Троянской войны»: «В определенном смысле проблема историчности Троянской войны не очень изменилась со времен Фукидида, — пишет Вуд. — Гомер и мифы рассказывают нам некую историю; называемые ими места все еще существуют: некоторые из них демонстрируют явные признаки былой могущественности; другие столь же явно свидетельствуют о своей полной незначительности. Если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, как считал Фукидид, то как это доказать? Если вдуматься, Гомер рассказывает историю, в которую на первый взгляд, зная школьную историю Греции, действительно трудно поверить. Он утверждает, будто в XIV–XIII веках до н. э., т. е. чуть ли не за тысячу лет до той «классической эпохи», которую мы, собственно, и привыкли считать «Древней Грецией», здесь уже существовала могущественная цивилизация, охватывавшая почти всю территорию этой страны, включавшая в себя разбросанные по ней многочисленные города-царства во главе с Микенами и способная одновременно выставить в поход сотни боевых кораблей и тысячи воинов, как описывается в «Илиаде». В это трудно поверить еще и потому, что упоминаемые Гомером центры этой цивилизации: те же «богатые золотом» Микены, «крепкостенный Тиринф», «пыльный Πилос», «обильный стадами Орхоменос» и другие — уже в Гомеровы времена представляли собой крохотные, нищие городки, а то и просто груды развалин, да и вся греческая земля была не более чем полупустынным, нищим, безрадостным и необжитым пространством, где лишь предстояло спустя столетия подняться городам и крепостям, дворцам и храмам классической эпохи. Разумеется, Месопотамия или, скажем, Палестина тоже выглядели, еще и в XIX веке, пустынными, нищими и безрадостными, хотя, как мы знаем, за тысячи лет до того здесь действительно сменяли одна другую великие культуры. Но о тех культурах хотя бы свидетельствовали письменные памятники далекого славного прошлого, а единственным «доказательством» существования гомеровской «героической эпохи» был только рассказ самого Гомера да мифы и легенды весьма сказочного, скажем мягко, характера». Отыскать письменные памятники гомеровской «микенской цивилизации», изображенной в «Илиаде», нечего было и думать — еще и в начале XX века считалось, что письменность в Греции появилась не раньше, а то и позже Гомера, в VIII веке до н. э., то есть спустя добрых четыре-пять столетий после пресловутой Троянской войны. Стало быть, археолог, ищущий следы этой войны, мог уповать лишь на раскопки в тех местах, которые Гомер упоминал в связи с походом на Трою, — прежде всего, понятно, на раскопки самой «Приамовой» Трои и «Агамемноновых» Микен, но также, если повезет, — Орхоменоса, Тиринфа, Пилоса и многих других, что перечислены в пространном «списке кораблей» во второй главе «Илиады». Поскольку почти все эти города, как уже сказано, в виде развалин сохранились до нашего времени, обнаружить их местоположение не составляло особого труда. Вот как выглядел по состоянию на вторую половину XIX века примерный инвентарный список этого «гомеровского наследия». Открывала список, разумеется, Троя. Со времен Гомера ее приблизительное местоположение было известно всегда. Практически не было такой эпохи, когда бы современники не могли уверенно указать, где находится этот знаменитый город (что, кстати, в немалой степени подкрепляло их веру в правдивость гомеровского рассказа). С гомеровских времен и вплоть до эпохи Александра Македонского, то есть на протяжении пяти с лишним столетий, в Малой Азии, вблизи пролива Дарданеллы, существовал город, именовавшийся «Эллинской Троей», или «Новым Илионом», с величественным храмом Афины и протяженными стенами, которые, по преданию, включали в себя и останки стен Древней Трои. Чуть позже, примерно в 300 году до н. э., полководец Александра Лизимах построил южнее этой крепости новый город, назвав его Александрией Троянской; этот город (во всяком случае, его развалины) просуществовал до римских времен. Через шесть столетий после Лизимаха римский император Константин (тот, что сделал христианство официальной религией империи) построил на месте бывшей «Эллинской Трои» еще один город, который впоследствии получил название «Византийской Трои». Эта очередная Троя, в свою очередь, просуществовала несколько столетий. Ее развалины видны были даже тысячу с лишним лет спустя, во времена султана Бехмета (взявшего Константинополь). За эти тысячелетия (а от Гомера до Бехмета прошло как-никак две тысячи триста лет) Троя благодаря гомеровским поэмам превратилась в место настоящего паломничества — не было, кажется, такой исторически важной персоны, от Александра Македонского в 334 году до н. э. и до лорда Байрона в 1810 году н. э., кто не почел бы своим долгом лично приобщиться к древней славе этого места и произнести какие-нибудь подобающие ситуации слова. Александр Македонский, как утверждали его верноподданные биографы, нашел здесь (под алтарем храма Афины) меч «самого Ахилла», с которым отправился затем на завоевание Азии; Юлий Цезарь поклялся восстановить Трою и сделать ее столицей Римской империи; Константин Великий повторил эту клятву (что не помешало ему впоследствии перенести свою столицу на берега Босфора, в стратегически более важный Константинополь); и еще спустя тысячу с лишним лет упомянутый выше турецкий султан Бехмет, поставив ногу на указанную ему переводчиками «могилу Аякса», провозгласил, что, взяв Константинополь, он-де всего лишь отомстил грекам за разрушение Трои! Словом, Троя — как город, как населенное место — была несомненной исторической реальностью — уже с времен «классической» Греции и вплоть до недавней современности. Печальный факт, однако, состоял в том, что уже к началу XVII века развалины последней по счету Трои тоже были полностью погребены землей. Как писал тогдашний английский автор, «даже руины были уничтожены». Одной из причин тому было беспощадное время, другой — усердно помогавшие ему небольшие, но частые землетрясения, по сей день весьма характерные для этих малоазийских мест. В результате ТОЧНОЕ знание местонахождения «Приамовой Трои» было утрачено. Ее европейским искателям (а любителей искать ее всегда хватало) приходилось руководствоваться разве что указаниями «Илиады» и некоторых греческих мифров. Мифы эти, при всей их сказочности, содержали важные детали. Так, в одном из них (записанном в V веке до н. э. Аполлодором Афинским) рассказывалась «предыстория» гомеровской Трои. Жил будто бы некогда некий Илус, который заложил на западном берегу Малой Азии город Илион, он же Троя, окруженный мощными стенами и нависавший над самым проливом Дарданеллы, ведущим в Черное море и в Колхиду (от Дарданелл, надо думать, и название жителей Трои, которых Гомер зачастую именует «дарданцами»; впрочем, вполне возможно, что и наоборот: от жителей пошло современное название пролива). Илус якобы оставил свое Троянское царство сыну Лаомедонту, а тот, видимо, чем-то раздосадовал греков-ахейцев, потому что миф рассказывает далее, что великий Геракл, прервав, по разным «объективным причинам», свое участие в походе аргонавтов, решил навести порядок на берегах Дарданелл и предпринял поход против Трои. Поход оказался удачным для греческого героя и сокрушительным для Трои: Геракл сжег город, разрушил его стены, убил в рукопашной схватке царя Лаомедонта и посадил вместо него молодого Приама — того самого, которого в рассказе Гомера мы встречаем уже почтенным старцем с пятьюдесятью сыновьями, и двенадцатью дочерьми во дворце. Судя по этой детали, поход Геракла состоялся примерно за 2–3 поколения до Троянской войны (это значит: в XIV или, может быть, даже в XV веке до н. э.). Если довериться этому сказанию, из него можно извлечь весьма любопытные выводы. Самым важным в местоположении Трои было то, что она прикрывала — проход в Дарданеллы. Троянцы, таким образом, владели ключами к Черному морю. Это обстоятельство было крайне существенным. Поскольку греки издавна вели торговлю с народами на черноморских берегах (не случайно аргонавты искали золотое руно именно в Колхиде), свобода судоходства через Дарданеллы была для них, надо думать, весьма небезразлична; троянцы же эту свободу, видимо, пытались ограничить — в свою, разумеется, пользу. Это позволяет думать, что сказание о походе Геракла на Трою является одним из отголосков этой давней и длительной «борьбы за проливы» между греками и троянцами. Комментируя это сказание, Р. Грейвз («Греческие мифы», 1955, гл. 137) замечает, что «Лаомедонт, видимо, препятствовал греческим торговым экспедиция в Черное море, и приструнить его можно было, только разрушив город, владевший Дарданеллами». Не был ли, в таком случае, и следующий поход греков на Трою — тот, что описан Гомером, — еще одной такой «карательной экспедицией»? Как бы то ни было, всего сказанного еще недостаточно, чтобы найти, где в точности располагалась древняя Троя. Но, к счастью, есть ведь рассказ Гомера, а рассказ Гомера, надо сказать, в любом своем месте изобилует живыми, точными и зримыми деталями. И там, где Гомер описывает Трою, тоже так и видишь — могучие стены на высоком холме над равниной и две извивающиеся по ней реки (Скамандр и Симиос, ныне турецкие Медерес и Думрек Су), по которым корабли греков поднимаются почти к самым стенам;.так и слышишь вой бешеных ветров, бушующих над осажденным городом; так и ощущаешь жар, идущий от одного из бьющих под стенами источников, и ледяной холод, идущий от другого… — но здесь, пожалуй, лучше передать слово самому Гомеру (песнь 22-я, строки 145–153, сцена погони Ахилла за Гектором): «Мимо холма и смоковницы, Как он писал, этот слепой гений, три тысячи лет назад, вы только вслушайтесь: «…хладный, как град, как снег; как в кристалл превращенная влага»! Вернемся, однако, к скучной прозе. А скучная проза жизни состоит в том, что ни одно из этих поэтических указаний Гомера, увы, не помогает, оказывается, обнаружению Древней Трои. Злые колючие ветры никогда не прекращаются на всей равнине бывшего Скамандра (на это непрерывно жаловался потом в своих письмах с раскопок Генрих Шлиман); эта равнина действительно изобилует ключами, но двух таких, где. температура воды разнилась бы так сильно, как указывается в «Илиаде», ни одному искателю «Приамовой Трои», несмотря на все усилия, найти не удалось; а что касается кораблей, поднимавшихся по реке к самой крепости, то за прошедшие тысячелетия воды в этих местах отступили так далеко от прежних берегов, что ни один холм на равнине Скамандра (Мендереса) сегодня не имеет прямого выхода к морю. (Это, между прочим, было еще одной причиной упадка и разрушения последней по счету, «византийской», Трои.) Иными словами, стоя на Троянской равнине и оглядываясь кругом, можно сказать только, что Древняя Троя погребена, по-видимому, где-то в толще какого-то из многочисленных окрестных холмов, да вот беда — неизвестно какого. Иное дело Микены. Здесь в точном местонахождении древнего города не приходилось сомневаться. Даже в наше время стоит выйти из автобуса, приволокшего тебя по извивам дорог из далеких и шумных Афин в тишину курчавых гор Арголиды, как нетерпеливому взгляду тотчас открываются (точно такие, как представлял) — зубцы древних стен, охватывающие заросшую вершину крутого холма, а в тех стенах — знаменитые Львиные ворота, на удивление невысокий проход, охраняемый двумя вставшими на задние лапы безголовыми каменными львами. Знаменитое, древнее, почти «знакомое» место — только разве что неожиданно невзрачное и стесненное, как на нынешний туристский вкус. Только размах соседствующей с развалинами громадной пещеры, именуемой «гробницей Атридов», один лишь и способен, пожалуй, примирить ворчливого туриста с потерей целого дня в утомительной поездке. Почти в таком же жалком виде «Агамемноновы» Микены находились уже в гомеровские времена: древнегреческий историк Фукидид, описывая (в V веке до н. э.) город под таким названием (тогда это еще был город, а не сегодняшние развалины), называл его «небольшим», сообщая, что на битву под Фермопилами тогдашние Микены выставили всего 40 человек! Впрочем, уже через несколько столетий и этот жалкий городок исчез, превратившись в развалины, и уже во II веке н. э. историк Павсаний с удивлением размышлял: неужто эти руины и есть великая столица Агамемнона? Почти две тысячи лет спустя, в 1876 году, Шлиман увидел руины Микен в точности такими, какими их описывал Павсаний. То же самое можно сказать и о других древних «царских столицах», упоминаемых Гомером. В тех же местах, на Пелопонесском полуострове (это, кто не помнит, юго-западная оконечность материковой Греции), вплоть до наших времен поближе к морскому побережью были видные уцелевшие остатки поистине циклопических укреплений гомеровского «крепкостенного Тиринфа». А в срединной Греции, вблизи Афин, можно было увидеть развалины некогда «богатого стадами» Орхоменоса. Несколько хуже обстояли дела с «песчаным Пилосом», еще одним центром воспетой Гомером «микенской цивилизации». Хотя город с таким названием существует и сейчас, на западном берегу Пелопонесса, но недаром у греков издавна была в ходу поговорка: «После Пилоса был еще один Пилос, а рядом еще один»; города с таким названием сменяли в этих местах друг друга неоднократно, так что найти погребенные в земле руины самого древнего из них, гомеровского, тоже было непросто. Шлиман, во всяком случае, ошибся, начал искать Пилос. не там, ничего, естественно, не нашел и в досаде прекратил раскопки. Только перед самой Второй мировой войной Карлу Блегену удалось отыскать «настоящий» древний Пилос. Проведя эту беглую «инвентаризацию руин», мы можем лишь, кажется, воскликнуть вслед за другими скептиками: «Да действительно ли существовала, и притом уже в той баснословной, покрытой мраком забвения древности, то бишь в XIV–XIII веках до н. э., — та могущественная «микенская цивилизация», которую изобразил Гомер в своей «Илиаде»? Да неужто уже в те «варварские», по греческим меркам, времена этот невзрачный ныне городок Микены был столь могуществен и влиятелен, что мог организовать общегреческий — многолюдный, многокорабельный и многолетний — поход против Трои?» Пыльная скудность всех этих развалин способна, скорее, убедить лишь в обратном. Как я уже заметил, мы не окажемся одиноки в своем скептицизме. Этот вопрос задавал себе еще Фукидид, удивленный неприглядностью современных ему Микен, и из его текста видно, как он буквально заставлял себя поверить в правоту Гомера: «Верно, Микены. — небольшой город, и многие города того периода выглядят сегодня не очень внушительно, но мы… не имеем права судить города по их внешнему виду, а не по их реальному могуществу.» Весь вопрос, однако, как раз и заключался в том, существовало ли в описанные Гомером времена это «реальное могущество». И здесь нам остается лишь вернуться к уже процитированным словам Майкла Вуда: «В определенном смысле проблема… не очень изменилась со времен Фукидида — если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, то как это доказать?» Специалисту, историку, ученому и впрямь очень трудно найти это зерно. Он знает, что когда-то, примерно за две тысячи лет до нашей эры, Греческий полуостров заселили дикие племена, пришедшие откуда-то из глубин Малой Азии или Балкан; что и после этого здешние земли раз за разом становились добычей очередных завоевателей-варваров, последними из которых были вторгшиеся с севера (примерно в 1100 году до н. э., много позже предполагаемых времен Троянской войны) племена дорийцев; что затем в истории Древней Греции наступил многовековой провал, который ее собственные (более поздние) летописцы назвали «Темными веками»; и что из этого своего беспамятства Греция вышла на свет истории лишь в начале VIII века до. н. э. — скудно заселенной, бедной, безграмотной страной, самый великий тогдашний поэт которой, Гесиод, сочинял свою (ныне знаменитую) философско-мифологическую поэму «Теогония», в изнеможении бредя за буйволом, медленно тащившим железный плуг по нищей борозде. Величие того, что мы сейчас называем «Древней Грецией», лежало далеко впереди Гомера и Гесиода, и какой же грамотный историк решился бы (без всяких тому фактических подтверждений, на основании одних лишь поэм Гомера) всерьез утверждать, что еще большее величие Греции лежало далеко позади, за бездной «Темных веков», еще до вторжения дорийцев, в некой «героической эпохе» некой «микенской цивилизации»? Уже тогда разговоры о «великих исчезнувших цивилизациях» (о которых к тому же зачастую и по сей день утверждается, будто они намного превосходили цивилизации современности) вызывали у всякого серьезного ученого определенную интеллектуальную неловкость. Не случайно ведь педантичный немецкий историк XIX века Г. Гроте начал свою «Историю Греции» лишь с Олимпиады 776 года до н. э., с первого греческого события, о котором есть надежные письменные свидетельства: «Все предшествующие времена, — писал он, — это область поэзии и легенд». К счастью для науки, за поиски Трои и Микен взялся любитель-дилетант, который не был серьезным ученым и потому верил в правдивость этих «легенд». Этим смельчаком, как всем сегодня известно, был Генрих Шлиман. >ГЛАВА 5 ШЛИМАН: ОТКРЫТИЕ МИКЕНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Существуют, две биографии Генриха Шлимана. Согласно первой из них, любящий отец (протестантский пастор) подарил семилетнему сыну толстую книгу «Всеобщая история», содержавшую пересказ «Илиады», и тем самым навсегда заронил в маленького Генриха мечту отыскать описанную Гомером Трою. Дальнейшее общеизвестно: разбогатев на деловых операциях, Шлиман решил осуществить свою детскую мечту, сменил сюртук бизнесмена на блузу археолога, отыскал, согласно указаниям Гомера, в которые он свято верил, старинный холм, в толще которого скрывались остатки древней Трои, и — раз-два! — обнаружил там ее развалины. Затем он примерно тем же способом (раз-два!) нашел в развалинах Микен гробницу древнего царя Агамемнона, руководившего, согласно Гомеру, походом греков на Трою, и тут уж его слава стала поистине всемирной, но в это время он как-то неожиданно умер — упал прямо на улице и в одночасье скончался. Лет его жизни, как говорилось в старину, было 68 — с 1822-го по 1890-й. Существует вторая биография Шлимана, не столь — лубочная, как первая. Шлиман, несомненно, заслужил звание «отца археологии», как некогда Геродот — «отца истории», но это не отменяет того факта, что его методы раскопок были ужасны и разрушительны, а датировка — приблизительна и, как правило, ошибочна. Он был неутомим и самоотвержен в археологическом труде, но окружал свои находки шумной и отталкивающей рекламой, достойной скорее бизнесмена, каким он и был, нежели ученого, каким он не был. Он был одарен потрясающей интуицией, но начисто лишен вкуса (чего стоила напыщенная телеграмма, отправленная им в греческие газеты с раскопок в Микенах: «Сегодня я взглянул в лицо Агамемнона»!). Его жизнь была полна удивительных коммерческих подвигов (дерзкие, на грани закона, деловые операции в России, спекулятивная скупка золота у старателей Калифорнии, монополизация порохового рынка во время Крымской войны и другие хищные налеты на легкую добычу), но он еще вдобавок и сам приукрашивал и расцвечивал ее собственным вымыслом (своему отцу, запойному пьянице и мелкому семейному тирану, он писал уже в зрелом возрасте: «Я рассказал журналистам, что это ты впервые познакомил меня с историей Трои и с тех пор я начал мечтать о том, как я ее отыщу…» — словно наставляя престарелого родителя в своей придуманной «на продажу» биографии). Он оставил по себе 11 толстых книг о своих открытиях, 18 путевых дневников, 60 тысяч писем и 175 томов раскопочных тетрадей, но исследователи до сих пор не могут понять, где факт, а где вымысел в этой огромной массе материала. Например, в своей книге «Троя» он рассказал почти детективную историю о том, как во время раскопок Трои его жена, гречанка Софья, приметила в глубине траншеи полускрытое землей золотое ожерелье и как ей пришлось прикрыть его своей длинной юбкой, пока Шлиман не уговорил рабочих разойтись на обед, чтобы скрыть от их завистливых глаз поразительную находку, составлявшую, как оказалось, лишь ничтожную часть богатейшего клада, который впоследствии получил название «сокровища царя Приама». Однако куда более поразительным, чем эта находка, многие тогдашние недруги и нынешние биографы считают тот факт, что в действительности (это доказано вполне надежными документами) Софьи Шлиман в это время не было не только на раскопках, но и вообще в Турции! Был даже пущен слух, что «сокровища Приама» Шлиман купил на стамбульском рынке и сам подбросил в траншею. Доказать или опровергнуть это не удалось: после того как Шлиман тайком от турецкого правительства вывез сокровища в Грецию, основная их часть бесследно исчезла. Сохранились лишь немногие фотографии и среди них самая знаменитая — Софья Шлиман «в диадеме и ожерелье Елены Прекрасной»{9}. Знакомясь с этим списком претензий, начинаешь удивляться — что же все-таки сделал этот человек, которого обвиняют в том, что он чуть ли ничего не сделал? Шлиман сделал великое дело. До него вся так называемая «археология» состояла в том, что сотни любителей искали в старинных развалинах зарытые там сокровища или случайно сохранившиеся старинные, рукописи и предметы искусства; в лучшем случае они составляли описания развалин и собирали то, что лежало на поверхности. Шлиман был первым, кто стал вести планомерные и целенаправленные раскопки, и притом с серьезной научной целью — найти следы древней цивилизации, обнаружить не столько ее клады, сколько ее историю и культуру, проверить рассказы древних об их далеком прошлом. Эти первые широкие поиски материальных свидетельств прошлого и породили всю современную научную археологию как исследовательское орудие историков. Спору нет, они породили также и то, что можно назвать «сенсационной археологией» — ту ее глянцево-приукрашенную, облегченно-газетную версию, что то и дело возбуждает читателей во всем мире открытием какой-нибудь очередной гробницы Тутанхамона. Но в науке главным достижением Шлимана является все-таки не находка «сокровища Приама» или «маски Агамемнона», а обнаружение «Приамовой Трои» и «Агамемновых Микен» — впечатляющее «воскрешение из мертвых» необыкновенно сложного и многоцветного мира, погребенного в глубинах прошлого. Напомню: к началу работ Шлимана наука о человеческой истории находилась в самом зачаточном состоянии; даже термины «палеолит» и «неолит» были придуманы лишь за несколько лет до того, а первая книга о древней истории (Вильсон: «Предысторические анналы») появилась только в 1851 году; но уже тридцать лет спустя Р. Даукинс имел все основания говорить: «Археологи подняли изучение древностей до уровня настоящей науки». И кто же ее поднял на этот уровень за столь короткий срок? Вот именно — Генрих Шлиман в первую очередь. Пусть поначалу дилетантски-грубо, с неизбежными издержками, с ошибками и преувеличениями, но именно он (и поначалу в одиночку) проделал всю или почти всю работу по превращению археологии в науку, — и первый шаг к этому он сделал в 1868 году в Турции, на холме Гиссарлык. Я уже рассказывал, что множество холмов на Троянской равнине оспаривало честь быть хранилищем остатков Древней Трои, подобно тому, как множество городов Древней Греции оспаривали в свое время честь считаться родиной Гомера. Главными фаворитами были Гиссарлык, находившийся на самом краю плато, обрывавшегося к равнине Мендереса-Скамандра, и лежавший несколько дальше в глубине плато Бурунбаши. Шлиман мог бы ошибиться в своем выборе места раскопок (как он впоследствии ошибся при поисках Пилоса), но, на его счастье, сопровождать уважаемого гостя в экскурсии по Трое вызвался большой знаток тамошних мест и по совместительству американский консул в этой провинции Оттоманской империи Франк Кальверт. Этот незаурядный, судя по воспоминаниям, человек тоже интересовался древностями и даже предпринял некогда пробные раскопки на Гиссарлыке. Заложенная им траншея была неглубока и коротка, но и этого хватило, чтобы убедиться, что холм содержит несколько «культурных слоев» (следов существовавших здесь когда-то одно за другим и одно над другим поселений). Под влиянием Кальверта Шлиман решил искать Трою именно на Гиссарлыке{10}. Свои раскопки он начал в 1871 году. К концу третьего года работ Шлиман вскрыл пять последовательных культурных слоев, один под другим, и убедился, что каждый из них представлял собой останки сменявших здесь друг друга древних городов. К сожалению, будучи дилетантом в предпринятом им новом деле, Шлиман приказывал рабочим вести траншею напрямик, сквозь все препятствия, и в результате разрушил попутно многие более поздние останки. Позднее он оправдывался: «Поскольку моей целью было раскопать Трою, которую я ожидал найти в одном из самых нижних слоев, я был вынужден разрушить руины в слоях более высоких». (Как теперь известно, он попутно разрушил руины и той Трои, которую искал.) Тем не менее во втором снизу слое на глубине 15 метров (по нынешней нумерации, это Троя-2) он обнаружил более или менее «гомеровский» элемент: развалины большой крепостной башни. В марте 1873 года в этом же слое были найдены остатки мощеной улицы, покрытые толстым слоем разноцветного пепла (пепел — это пожар, а пожар — это война!), а также развалины двух больших ворот, заваленных обломками. И, наконец, несколько позже, под самый конец сезона, здесь же были раскопаны и знаменитые «сокровища Приама» — золотая «диадема Елены Прекрасной», как тотчас назвал ее Шлиман, собранная из 16 тысяч золотых звеньев, и множество других золотых украшений{11}. Все это убедило его, что он отыскал заветную цель. Да и как иначе: укрепления, сокровища, а главное — пепел! Пепел — это пожар, а пожар — это война, не так ли?! И какая же, если не Троянская? С момента сенсационной публикации всех этих гиссарлыкских открытий за Шлиманом прочно укрепилась слава «человека, который нашел Трою». В каком-то смысле это было справедливо, потому что он действительно нашел «точное местоположение» этого древнего города. Однако ту Трою, которую он искал — гомеровскую, «Приамову» Трою, — найти оказалось значительно труднее. Шлиман поторопился, объявив ею найденную им Трою-2. Это отождествление сразу вызвало у специалистов серьезные сомнения: Троя-2 была слишком мала по размерам (всего 100*80 метров), а грубость и примитивность ее строений никак не соответствовала пышным описаниям Гомера. Шлиман, правда, пытался убедить скептиков (а заодно, наверно, и самого себя), что «Гомер был эпический поэт, а не историк; к тому же он видел Трою через 300 лет после ее разрушения», но и сам не мог не согласиться: «Если Троя действительно была таким небольшим по размерам городком, то несколько сот человек могли взять ее за несколько дней, и тогда всю «Троянскую войну» пришлось бы признать полным вымыслом…» Эти сомнения заставили его вскоре вернуться на Гиссарлык. И еще не раз вернуться. В промежутке, однако, он совершил поистине «кавалерийскую атаку» на Микены, которые Гомер описал как столицу Агамемнона, возглавлявшего Троянский поход. Как и на Гиссарлыке, он руководствовался здесь буквалистским прочтением свидетельств древних авторов — в данном случае историка II века Павсания. В своем описании Микен Павсаний утверждал, что гомеровский Агамемнон был похоронен внутри стен древней крепости. Поскольку сохранившиеся к XIX веку стены Микен охватывали очень малое внутреннее пространство, недостаточное для размещения пышных царских гробниц, все исследователи считали, что Павсаний имел в виду какие-то другие, наружные, более протяженные стены, которые, видимо, разрушились еще в старину (останки таких стен были, действительно, найдены при последующих раскопках, уже после Шлимана). Но Шлиман, читавший своих древних наставников буквально, начал раскопки именно в пределах сохранившихся стен, с внутренней стороны Львиных ворот. Слой обломков, заваливших здесь бывшую крепостную площадь, был в несколько метров толщиной; Шлиман, не задумываясь, приказал своим рабочим вымести этот слой и проложить через расчищенное место горизонтальную траншею. Стоит ли говорить, что он опять нашел то, что искал! Раскопки почти сразу вскрыли поразительное сооружение — ряд вертикально поставленных плоских каменных плит, образующих кольцо диаметром метров в тридцать. Площадка внутри этого круга явно была выровнена еще в древности, и на ней, вкопавшись до самого скального основания, рабочие обнаружили входы в пять вертикальных округлых колодцев-гробниц. Эта площадка впоследствии получила название «первого круга гробниц». Но главное состояло в том, что в этих гробницах были обнаружены сохранившиеся с глубокой древности останки девятнадцати мужчин и женщин и двух детей. Их скелеты были буквально погребены под грудой бесчисленных золотых украшений и предметов; на лицах мужчин были золотые маски, черты которых повторяли черты их лиц; тела были покрыты доспехами из золотых листьев; на женщинах были золотые браслеты и диадемы; вокруг лежали мечи и кинжалы с изумительными изображениями батальных и охотничьих сцен, кубки и чаши с тончайшими рисунками и многое-многое другое{12}. Что должен был подумать человек, наизусть знавший Гомера, увидев эти богатейшие захоронения? Мы точно знаем, что подумал Шлиман, потому что сохранилась телеграмма, посланная им в тот же день греческому королю: «С огромной радостью спешу известить Ваше Величество, что я нашел гробницы, представляющие собой, согласно рассказу Павсания, захоронения. Агамемнона, Кассандры, Евромедона и их спутников, которые были убиты во время пиршества Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом». Традиция, идущая от Гомера, действительно утверждает, что великий микенский царь, руководитель Троянского похода Агамемнон по возвращении домой был предательски убит на пиру вместе со своими приближенными и наложницами, в том числе Кассандрой и ее двумя детьми, а в найденных им гробницах Шлиман действительно обнаружил скелеты нескольких мужчин, а также женщин и двух детей, так что у него были все основания для восторженной телеграммы, но, как и в случае с Троей-2, он опять оказался не прав. Его датировка была ошибочной: как выяснилось позже, найденные им скелеты, по меньшей мере на 300 лет были старше предположительной даты Троянской войны. Доказательство реальности Троянской войны опять ускользнуло, но зато обнаружилось нечто иное, и, быть может, намного более важное. В самом деле, если уже за триста лет до пресловутой Троянской войны цари Микен (а внутри стен наверняка находились гробницы царей) располагали такими богатствами и их хоронили с такой пышностью, то лучшего доказательства могущества и величия Микенского царства трудно и желать. Более того, как показал впоследствии американский археолог профессор Алан Вэйс, руководитель многолетних систематических раскопок в Микенах в 30-е годы XX века, останки, найденные Шлиманом, в действительности принадлежали людям разных эпох и в совокупности покрывали время от XVI до XIII века. А это уже позволяло утверждать, что Микены, как и говорил Гомер, на протяжении ряда столетий действительно были центром богатого и мощного государства, а возможно, и всей тогдашней греческой цивилизации. Но Шлиман нашел и другие, хоть и более мелкие, но крайне важные подтверждения правдивости рассказа Гомера. На некоторых золотых украшениях были изображены те самые загадочные «башнеподобные» щиты, прикрывавшие тело воина с головы до пят, которые у Гомера принадлежали «большому» Аяксу и подобных которым в гомеровские времена уже не было. В другой гробнице была найдена золотая чаша с двумя ручками в виде голубей, очень похожая на описанную Гомером в «Илиаде» чашу героя Нестора, а также шлем с гребнем из медвежьих зубов: дословное описание такого шлема содержится в 10-й главе «Илиады». Даже сдержанные историки были потрясены: казалось, гомеровские герои явились перед их глазами живым воплощением слов Гомера. Однако, как ни сенсационны были эти находки, для развития археологии как науки куда более важными оказались многочисленные образцы древней посуды, найденные Шлиманом в Микенах. До того, в Трое, он находил лишь отдельные черепки каких-то непонятных эпох. Обилие найденной им теперь керамики впервые позволяло специалистам произвести более или менее точную датировку этих эпох путем сопоставления микенских черепков с остатками аналогичной посуды, обнаруженной в других местах Средиземноморья, прежде всего — на раскопках в Египте, хронология культурных слоев которого благодаря обилию и детальности письменных памятников известна весьма точно. Детальная разработка этого метода датировки заняла еще многие годы, но в конце концов ее принципы были установлены достаточно прочно, что позволило со временем заложить основы надежной микено-троянской хронологии. Шлиману не суждено было воспользоваться этим методом. Его уверенность, что он нашел гробницу Агамемнона, оставалась непоколебимой и подвигла его продолжить поиски «микенской цивилизации», на сей раз — в Орхоменосе, том самом, о котором Ахилл у Гомера говорит: «Даже ради богатств Орхоменоса не соглашусь». Подобно останкам Микен, развалины Орхоменоса (с огромной гробницей, некогда описанной все тем же Павсанием) сохранились на виду, и Шлиман быстро произвел там разведывательные раскопки. Золота он, однако, не обнаружил, других сенсационных находок тоже (если не считать очередного обилия черепков), и уже через несколько недель прервал работу; единственным ее результатом было обнаружение удивительного сходства гробницы в Орхоменосе с гробницей в Микенах (позднее была высказана гипотеза, что их строил один и тот же архитектор). Из Орхоменоса, лежавшего к северу от Афин, Шлиман направился к развалинам древнего Тиринфа, расположенного к югу от Микен, почти у самого берега моря («крепкостенный Тиринф» у Гомера, откуда под Трою пришел царь Диомед со своими воинами: «Осмьдесят черных судов под дружинами их принеслося». Циклопические стены этого города тоже сохранились с древних времен и не могли не привлечь внимание Шлимана. Свои раскопки в Тиринфе Шлиман начал в 1884 году, на сей раз вместе с архитектором Дорпфельдом, и участие этого молодого человека, который впоследствии вырос в серьезного, самостоятельного археолога, оказалось весьма существенным: именно Дорпфельд помешал Шлиману проложить траншею, которая наверняка бы уничтожила таившийся под обломками средневековой византийской церкви древний царский дворец. В результате вмешательства Дорпфельда дворец был раскопан неповрежденным, что позволило впервые воочию узреть многие детали замечательной дворцовой и крепостной архитектуры XIV–XIII веков до н. э. Они опять оказались предельно совпадающими с описаниями Гомера, и Шлиман не замедлил оповестить мир о своем очередном сенсационном открытии: «Я извлек на свет великий дворец легендарных царей Тиринфа, — писал он, — и отныне до конца времен никто не сможет опубликовать книгу о древнем искусстве, не упомянув о моем открытии». После Тиринфа Шлиман предпринял еще несколько попыток: следуя путями гомеровских героев, он безуспешно искал местонахождение «Менелаевой Спарты»; затем пробовал копать в упоминаемом Гомером «песчаном Пилосе» царя Нестора, но, как я уже говорил, ошибся в местоположении древнего города и ничего существенного не нашел; и, наконец, несмотря на огромную усталость («Я испытываю огромное желание до конца моих дней устраниться от раскопок…»), решил снова «копнуть» в любимой Трое. Он уже был тут несколько раз в промежутке между раскопками в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе, Пилосе и каждый раз находил что-то новое и неожиданное. Но все эти открытия не приносили ему того удовлетворения, которое он так хорошо имитировал в своих победных реляциях на публику. Его продолжали одолевать сомнения. Возражения скептиков разъедали его уверенность. Он возвращался и снова искал — искал доказательств, которые бы окончательно и однозначно убедили скептиков (и его самого), что найденная им Троя-2 — это действительно «Приамова Троя». И вот теперь он решил возвратиться сюда снова — поискать еще раз. Кто ищет, тот, как известно, всегда найдет. Хотя, конечно, не всегда то, что ищет. >ГЛАВА 6 «ПРИАМОВА» ТРОЯ — ВТОРАЯ, ШЕСТАЯ, СЕДЬМАЯ? В сознании широкой публики слава Шлимана как «первооткрывателя Трои» связана с его сенсационными открытиями 1871–1873 годов — раскопками в Трое-2 и обнаружением там «Приамового сокровища». Но, как мы уже сказали, среди специалистов оставались многие, кто весьма скептически относился к Шлиманову отождествлению Трои-2 с гомеровской Троей. Сомнения, как мы тоже уже говорили, были и у самого Шлимана; вот почему в промежутках между раскопками в Греции — в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и Пилосе — Шлиман неоднократно возвращался на Гиссарлык. Первый раз он вернулся в 1878–1879 годах, — но единственным результатом этих двух раскопочных сезонов было лишь открытие еще одного, самого глубокого культурного слоя. Судя по находкам, этот слой принадлежал к далеким доисторическим временам и к гомеровской Трое отношения не имел. Еще через два года, в 1881-м, Шлиман объехал верхом на лошади самые дальние окрестности Гиссарлыка, словно отыскивая другие возможные места раскопок, но ничего подходящего не нашел и в 1882 году снова вернулся на Гиссарлык, на сей раз вместе со своим новым помощником Дорпфельдом. И вот тут, наконец ему улыбнулась удача. Продолжив раскопки в Трое-2, он обнаружил новые признаки существовавшего здесь в древности укрепленного города — еле заметные следы кольцевых стен, почти стертые временем остатки мощных бастионов, а главное — развалины обширного здания, напоминавшего царский дворец. Вкупе с прежними находками в том же слое это делало Трою-2 куда более соответствующей описаниям Гомера, и Шлиман не замедлил известить своих друзей и недругов: «Моя работа в Трое завершена окончательно. Я доказал, что в глубокой древности на, этой равнине находился большой город, разрушенный страшной катастрофой и в точности отвечающий гомеровскому описанию…» Увы, победоносное извещение и теперь оказалось преждевременным. В 1889 году Шлиман с Дорпфельдом в очередной раз вернулись на Гиссарлык, чтобы расширить раскопки Трои-2, и почти сразу же наткнулись на обескураживающий факт. Заложенная ими новая траншея вскрыла следы еще одного дворцового зала, в помещениях которого оказалось множество остатков посуды микенского («Агамемнонова») типа, но, увы, культурный слой, в котором располагался новонайденный дворцовый зал с его посудой, оказался шестым, считая снизу, то есть намного более поздним, чем Троя-2. Если Шлиман был прав и Троя-2 была, как он утверждал, гомеровской, то кому тогда принадлежали дворец и посуда Трои-6? История не знала на этом месте более поздних городов с такими дворцами, да и посуда не соответствовала более позднему времени. Если же гомеровской была новонайденная Троя-6 (на что могли указывать дворец, а главное, датировка посуды), то, что же тогда нашел Шлиман в Трое-2? Все здание троянской датировки Шлимана вдруг заколебалось, и стало понятно, что без новых раскопок не обойтись. Шлиман назначил эти работы на следующий, 1891 год, но ему уже не суждено было вернуться на Гиссарлык — в том же году он скоропостижно умер после неудачной операции застуженного на раскопках уха: свалился прямо на улице, парализованный и утративший речь, был доставлен в больницу для бедных и через несколько часов, не приходя в сознание, скончался. Польский писатель Генрих Сенкевич, случайно оказавшийся свидетелем отправки его тела домой, в Афины, позднее писал: «Хозяин отеля подошел ко мне и спросил: «Знаете ли, вы, кто этот господин? Нет? Это великий Шлиман!» Бедный «великий Шлиман»! Подумать только — откопать Трою и Микены, заслужить, бессмертную славу у людей и так вот умереть…» Шлиман, несомненно, заслужил эту бессмертную славу как первооткрыватель Трои и, что еще важнее, микенской цивилизации, но «настоящую», гомеровскую Трою он, как вскоре выяснилось, не опознал. Установил это Дорпфельд. В 1893 году, получив от Софьи Шлиман средства на продолжение раскопок, он вернулся на Гиссарлык, заложил огромную кольцевую траншею, вокруг найденных им (в последних раскопках со Шлиманом) остатков дворца в Трое-6 и почти немедленно обнаружил останки стен, намного более грандиозных, чем все, что нашел Шлиман в своей Трое-2. Продолжая раскопки, он нашел еще целый ряд строений, некогда составлявших тот же город, — сначала остатки пяти больших, неплохо сохранившихся домов аристократического типа, затем еще нескольких сильно поврежденных зданий того же характера и, наконец, развалины могучего крепостного бастиона в северо-восточной части стены. Особенно важным было то, что повсюду в этом слое обнаруживались черепки посуды точно того же типа, что нашел Шлиман в Микенах и Орхоменосе. К этому времени уже было доказано, что такой тип посуды производился исключительно в греческих («микенских») городах XV–XIII веков до н. э., и это означало, что на Гиссарлык она могла попасть лишь из Греции; иными словами, Троя-6 имела давние и длительные — по крайней мере, с XV по XIII век — контакты с городами «микенской цивилизации». В этот промежуток времени попадала любая предположительная дата Троянской войны; а если еще добавить, что, судя по некоторым приметам, гибель Трои-6 сопровождалась тяжелыми разрушениями: крепостные стены во многих местах были повреждены, здания и дворец еще хранили следы пожара, то общий вывод напрашивается как бы сам собой: именно этот город, Троя-6, а не Троя-2, и мог быть искомой гомеровской Троей. Теперь настала очередь Дорпфельда публиковать победные реляции. Сообщая о своих находках, он писал: «Долгий спор о реальности Трои и ее местоположении пришел к концу… Шлиман оправдан… Вид крепости был несомненно знаком певцам «Илиады»…» (Шлиман, надо думать, был оправдан в том смысле, что подлинная Троя оказалась именно там, где он ее искал, хотя и не в том слое.) Дорпфельд мог бы добавить: вид крепости был Гомеру не просто знаком, а знаком детально. На одном из участков разрушенной крепостной стены раскопки вскрыли место, весьма напоминавшее то, где, по словам Гомера, «трижды Менетиев сын (Патрокл. — Р.Н.) взбегал на высокую стену»: камни здесь прилегали друг к другу так неплотно, что и турецкие землекопы, далеко не Патроклы, тоже запросто могли по ним подниматься. А в западной части крепостной стены Дорпфельд обнаружил слабо укрепленный участок, что опять же соответствовало рассказу Гомера, согласно которому Одиссей еще во время осады пробрался в осажденный город через слабину в западной части стены! Эти поразительные совпадения едва ли не более, чем всё остальное, побудили большинство исследователей согласиться с выводом Дорпфельда. Так, видный английский гомеровед Уолтер Лиф в своей книге «Гомер и история» писал: «Крепость (найденная Дорпфельдом. — Р.Н.) находится на том самом месте, где ее помещала гомеровская традиция». И продолжал: «Отсюда следует историческая реальность Троянской войны. Можно даже думать, что, по крайней мере, некоторые из героев Гомера тоже были реальными участниками той войны и носили те же имена, что у Гомера». Другим специалистам тоже казалось, что долгие поиски Трои наконец-то благополучно завершились. Но Троя и на этот раз приготовила своим искателям неприятный сюрприз. Примерно через сорок лет после Дорпфельда, в 1932 году, на Гиссарлык прибыл еще один продолжатель дела Шлимана — замечательный американский ученый Карл Блеген. К тому времени он уже был широко известен специалистам во всем мире своими тщательными раскопками в «микенских» городках материковой Греции — Коракоу, Зигурос и Просимна. Эти его работы (вкупе с новыми раскопками англичанина Алана Вэйса в самих Микенах) позволили окончательно завершить создание детальной и точной хронологии культурных слоев и стилей керамики, общих для всей микенской цивилизации. Теперь, возвращаясь вслед за Шлиманом и Дорпфельдом на Гиссарлык, Блеген хотел всего лишь проверить на основе этой хронологии их датировку культурных слоев многовековой Трои. Но неожиданно для него самого это «невинное» намерение повлекло за собой сенсационные результаты. В ходе дотошного (а это он умел!) изучения Трои-6 Блеген установил, что ее стены и дома были повреждены отнюдь не военным штурмом, а естественной катастрофой: в стенах и зданиях обнаруживались сдвинутые с места камни фундамента, а сдвинуть с места фундамент могло только мощное землетрясение. Вывод опять напрашивался сам собой: если Троя-6 погибла не в результате осады и штурма, то, значит, Троя-6 тоже не является гомеровской Троей! Точно так же, как Дорпфельд в свое время опроверг Шлимана, Блеген теперь опроверг Дорпфельда, и с убедительностью этого опровержения вынужден был согласиться и сам Дорпфельд, когда в 1935 году посетил раскопки Блегена. Но Блеген сделал и нечто намного большее. Поняв, что Троя-6 не может быть гомеровской, он стал искать следы гомеровской Трои в более поздних культурных слоях. Он проделал гигантскую работу по детальнейшей датировке всего Гиссарлыкского холма, от основания до макушки, и выявил в нем 11 культурных слоев, которые распадались на пятьдесят (!) подслоев. Два из них — 7а и 7б — располагались непосредственно над Троей-6, друг за другом, и, как оказалось, в одном из них, в подслое 7а, Блегена ожидали поистине сенсационные открытия. Прежде всего, он установил, что город, возникший на развалинах Трои-6 спустя примерно полвека после ее разрушения (Блеген назвал его «Троя-7а!»), был построен внутри тех же стен, что и Троя-6. Это означало, что многие из характеристик Трои-6, открытых Дорпфельдом, — участки стен, поврежденные штурмом, неплотно уложенные камни в том месте, где, по Гомеру, пытался взбежать на стену Патрокл, слабина в западной стене, могучие ворота и бастионы, даже характер посуды — все это относилось и к Трое-7а. Это означало также, что спустя полвека люди вернулись на развалины и отстроили свои жилища, но почему-то не стали восстанавливать разрушенные крепостные укрепления. Почему? Объяснение этого факта потребовало дальнейших раскопок, в ходе которых Блеген сделал еще более поразительные открытия. Изучая характер построек в исследуемом подслое, он установил, что постройки Трои-7а были куда бедней и примитивней, чем в непосредственно предшествовавшей ей Трое-6, раскопанной Дорпфельдом, но зато их было намного больше. Там, где раньше высилось лишь несколько элегантных зданий, группировавшихся вокруг дворца, теперь располагался запутанный лабиринт однокомнатных каменных строений, настоящих лачуг, явно построенных на скорую руку, как попало, вплотную друг к другу, в страшной скученности. Троя-7а мало походила на царственную Трою-6 — она, скорее, напоминала лагерь беженцев. Казалось, будто окрестные жители внезапно хлынули в разрушенный землетрясением город и наскоро стали строить жилища-времянки среди развалин, не имея ни времени, ни средств восстановить прежние здания и дворцы или залатать поврежденные крепостные стены. Более того, внутри многих лачуг, у входа, Блеген обнаружил следы некогда вкопанных в землю громадных, в человеческий рост, глиняных сосудов, в которых древние. обычно хранили съестные припасы. Впечатление было такое, будто жители не просто бежали за стены от какой-то внезапной опасности, но еще и ждали длительной осады — потому и собирали запасы продовольствия. Об «осадном положении» говорило и почти полное отсутствие в развалинах Трои-7а каких-либо следов импортной посуды или тканей — все находки были местного производства, как будто связи города с наружным миром были перерезаны. Свое последнее открытие Блеген сделал уже внутри жилищ Трои-7а. Их стены демонстрировали следы насильственного разрушения, там и сям обнаруживались куски обожженного дерева, под одной повалившейся стеной был найден человеческий скелет, в другом месте — человеческий череп, пробитый стрелой. Эти следы разрушения и гибели могли быть оставлены только войной. Взятые вместе, все эти находки выстраивались в связную картину: известие о приближении врага — торопливое бегство людей со всей округи под защиту крепостных стен — осада — штурм — взятие и разрушение города. По оценке Блегена, Троя-7а была взята штурмом не более чем через 50 лет после землетрясения и не позднее чем в 1240 году, т. е. «именно в тот период, — писал он, — когда микенские царства материковой Греции переживали самый высший расцвет и наверняка были достаточно могущественными, чтобы предпринять совместную военную экспедицию» (К. Блеген, «Троя и троянцы»). То же самое можно сказать й иначе: гомеровская Троя существовала — это была Троя-7а. Ошибка Дорпфельда была вполне извинительной: не имея в руках тех методов, которыми (40 лет спустя) располагал Блеген, он приписал Трое-6 те признаки, которые на самом деле принадлежали лежавшей буквально над ней, почти без перерыва, Трое-7а. Но основной вывод Дорпфельда был, по мнению Блегена, бесспорен. «Не может быть больше сомнения, — писал Блеген в той же своей книге, — что Троянская война, в которой коалиция ахейцев, или микенцев, сражалась с троянцами и их союзниками, была исторической реальностью… И Троя-7а, которая и должна быть признана настоящей Троей, была той самой крепостью, чья осада и штурм так врезались в память трубадуров и бардов, что они передали своим потомкам имена героев, сражавшихся в этой войне». В этом замечательном обобщении итогов всех трех стадий исследования Трои — шлимановской, дорпфельдовской и собственно блегеновской — есть только одна неточность: найденные Блегеном факты в действительности свидетельствовали лишь о разрушении Трои, но не могли служить доказательством, что этому разрушению предшествовала предварительная осада. Что, собственно, подкрепляло мысль об осаде? Только разве что вкопанные у входа в дома кувшины с продуктами? Но ведь и в Помпеях тоже были найдены такие кувшины, а Помпеи никто не осаждал, как известно. Не случайно один археолог (уже после раскопок Блегена) насмешливо заметил, что «разрушение Трои — это исторический факт, но ее осада — всего лишь возможность». Новый свет на вопрос о реальности осады Трои был пролит лишь спустя полвека, когда все герои нашего рассказа давно уже сошли с исторической и просто жизненной сцены. В 1988 году, ровно через 50 лет после завершения раскопок Блегена, на Гиссарлыке начала работать новая археологическая группа под руководством Манфреда Корфмана. В числе прочего она произвела широкую разведку в окрестностях Гиссарлыка и, в частности, к юго-западу от него, вблизи высокого могильного кургана конической формы Бесик-Тепе. Во времена «классической», послегомеровской Греции (с V века до н. э. и позже) этот курган считался «могилой Ахиллеса», и именно на нем в свое время позировали для истории персидский царь Ксеркс и великий Александр Македонский. А в наше время экспедиция Корфмана сделала здесь весьма важное открытие. Во-первых, было обнаружено, что именно здесь в XIII–XII веках до н. э. (то есть во времена предполагаемой Троянской войны) находился морской берег. А во-вторых, всего в нескольких метрах от тогдашней береговой линии было найдено захоронение XIII века до н. э., содержавшее около 50 камер-гробниц с прахом кремированных людей. В гробницах сохранилось множество погребальной посуды и других предметов греческого производства. Среди этих предметов были также камни, игравшие роль личных печатей микенских аристократов. Близость этого «греческого кладбища» к тому кургану, который греческая традиция упорно именовала «могилой Ахиллеса», а также к древнему морскому берегу была слишком красноречивой, чтобы быть случайной. Гомер («Илиада», 14:30) говорил о лагере, который греки во время осады разбили вблизи моря («Их корабли от равнины, где бились, далеко стояли // берегом моря седого…»); он говорил также, что здесь же, вблизи своего лагеря, греки хоронили героев, павших во время осады. Не нашел ли Корфман этот гомеровский лагерь? Тогда это однозначно доказывало бы историческую реальность осады города. Сам Корфман сформулировал свое мнение крайне осторожно: «Я могу лишь высказать интуитивное впечатление, что открытое нами кладбище в гавани Трои, скорее всего, относится к тем временам, когда происходила Троянская война». Любопытные находки были сделаны и в самой Трое. В южной части древней Трои-6 (и 7а, соответственно) экспедиция Корфмана обнаружила остатки шести домов с таким количеством микенской посуды, которое невольно порождало вопрос, не находилась ли здесь когда-то греческая торговая колония (доказано, например, что в Милете, много южнее Трои по берегу моря, такая колония действительно существовала). В таком случае захоронению, найденному Корфманом в Бесик-Типе, можно было бы дать и другое, более прозаическое объяснение — это могло быть, например, кладбище богатых микенских купцов, живших в Трое. Корфман и впрямь нашел признаки того, что Троя-6 была достаточно большим городом, далеко выходившим за стены той крепости, которую раскопали Дорпфельд и Блеген, и потому — особенно учитывая ее географическое расположение на берегах Дарданелл — вполне могла привлечь к себе внимание купцов из разных стран. Но ведь в той же мере и по тем же причинам она могла привлечь к себе и внимание хищных завоевателей! Уж очень многое в Трое-6 и 7а несло на себе следы чисто военных разрушений. На окончательный выбор могли бы существенно повлиять показания каких-нибудь «независимых» свидетелей тогдашних событий. Но были ли у гомеровских Микен и Трои современники и одновременно близкие соседи, которые могли бы оставить такие свидетельства? Как ни странно, были — и даже два: Крито-Минойское царство на западе и Хеттская империя на востоке. К ним мы и обратимся на этом последнем витке нашего исторического расследования. >ГЛАВА 7 КРИТ И МИКЕНЫ У Микен и Трои были два современника-соседа, и одним из них было Крито-Минойское царство. Заслуга его открытия принадлежит замечательному британскому археологу Артуру Эвансу. Подробный рассказ о работах Эванса увел бы нас далеко в сторону; ограничимся поэтому лишь тем, что непосредственно связано с загадкой Троянской войны. Эванс заинтересовался археологией Древней Греции под влиянием находок Шлимана в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и т. д. Ему казалось непонятным, что такая могущественная цивилизация, какой в результате раскопок Шлимана представала цивилизация Микен (ведь она простиралась чуть не на всю основную часть Греции), не оставила по себе никаких письменных памятников вроде тех, которыми засвидетельствовали свое существование Древний Египет или Шумерское и Ассирийское царства в Месопотамии. Эванс был убежден, что такие письменные следы микенского прошлого должны отыскаться, и его уверенность была подкреплена случайной находкой: в 1893 году, во время посещения Афин, некий торговец древностями предложил ему купить старинные камни с выцарапанными на них причудливыми узорами. По причине своей невероятной близорукости Эванс очень хорошо различал микроскопические детали и потому сумел разглядеть в узорах-царапинах явные следы некой системы. Он заподозрил, что это и есть разыскиваемая им микенская письменность. Однако на его вопрос, откуда камни, продавец сказал: «С Крита». Надо сказать, что Шлиман в свое время интересовался Критом и даже побывал в 1886 году в Кноссосе, что под Гераклионом, чтобы решить, не начать ли здесь свои очередные раскопки (ему это не удалось по весьма прозаической причине — турецкое правительство отказалось продать ему землю). Он с поразительной интуицией предвидел, что здесь может таиться нечто важное. «Я не буду поражен, если здешняя почва таит останки цивилизации, древность которой сделает Троянскую войну событием вчерашнего дня…» — писал он одному из корреспондентов. Разумеется, у шлимановой интуиции, как и у всякой иной, были вполне рациональные основания. Еще древние греческие мифы связывали с Критом начало науки, техники и архитектуры. Так, в знаменитом мифе о критском царе Миносе говорилось, что именно в Кноссосе легендарный архитектор, инженер и изобретатель Дедал построил царю дворец, а под ним — Лабиринт, куда был упрятан получеловек-полубык Минотавр, которого похотливая жена Миноса родила от совокупления с быком и который питался исключительно человечиной. Миф о Тезее рассказывал, как афинский герой Тезей пробрался в лабиринт, убил Минотавра и выбрался обратно с помощью нити Ариадны, дочери царя Миноса. Если верить мифу, этот подвиг Тезея избавил Афины от древней обязанности ежегодно отправлять в Кноссос человеческую дань. Если рассматривать эту легенду как отражение реальности в мифологическом сознании, она означает, что Афины, видимо, были подчинены Криту. Поэтому можно думать, что могущественное царство Миноса, владея множеством боевых кораблей, сумело подчинить себе и многие другие города — как на островах Эгейского моря, так и в материковой Греции. И действительно, в ходе своих раскопок в Микенах Шлиман нашел несколько предметов с изображением критского быка, что, собственно, и навело его на мысль, что между Микенами и Критом могла существовать древняя связь — не случайно же его любимый Гомер упомянул критского царя Идоменея в числе властителей, приславших, по призыву Агамемнона, свои корабли и воинов под Трою. Так что визит Шлимана на Крит был целенаправленным — он надеялся отыскать там следы древних крито-микенских связей. Эванс прибыл на Крит с другой целью — найти здесь следы «микенской письменности». Он быстро убедился, что камней с загадочными надписями, вроде купленного им в Афинах, здесь превеликое множество — местные женщины носили их на груди в виде амулетов и называли «молочными камнями». Но у местного археолога-любителя Калокаириноса он увидел еще более любопытный предмет — глиняную табличку, сплошь покрытую несомненными письменами. Калокаиринос нашел ее в ходе своих пробных раскопок в Кноссосе, когда проложенная им траншея вскрыла остатки обширного дворцового комплекса, стены которого были покрыты охровой краской, а полы завалены щебнем и обломками глиняной посуды. Прослышав о дворце, Эванс немедленно купил указанный ему кусок земли в Кноссосе (в отличие от Шлимана, ему это удалось, потому что к тому времени Крит уже освободился от турецкого владычества) и в 1900 году приступил к систематическим раскопкам. Первоначально весь его интерес сосредоточивался на поиске табличек; вскоре, однако, эти поиски отошли на второй план, поскольку первые же траншеи вскрыли богатейшие остатки какой-то могущественной цивилизации, значительно более древней, чем микенская (как и предсказывал за 15 лет до того Шлиман). Вскоре находки пошли сплошь и подряд: дворцовые залы с изумительными фресками на стенах, помещения с громадными сосудами, на которых были изображены сцены каких-то загадочных игр людей с бкками, статуэтки неизвестных дотоле богинь с обнаженной грудью, колонны и статуи, золотые украшения и множество обожженных глиняных табличек с отчетливыми письменами. Архитектура построек, характер живописи, детали росписей на сосудах — всё свидетельствовало о том, что открытая Эвансом культура не имела ничего общего с микенской и отличалась совершенно особым, индивидуальным характером. Постепенно усилиями других археологов, привлеченных Эвансом на Крит, выяснилось, что аналогичные дворцы, живопись, ритуалы существовали и в других районах огромного острова — на юге, в Фестосе, и на западе, в Мелии. Эванс назвал эту дворцовую культуру «крито-минойской» — в честь легендарного царя Миноса; по его убеждению, ее создателем был какой-то древний народ, возможно, пришедший на Крит из глубин Малой Азии. Современный греческий историк проф. С. Алексиу полагает, что это переселение людей из Малой Азии на Крит, на острова Эгейского моря и в материковую Грецию произошло примерно в середине третьего тысячелетия до н. э. Об общности раннего населения всех этих мест могут свидетельствовать общие для эгейских островов и Крита географические названия — Олимпус, Ида, Инатос и т. д. Возможно, географические названия с окончанием «-ос», столь многочисленные и на Крите, и в Греции — Коринфос, Кноссос, Фестос, Орхоменос, — распространились в это же время. В соответствии с нынешней хронологией, середина третьего тысячелетия до н. э. — это так называемый ранний бронзовый век{13}. Поскольку заселение Крита произошло, по теории Эванса — Алексиу, раньше, чем заселение материковой Греции, на Крите раньше возникли и предпосылки развития цивилизации. Контакты с близлежащим Египтом еще более ускорили это развитие. По мнению Эванса, около 2000 года до н. э. (т. е. в конце раннего бронзового века) лроизошло знаменательное событие: были возведены первые дворцовые комплексы в Кноссосе, Фестосе и Малии. Стала складываться «дворцовая культура». В ее основе лежало сельское хозяйство — не случайно все три дворцовых центра находились в самых плодородных районах острова. В 1700 г. до н. э., судя по археологическим данным, Крит постигла крупная естественная катастрофа, возможно — землетрясение. Однако она не прервала наметившегося развития: разрушенные дворцы были немедленно восстановлены, и последующий период стал временем высшего расцвета и могущества крито-минойского государства. Его колонии включали Теру, Родос, Карпатос, Мелос и другие острова Эгейского моря. То была «талассократия», или морская империя («таласса» по-древнегречески — море), опиравшаяся на силу своего обширного флота, равного которому не было во всем Средиземноморье. И вот в этом месте своих рассуждений Эванс подошел к. драматическому пункту: их логика с неизбежностью привела его к противоречию со Шлиманом. Дело в том, что во времена Эванса считалось, что микенская цивилизация, открытая Шлиманом, существовала в XIV–XII веках до н. э. Крито-минойская культура была явно древнее микенской — она достигла расцвета уже в XVII веке до н. э. Судя по раскопкам Эванса, она была также намного выше и изощренней: критские дворцы, архитектура, искусства, ремесла далеко превосходили все, что было найдено в материковой Греции того же времени. И вдобавок, по Эвансу, Крит с помощью своего флота контролировал все Эгейское море. Миф о Тезее утверждал, что критской власти подчинялись даже Афины. Напрашивалась мысль, что эта власть могла распространяться и на Микены с их городами. Иными словами, как бы сама собой складывалась гипотеза, что вся материковая Греция, включая Микены, была крито-минойской провинцией. Тогда некоторые приметы искусства и архитектуры, общие для обеих цивилизаций, можно объяснить тем, что дворцы в Микенах, Тиринфе, Пилосе и других центрах «микенской цивилизации», а также царские гробницы в этих городах принадлежали критским губернаторам и строились архитекторами с Крита, сосуды, утварь, оружие изготовлялись и расписывались критскими мастерами, а игры с быками и фигурки богинь были занесены критскими аристократами. Итогом этой цепи рассуждений неизбежно становился радикальный вывод: никакой особой «микенской цивилизации», на существовании которой настаивал Шлиман, не было вообще. Не удивительно, что от нее не осталось никаких письменных свидетельств. Письменность глиняных табличек — это не греческая, а крито-минойская письменность. А все найденное Шлиманом и его продолжателями в городах материковой Греции — это артефакты поздней крито-минойской культуры. Эта радикальная теория, выдвинутая Эвансом и получившая поддержку большинства историков и археологов начала XX века, столкнулась, однако, с определенными трудностями. Судя по данным критских раскопок, крито-минойская цивилизация, возникшая, по Эвансу, в 2000 году до н. э., просуществовала лишь шесть столетий. В 1420 году до н. э. (эта дата установлена достаточно надежно) какая-то загадочная катастрофа разрушила дворцы в Кноссосе и Фестосе, а с ними и все крито-минойское государство вообще{14}. Тем не менее, те же раскопки показали, что жизнь на Крите не угасла и после этого удара: дворец в Кноссосе был частично восстановлен, таблички продолжали писаться, хозяйство и торговля ожили и стали вновь развиваться. Это несоответствие требовало объяснения, и последователи Эванса его предложили. По их утверждению, города материковой Греции (Микены, Афины и др.), воспользовавшись крахом крито-минойской державы, освободились от власти критских завоевателей и сами, в свою очередь, завоевали и колонизовали Крит. Иными словами, подъем микенской цивилизации в XIV–XII веках до н. э. следовало представлять себе как восстание провинции против ослабевшей метрополии, — закончившееся ее подчинением. Но и при этом, говорили «эвансисты», Микены никогда не поднялись до тех высот, которых достигли в минойские времена. Второе несоответствие выявилось в результате раскопок 1930-х годов — А. Вэйса в Микенах и К. Блегена в Пилосе. И тот, и другой нашли в этих древних центрах микенской цивилизации глиняные таблички с точно такими же письменами, какие Эванс нашел на Крите. И тот, и другой нашли в своих раскопках такие исторические и культурные свидетельства, которые невозможно было уложить в Эвансову схему истории материковой Греции как критской колонии, населенной тем же народом, что и сам Крит. Одновременно с этими данными в печати появились в те же годы многочисленные работы лингвистов, филологов и историков, детально проанализировавших накопившиеся к тому времени данные о греческой «предыстории». Опираясь на всю совокупность этих новых данных, противоречивших теории Эванса, Вэйс и Блеген в совместной статье выдвинули альтернативную теорию. Согласно их историко-культурной схеме, материковая Греция была заселена носителями индо-европейского (древнегреческого) языка уже в конце раннего бронзового века, примерно с 1900 года до н. э., то есть тогда же, когда началось становление крито-минойской культуры на Крите, и эти же племена непрерывно населяли страну вплоть до падения микенской цивилизации около 1100 года до н. э., иными словами, много позже краха крито-минойского царства. Проще говоря, Греция всегда была греческой, ее (микенская) цивилизация и культура были автохтонными (местными и независимо возникшими), а не крито-минойскими, и именно ее (то есть древнегреческая, микенская) письменность была письменностью Эвансовых табличек. Наличие же общих культурных элементов объясняется просто культурными и торговыми связями этих двух цивилизаций. Эта гипотеза вызвала бурные возражения сторонников теории Эванса. Они заявили, что все аргументы Блегена — Вэйса являются косвенными; прямое отношение к спору имеют только найденные ими таблички с письменами, но как раз этой находке можно дать очень простое и естественное объяснение: либо эти таблички были оставлены в Микенах и Пил осе критскими купцами, либо микенские «варвары», завоевавшие Крит после 1420 года до н. э., вывезли к себе критские таблички, а может быть, — и уцелевших писцов-грамотеев. Сами же микенцы не могли создать ничего культурно значительного, тем более — самостоятельной письменности, поскольку их «цивилизация» была попросту последней, предсмертной «судорогой» великой крито-минойской культуры, а на своей последней стадии цивилизации, как и живые организмы, ничего нового создать уже не могут: творческий расцвет сопровождает молодость культур. Возникший спор имел прямое отношение и к интересующей нас загадке Троянской войны. «Шлиманцы» вслед за своим учителем (а также приведенные к этому собственными исследованиями) все более приближались к признанию исторической реальности этой войны. «Эвансисты» вслед за своим догматичным мэтром утверждали, что после краха «дворцовой культуры» Крита «варварские» города материковой Греции попросту не способны: были на такую далекую и трудную военную экспедицию. Поэтому никакой Троянской войны не было. А рассказ Гомера о ней, говорили «эвансисты» вслед за своим великим учителем, есть не что иное, как воскрешение критского мифа! Подтверждение или опровержение этого радикального тезиса требовало новых раскопок, но время для этого наступило самое неподходящее — грянула вторая мировая война, и Греция вместе с Критом были захвачены немецкими войсками. Единственным доступным полем исследований остались одни лишь критские и микенско-пилосские глиняные таблички. Только в их загадочных письменах могли теперь исследователи искать (и надеяться найти) решение жестокого и непримиримого спора между последователями Эванса и последователями Шлимана, а заодно, и возможные свидетельства «за» или «против» реальности Троянской войны. Задача была из труднейших. Ситуация казалась безнадежной. Неизвестны были не только знаки «глиняной письменности» — неизвестен был и язык, который скрывался за этими знаками: Вэйс и Блеген полагали, что это какой-то диалект древнегреческого (очень «древне» — времен расцвета Микен, XIV–XIII веков до н. э.), сторонники Эванса считали, что это никому неведомый «крито-минойский» язык. Тем не менее все эти трудности удалось преодолеть. Таблички заговорили. >ГЛАВА 8 ЛИНЕЙНОЕ ПИСЬМО Б Итак, Вторая мировая война прервала археологические исследования, которые могли бы пролить дальнейший свет на загадку Троянской войны. В распоряжении ученых остались лишь глиняные таблички с загадочными письменами, найденные Эвансом на Крите и Блегеном в Пилосе, неподалеку от Микен. Первых было около 4 тысяч, вторых — около 600 (перед самой войной Вэйс нашел еще несколько табличек в Микенах; позже они были найдены также в Тиринфе и Орхоменосе). Как уже сказано выше, по мнению Эванса, «коллективным автором» этих табличек был тот неведомый народ, что создал крито-минойскую культуру, а затем распространил ее по всему Эгейскому архипелагу и материковой Греции. По мнению сторонников Шлимана, этим «автором» были древние греки (гомеровские «ахейцы»): письменность глиняных табличек, утверждали они, была высшим достижением созданной ахейцами «микенской цивилизации». Расшифровка загадочных табличек могла решить этот спор, но на пути такой расшифровки стояло несколько затруднений, и первое из них состояло в том, что таблички распадались на целых три класса. Действительно, исследования Эванса выявили существование на древнем Крите трех последовательных стадий развития письменности. Примерно с 2000 по 1650 гг. до н. э., в эпоху складывания крито-минойской цивилизации, на Крите господствовало чисто «пиктографическое» (рисуночное) письмо, в котором каждый рисунок (звезда, солнце, рука, голова, стрела и т. п.) обозначал соответствующее слово или понятие. Табличек с таким письмом сохранилось очень мало, и произвести их расшифровку нечего было и думать. Следующий класс табличек датировался временами расцвета крито-минойской культуры (1750–1450 гг. до н. э.): здесь рисунки уже упростились до схематических, линейных очертаний, поэтому Эванс дал этой письменности название «линейного письма А» (почему «А», сейчас станет ясно). Этим письмом были, в частности, выполнены надписи на некоторых камнях-амулетах и бронзовых изделиях, найденных в различных местах острова. Расшифровка линейного письма А наталкивалась на ту трудность, что надписей, им выполненных, было не так уж много. Наибольшие шансы имела попытка расшифровки третьего, еще более позднего типа письменности, которая получила название «линейного письма Б». Появление табличек с этим письмом датируется примерно 1450–1400 годами до н. э., и хотя более точную границы установить не удалось (никогда нельзя исключить возможность, что более ранние тексты просто не обнаружены), но предположительная дата той великой катастрофы, что разрушила крито-минойскую цивилизацию (1420 н. до н. а, по Эвансу), как раз попадает в этот промежуток времени. Любопытно также, что почти все таблички с этим письмом были найдены только в одном месте на Крите — в Кноссосе — и что почти все они, по оценке ученых, относятся к периоду после разрушения Кноссоского дворца (общее число таких табличек, найденных в Кноссосе, составляет, как уже было сказано, около 4 тысяч). Крайне интересно, однако, что таблички, найденные Вэйсом, Блегеном и другими археологами в Микенах, Пилосе, Тиринфе и других местах материковой Греции, тоже выполнены исключительно линейным письмом Б и тоже относятся к периоду после 1450–1400 гг. до н. э. Дело выглядит так, будто начиная с середины — конца XV века до н. э., с момента своего появления, линейное письма Б является общим и для Крита, и для городов материковой Греции. По сравнению с предшествующим письмом А его знаки представляются еще более упрощенными (впрочем, в некоторых случаях, напротив, более вычурными), хотя и среди них еще встречаются очевидные пиктограммы (схематические изображения людей, животных, сосудов и т. п.). К середине XX века, когда лингвисты занялись изучением линейного письма Б, уже были прочтены памятники многих древних письменностей, начиная с древнеегипетской, ассиро-вавилонской и хеттской, и уже существовали мощные методы их расшифровки. Каждое новое продвижение в этой области происходило путем сопоставления новой, неизвестной письменности с уже расшифрованными. Как правило, дешифровка облегчалась тем, что исследователь знал либо язык, слова которого были изображены неизвестными знаками, либо значения знаков неизвестного ему языка — по их сходству со знаками уже известных. Но в случае линейного письма Б не были известны ни значения знаков, ни стоявший за этими знаками язык. О знаках было известно лишь, что их общее число — порядка восьмидесяти (эта цифра неточна, потому что распознавание различных знаков затрудняется многочисленными разновидностями и вариантами написания). Для лингвистов эта цифра, однако, содержала важную информацию. Она означала, что линейное письмо Б не алфавитное. В алфавитном письме каждый знак отвечает одной гласной или согласной, поэтому число таких знаков мало (22, 26 и т. п.). В то же время оно не могло быть и чисто рисуночно-иероглифическим вроде современного китайского, потому что для такого («идеографического») письма нужны тысячи знаков (в китайском их, например, свыше 50 тысяч). Стало быть, это было силлабическое, слоговое письмо, в котором каждый знак (кроме рисунков, а также числовых и вспомогательных значков) соответствует одному определенному слогу. Первые попытки дешифровки этого слогового письма основывались на упомянутом выше методе сопоставления его с какой-нибудь уже расшифрованной древней письменностью, имеющей сходные знаки. В данном случае сходные знаки обнаружились в так называемом «кипрском письме», найденном на древних табличках с острова Кипр. К этому времени «кипрское письмо» было уже расшифровано: было показано, что его знаки соответствуют отдельным слогам греческого языка. Однако прямая подстановка значений этих слогов под сходные знаки в критских табличках привела к полной абракадабре: отдельные слоги не собирались ни в какие осмысленные слова. Это говорило в пользу гипотезы Эванса, утверждавшего, что язык табличек не имеет ничего общего с греческим, а принадлежит тому неведомому народу, который создал крито-минойскую цивилизацию. В результате гипотеза о «крито-минойском языке табличек» обрела такой авторитет, что к ее оппонентам стали относиться как к еретикам. Даже такой знаменитый ученый, как профессор А. Вэйс, поплатился за эту ересь — руководство университета отстранило его на время от раскопок в Микенах. Не будем рисковать и поступим соглашательски — признаем, что знаки линейного письма Б изображают отдельные слоги неведомого «крито-минойского» языка. В таком случае мы оказываемся в тяжелейшем положении. Поскольку язык этот никому неведом, то неизвестны ни его слова, ни, естественно, их слоги, а стало быть, неизвестно, какие звуки подставлять под разные знаки табличек — нет никакой зацепки. Нужно найти хотя бы какие-то правдоподобные слова и их слоги, иначе нельзя даже сдвинуться с места. В поисках этих слов и слогов первые исследователи линейного письма Б стали обращать взгляды во все мыслимые и даже немыслимые стороны. Одни утверждали, что «крито-минойский» язык, скорее всего, не принадлежит к семейству индоевропейских, а потому может быть похож на современный баскский (поскольку баскский является единственным неиндоевропейским языком в нынешней Европе). Другие полагали, что он должен быть похож на древний этрусский (поскольку традиция утверждала, что этруски пришли в Италию с островов Эгейского моря, близких к Криту). Болгарский лингвист Георгиев объявил «крито-минойским» языком изобретенную им смесь греческого с элементами других индо европейских языков; его теорию энергично поддерживали в сталинском СССР. А пионер расшифровки хеттского языка чешский лингвист Б. Грозный, взявшийся на старости лет разгадывать поголовно все еще не расшифрованные языки, предложил свою трактовку крито-минойских линейных начертаний как произвольной смеси хеттских, древнеегипетских, протоиндийских и даже финикийских письменных знаков; эта гипотеза оказалась такой же бесплодной, как «расшифровка» Георгиева. Тем не менее не все попытки были одинаково безрезультатны. Среди них оказались и удачные. Так, А. Коули разгадал с помощью пиктограмм знаки, характеризующие девочек и мальчиков; Алиса Кобер опознала знаки, которые обозначают пол людей и животных, а также меняют форму слова, как при склонении по падежам (эти «падежные окончания» она нашла, обнаружив на табличках комплексы знаков (слова), в которых все знаки, кроме последнего, были одинаковы); Беннет, анализируя количество одинаковых фигурок в разных частях таблички, выявил знаки для системы счета. Но великую заслугу полной и окончательной расшифровки линейного письма Б нужно отнести, несомненно, на счет англичанина Майкла Вентриса. Этот молодой английский архитектор (в годы второй мировой войны — штурман самолета-бомбардировщика) увлекся загадкой критского письма еще в детстве, а первую свою работу по его дешифровке опубликовал уже в 1940 году в возрасте 18 лет. Поначалу, подобно многим другим, Вентрис предлагал на роль неизвестного языка табличек этрусский. Попытки в этом же направлении он продолжил и после войны и окончания университета. Однако в 1952 году после нескольких лет напряженных размышлений, интенсивных поисков и обширной переписки с другими исследователями он пришел к совершенно новой, революционной гипотезе, опробование которой очень быстро привело его к решающему прорыву. Невзирая на всё, сказанное выше, о нерушимом авторитете гипотезы Эванса, Вентрис рискнул предположить, что язык загадочных табличек не какой-то там «крито-минойский», а все-таки древнегреческий, только очень архаический его диалект — микенский, на котором говорили за 500 лет до Гомера. И действительно, оказалось, что стоит подставить под знаки табличек слоги этого диалекта, как сквозь беспросветную чащу линий и черточек начали проступать первые понятные слова. Каким же путем Вентрис пришел к своей гипотезе? Прежде всего, он опирался на достижения некоторых своих предшественников. Уже Эванс понял, что большинство текстов на его табличках — это хозяйственные списки: в них явно просматривались какие-то подсчеты и суммы. Как уже говорилось, среди линейных знаков текста отчетливо выделялись отдельные пиктограммы — изображения мужчин, женщин, лошадей, амфор, треножников, колесниц, колес и т. п., и это позволяло, понять, какие именно объекты подсчитывались. А.по значкам в итоговых суммах можно было угадать и систему счисления (это сделал Беннет). Выше я уже упоминал о других разгадках — знаках пола, возраста, падежей. Чтобы продвинуться дальше, нужно было прибегнуть к комбинаторике, и Вентрис начал с составления статистических таблиц: какова частота употребления каждого знака, какова частота его появления в начале, середине и конце слова и так далее. Это привело его к определенным важным выводам. Так, он заметил, например, что в начале слов преобладают три знака, под номерами 08, 61 и 38 (такими номерами Вентрис обозначил все различные знаки линейного письма Б в составленной им сводной таблице). Они появлялись также внутри слова, но почти никогда не встречались в конце. Вентрису было известно, что в слоговом письме слог, состоящий из отдельной гласной, редко появляется внутри слова, но часто — в его начале (это подтверждала, в частности, упомянутая выше кипрская письменность). Отсюда следовало, что подмеченные им знаки, скорее всего, означают гласные. Далее, знак 78 очень часто заканчивал слова в различных суммированиях однородных предметов (вроде: пять / рисунок кувшина / 78 шесть / рисунок кувшина / 78 и так далее), за которыми следовала общая сумма («равно тому-то»). Было разумно предположить, что знак 78 означает союз «и», заменяющий (очевидно, не известный критянам) знак «плюс»: «Пять кувшинов и шесть кувшинов и так далее равно такому-то числу кувшинов». В некоторых случаях Вентрису помогали ошибки писца: подметив, к примеру, что знак 28 очень часто исправлялся писцом на 38 (а на глиняных табличках эти замены были очень хорошо видны), он заключил, что соответствующие слоги, видимо, весьма близки (вроде сходства слов «то» и «до», которое действительно может приводить к частым опискам). Все эти догадки и предположения позволили Вентрису в конце концов составить таблицу знаков, в которой они были разделены на «предположительно гласные» и «предположительно согласные», а затем построить таблицу повторяющихся комбинаций тех и других. Некоторые из этих комбинаций оказались повторяющимися, причем одни из них наличествовали как в кноссоских, так и пилосских табличках, тогда как другие — только в тех или других. В известных к тому времени угаритских и других надписях Ближнего Востока такие повторяющиеся комбинации знаков обычно означали названия городов и групп населения. Вентрис сделал смелое предположение, что это верно и для его табличек. Тогда комбинации, присущие только критским табличкам, могли означать названия городов или местностей на Крите вблизи Кноссоского дворца. Одно такое «критское» сочетание — 70-52-12 — повторялось особенно часто, и Вентрис предположил, что эти слоги как раз и образуют слово Кноссос: «ко-но-со». Рядом с ним часто возникало сочетание 08-73-30-12, и можно было думать, что это слово (кончающееся на 12, т. е. тоже на «со») является названием какого-нибудь важного места вблизи Кноссоса; одно такое название было известно еще из Гомера: Амниос, близлежащая торговая гавань. В слоговом (древнем) написании оно должно было выглядеть скорее всего как «а-ми-ни-(о) — со», что позволяло определить написание еще трех слогов. Дальше Вентрис рассуждал так: согласно Коули, комбинации знаков для девочек и мальчиков — это 70–42 и 70–54; если 70 — это «ко», то оба слова имеют вид «ко-42» и «ко-54». В греческом языке среди прочих названий для мальчиков и девочек есть «корос» и «коре»; в ионийском диалекте Гомера «корос» звучит как «коурос», в дорийском диалекте — как «коруос»; быть может, исходным (древнемикенским) были «корвос» (а для девочек — «кор-ва»)? Это добавляет еще два слога в таблицу. Работа Вентриса, таким образом, отчасти напоминала решение кроссворда, где разгадка первых слов все более и более облегчает разгадку следующих, но лишь в том случае, если каждое очередное слово читать именно по-гречески («по-древнемикенски»). Тем самым вероятность того, что язык табличек — действительно древнегреческий, а не какой-то крито-минойский, постепенно усиливалась. К 1952 году Вентрис (работая теперь совместно с кембриджским специалистом по греческим диалектам Джоном Чадвиком) расшифровал слоговые значения почти всех знаков «линейного письма Б» и составил их сводную таблицу. Однако многие специалисты (в особенности ярые сторонники «крито-минойского» происхождения табличек) не верили в эту «греческую» расшифровку и требовали в качестве решающего эксперимента, чтобы Вентрис прочел с ее помощью незнакомый текст (т. е. текст, не использованный при составлении самой таблицы). И Вентрис блестяще справился с этой задачей: получив от Карла Блегена еще не опубликованную табличку из Пилоса и применив для ее расшифровки найденные им слоговые (греческие) значения знаков, он получил связный й осмысленный текст! После этого чтение табличек пошло полным ходом, и уже в 1956 году Вентрис и Чадвик опубликовали толстый том «Документов микенского греческого языка», где было собрано большое число расшифрованных ими к тому времени текстов. А через две недели после выхода этого главного труда своей жизни 34-летний Майкл Вентрис погиб в автомобильной катастрофе. >ГЛАВА 9 ХЕТТСКИЕ СОСЕДИ История расшифровки линейного письма Б бесконечно интересна сама по себе, но скажем честно: мы не стали бы ею так долго заниматься, если бы одна деталь этой истории не имела прямого отношения к интересующей нас загадке Троянской войны. Вот она, эта важная и далеко ведущая деталь. В строках глиняных табличек из Пилоса то и дело встречаются перечни рабов и рабынь, работавших в царском хозяйстве (кстати, термин для обозначения этих людей, «лавийяйи», произведен от того же слова «лавия», «добыча», которое употребляет Гомер в 20-й песне «Илиады», рассказывая о пленницах, захваченных Ахиллом: «…множество жен полонил и, лишив их жизни свободной, в рабство увлек»). Если вдуматься, эти упоминания о рабах и рыбынях отнюдь не удивительны — рабский труд составлял в те времена один из главных хозяйственных устоев всех империй и царств. Любопытней другое. Зачастую рядом со значками, обозначающими рабов, обнаруживаются слова, которые можно расшифровать как указание, где именно эти рабы захвачены. Например, один такой (особенно подробный) список из Пилоса насчитывает около 600 женщин и 700 детей рабского сословия, причем о части из них сказано: «Из Милета» («милатийяйи»), что свидетельствует о походах микенцев к этому городу, находившемуся на западном побережье Малой Азии: В другом месте читаем о рабыне родом из местности «Асийяйи», что сразу напоминает (специалисту, конечно) слово «Ассува» — тогдашнее название обширного региона на том же побережье, позднее трансформировавшееся в греческое название для всей Малой Азии — «Асия». А одна из таких «пленниц» в пилосском списке и вообще характеризуется как «То-ро-ва» — может быть, «из Трои»? Впрочем, подобные фонетические сходства следует толковать крайне осторожно. Не зная, по каким законам меняются со временем гласные и согласные в данном языке, а также как они меняются при переходе от языка к языку (а лингвисты уже обнаружили множество таких законов), очень легко попасть впросак и принять желаемое за действительное. Не будем поэтому торопиться и выделим лишь то, что является несомненным. Несомненным во всем ранее сказанном представляется тот факт, что перечисленные выше упоминания «микенских» табличек о рабах и рабынях, будучи сведены воедино, убеждают нас, что уже в XV–XIII веках до н. э. (пилосские таблички относятся именно к этому времени) микенские и другие цари Ахейи совершали довольно частые походы за «живым товаром» в Малую Азию (в район Милета и «Ассувы»). Этот вывод настолько важен для наших «поисков Трои», что немедленно возникает волнующий вопрос: подтверждается ли он какими-либо другими фактами? Оказывается, да. Оказывается, в ходе новейших археологических раскопок на западном побережье Малой Азии обнаружено уже более 25 мест, где бытовала в больших количествах микенская посуда XV–XIII веков до н. э. Места эти концентрируются в центральной и южной части побережья, вблизи Эфеса и упомянутого выше Милета{15}. Более того, установлено, что микенцы, видимо, составляли заметную часть постоянных жителей тогдашнего Милета (а также, возможно, и некоторых других малоазийских мест). Действительно, этот город, основанный критянами и долго, сохранявший связи с Критом, в какой-то момент, примерно в 1450–1440 гг. до н. э., что совпадает со временем захвата Крита микенцами, резко меняет свой облик: он перестраивается, в нем воздвигается крепость, строятся храм Афины и дома с типично греческими большими залами — «мегаронами» — и т. п. Аналогичные приметы греческого пребывания появляются в то же время в соседних малоазийских городах Эфесе, Книде и других, а также в других бывших критских владениях — на островах Родосе, Хиосе и Самосе, лежащих у побережья Малой Азии. Иными словами, все критское стало теперь микенским. Как говорится, «убил — и еще наследовал». Это делает понятным упоминания о рабах в пилосских табличках. Разумеется, владея столь многими опорными пунктами у берегов Малой Азии и даже на ее побережье, ахейцы вполне могли совершать с этого плацдарма не только спорадические, но и вполне регулярные вылазки за рабами и рабынями в глубь малоазийского полуострова. Все эти факты интересны и сами по себе, ибо рисуют картину микенской цивилизации XIV–XIII веков до н. э. как весьма внушительного по размерам и военной силе царства, территория которого включала не только материковую Грецию, но также многочисленные острова Эгейского моря и даже прилегающее к ним побережье Малой Азии. Мы уже видели такую картину — в гомеровской «Илиаде», разумеется, где же еще! — но на сей раз уже не нужно гадать, достоверна ли она, на сей раз исторический фон гомеровского рассказа подтвержден как точными данными археологии, так и показаниями критско-микенской письменности. Это крайне интересно. Но у перечисленных выше фактов есть и другой, не менее важный аспект. Наличие форпостов Микенского царства на берегах Малой Азии и его неустанные попытки проникновения в поисках «живого товара» все дальше и дальше в глубину полуострова неизбежно должны были приводить к столкновениям ахейцев с другим могучим царством, которое в те же времена доминировало в этих же местах, вплоть до Милета и Трои, — с государством хеттов, с Хеттской империей. А если так, то можно думать, что конфликты двух столь серьезных противников могли найти какое-то отражение в том или ином хеттском клинописном тексте — ведь хеттские цари, как мы сейчас убедимся, вели обширную и детальную документацию всех своих военных, дипломатических и торговых действий. Продолжая эту логическую нить, мы приходим к очередному важному выводу: не исключено, что искомые нами отголоски Троянской войны (которая вполне могла быть одним из таких малоазийских «территориальных конфликтов») тоже могут обнаружиться в каких-нибудь хеттских текстах XV–XIII веков до н. э. Этот вывод заставляет пристальней присмотреться к хеттам, к их истории и в особенности, как мы уже сказали, к письменным памятникам этой истории. Хеттское царство часто называют «забытым». Действительно, долгое время господствовало представление, будто главными действующими лицами на древней ближневосточной сцене были египтяне да ассирийцы. Хетты воспринимались в духе многочисленных упоминаний в Библии (в той её части, которая у евреев называется «ТАНАХ», а у христиан — «Ветхий завет» для христиан), где о них говорится в основном как об одном из второстепенных племен («Хиттим»), встреченных евреями, когда они вернулись из египетского рабства в Палестину: например, красавица Батшева (в современном произношении Вирсавия), так возбудившая любострастие царя Давида, была женой «Урии Хеттеянина», т. е. хетта. Лишь в двух местах ТАНАХа мельком говорится о «хеттейских царях». В действительности, однако, хетты были не столько «зат бытыми», сколько, скорее, «неопознанными» участниками ближневосточной истории. Когда археологи обнаружили в Карнаке и других местах Египта стеллы с отчетом о великой битве при Кадеше (1275 г. до н. э.), эта историческая роль хеттов сразу стала очевидной: выяснилось, что фараону Рамзесу II противостоял в этой битве не кто иной, как «Великий Царь Хатти», армия которого включала воинов «шестнадцати народов» и насчитывала 2500 боевых колесниц! «Узнавание» хеттов получило огромный толчок, когда в 1834 году на поросшем дикими колючками холме вблизи заброшенной турецкой деревеньки Богазкёй в, Анатолии были открыты развалины бывшей хеттской столицы Хаттусы. Остатки ее могучих стен позволяли думать, что когда-то они тянулись на добрых три-четыре километра в длину и, следовательно, заключенный внутри них город не уступал по размерам Афинам в пору их высшего расцвета; там и сям на холме еще сохранились следы высившихся здесь некогда огромных храмов, посвященных каким-то неведомым богам, остатки львиных фигур, украшавших громадные ворота, и обломки странных скульптур, покрытых иероглифами на неизвестном языке. Вскоре аналогичная крепость, хотя и меньших размеров, была раскопана в Каркемише, а иероглифы, аналогичные богазкёйским, обнаружились во многих местах Сирии и Северного Ирака, а также Центральной и Западной Турции. Стало очевидно, что хеттское государство занимало огромную по тем временам территорию и его влияние ощущалось от западного побережья Малой Азии до Северной Сирии и верховий Тигра и Евфрата; иными словами, по размерам и силе оно не уступало тогдашним Египту и Ассирии. Эти представления были подтверждены открытыми в 1887 году глиняными табличками из Тель-Амарны (Сирия), содержавшими переписку фараонов XV–XIV веков до н. э. с мелкими сирийскими и палестинскими царьками, в которой удостоверялась реальность хеттской гегемонии в этих местах задолго до битвы при Кадеше. Но главный свет на историю хеттов пролили найденные в 1906–1908 годах Винклером таблички из Богазкёя, общим числом около 10 тысяч, с текстами на восьми языках (хеттский, аккадский, шумерский и др.), что, кстати, красноречиво свидетельствовало о многонациональном характере хеттского царства. Хеттские тексты этих табличек были расшифрованы во время первой мировой войны и вскоре после нее, и пионером здесь был уже упомянутый нами чешский лингвист Бедржих Грозный. Благодаря этим текстам история хеттов известна сегодня во многих подробностях. К сожалению, даже самое краткое знакомство с ней не может обойтись без упоминаний царских имен, ибо только перечисление последовательных царствований позволяет хоть как-то сориентироваться в хеттской хронологии. Говорю «к сожалению», потому что имена этих царей, как это сейчас же станет очевидным, зачастую труднопроизносимы. Хетты говорили на языке индо-европейской группы, близком к языкам других жителей тогдашней Анатолии — лувийцев, ликийцев и т. п. (эти языки тоже теперь расшифрованы), и пришли в свои земли откуда-то с северных берегов Черного моря, по всей видимости, за две — две с половиной тысячи лет до н. э., но надежное знание генеалогии их царей начинается лишь с 1650 года до н. э. (отрывочные сведения о более ранних временах, содержащиеся в некоторых ассирийских источниках, имеют туманный характер). В 1650 году до н. э. на трон объединенного хеттского царства взошел Хаттусилис Первый, прославившийся завоеванием царства Алеппо в Сирии; ему наследовал его внук Мурсилис, завоевавший долину Евфрата вплоть до Вавилона, а затем, после продолжительных династических распрей, — потомки Мурсилиса: Телипинус, его сын Аллувамнас и ряд последующих, не очень точно известных правителей. Этот период называется «Старым царством»; он продолжался до начала XV века до н. э., когда на трон взошел Тудхалйяс (по-видимому, второй по счету с таким именем), открывший славную эпоху «Нового царства». В эту эпоху хеттская держава стала подлинной империей, т. е. конгломератом многих народностей — в ее состав входили около 20 крупных городов и 40–50 «земель» (небольших царств и отдельных полисов вроде Алеппо, Дамаска, Хацора, Тира, Сидона и т. п.). Около 1400 года до н. э. правителем этой империи стал Тудхалйяс Третий; около 1380 года его сменил Суппилулиумас (я предупреждал!); примерно в 1340 году до н. э. на трон взошел Мурсилис Второй, а около 1315-го — Муватталис, о котором нам еще придется не раз говорить; за ним правили Мурсилис Третий (1296–1289) и, наконец, Хаттусилис Третий (1289–1265); он, видимо, и был тем хеттским царем, который сражался при Кадеше. Особенно интересными с нашей, «троянской», точки зрения являются последние 70 лет существования хеттской империи — времена царей Тудхалияса Четвертого (1265–1235), Арнувандаса Второго (1235–1215) и Суппилулиумаса Второго (1215–1190 гг. до н. э.); они интересны для нас потому, что включают те годы, к которым античная традиция относит Троянскую войну, а археологи — пожар Трои-7а. Они были также последними в истории хеттов, потому что вскоре после смерти Суппилулиумаса Второго или даже при нем, примерно в 1190 году до н. э., в страну вторглись неведомые завоеватели, которые захватили и сожгли столицу Хаттуса (Богазкёй) и положили конец великой Хеттской империи. Перед тем, как задернуть занавес над ее историей, обратим еще внимание, что время гибели объединенного хеттского государства практически совпадает со временем столь же внезапной и столь же загадочной гибели объединенной микенской цивилизации (примерно 1200 год до н. э.) — и тоже под натиском неведомых завоевателей. Если добавить, что примерно тогда же подвергся вторжению и Египет, то череда многозначительных совпадений станет слишком широкой, чтобы быть случайной, и это порождает некоторые предположения, разговор о которых мы, однако, отложим на конец нашего очерка. История хеттов могла бы стать предметом увлекательного рассказа, и даже не одного, но сейчас нас интересует в ней лишь ее узкий «ахейско-троянский» аспект. Этот наш интерес не оригинален: задолго до нас, с самого начала расшифровки хеттских документов, многие лингвисты и историки стали искать в них следы хеттско-ахейских контактов (а многие — и отголоски Троянской войны) и кое-что даже успели найти. В частности, на некоторых глиняных табличках из Богазкёя они обнаружили такие тексты, которые на первый взгляд недвусмысленно указывают на ахейцев и свидетельствуют о давних контактах хеттов с ахейским государством. Действительно, в некоторых хеттских документах (их насчитывается свыше 20) фигурирует некое (заморское?) царство Ахиява (хеттское Ahhijaawa), название которого так похоже на слово «Ахайвой» (так Гомер именует своих героев-ахейцев), что кажется попросту немыслимым истолковать его как-то иначе. В этих текстах встречаются и другие, столь же впечатляющие совпадения, например, Lazpas — какая-то страна, связанная с Ахиявой: это название почти до очевидности похоже на Лесбос — остров в Эгейском море у берегов Анатолии вблизи Трои; или Milawata — город на территории Ликии, находившийся в те времена под властью царей Ахиявы, — название, весьма похожее на Милет, древнегреч. «Миллатос», который, как мы уже говорили, действительно представлял собой в ту пору главный ахейский форпост в Малой Азии. Эти совпадения простираются и на имена собственные: так, исследователи обнаружили в текстах, связанных с Ахиявой, имя Tawakalawas, что с учетом различия произношений очень похоже на греческое «Этеоклес», которое в пилосских табличках зафиксировано как Etewoklewelos; а также совсем уж поразительное Attarisijas, которое можно прочесть как Atressias, что очень близко к имени легендарного греческого героя Атрея, родоначальника всех микенских царей-Атридов вплоть до Агамемнона. В 1924 году Эмиль Форрер, швейцарский лингвист и историк, один из главных дешифровщиков хеттских глиняных табличек, опубликовал статью «Догомеровские греки в клинописных — текстах из Богазкёя», в которой на основании перечисленных выше фактов и множества других, более тонких, но не менее впечатляющих сличений выдвинул гипотезу, что в соответствующих хеттских документах, откуда они были извлечены, речь действительно идет об «ахейской» (микенской) цивилизации времен Троянской войны и ранее, что эта цивилизация (объединение городов-царств во главе с Микенами) была издавна и хорошо известна хеттам и что контакты Хеттской империи с Ахиявой, временами дружеские, временами кровавые, продолжались на протяжении нескольких веков вплоть до эпохи Троянской войны и последовавшего вскоре после нее загадочного краха обеих держав. На наш несведущий взгляд, после всех перечисленных выше совпадений эти утверждения почти самоочевидны, поэтому покажется, наверное, неожиданным, что толкование Э. Форрера вызвало поначалу крайне резкую критику крупнейших хеттологов того времени и, прежде всего, Фердинанда Зоммера — автора фундаментального исследования, в котором были собраны и прокомментированы все хеттские источники с упоминаниями Ахиявы. С этого начался затяжной «спор об Ахияве», к которому и нам стоит присмотреться, так как он напрямую связан с интересующей нас проблемой исторической достоверности Троянской войны. Надо же знать, у кого какие аргументы… Критика гипотезы Форрера шла главным образом со стороны лингвистической. Оппоненты утверждали, что его фонетические сближения — Ахиява — Ахейя, Аттарисиас — Атреус — весьма произвольны и противоречат законам греческого и хеттского языков (например, хеттское «ийя» в слове Ахийява никак нельзя свести к греческому «аи» в слове Ахайвой). А кроме того, двадцать с лишним упоминаний Ахиявы в хеттских текстах — число, конечно, внушительное, но лишь до-тех пор, пока мы концентрируем внимание на одной Ахияве; оно сразу становится ничтожным, когда вспомнишь о многих тысячах (!) упоминаний Египта или Ассирии. Стало быть, предположение о «мощи» Ахиявы не так уж убедительно — это царство вполне могло быть и не таким уж большим, чем-то вроде других царств на западном берегу тогдашней Малой Азии или в Эгейском море — и может быть, именно там оно и располагалось. Исходя из подобных рассуждений, Ф. Зоммер помещал Ахияву вблизи Милета; Б. Грозный — на острове Родос; П. Кречмер — на крайнем юге Малой Азии (нынешняя Анталйя), Дж. Маккуин — возле Трои, а Дж. Мелларт — вообще во Фракии, на противоположном от Трои берегу Мраморного моря, на месте нынешней Румынии и Болгарии. Как насмешливо заметил один из корифеев хеттологии Ф. Шахермайр, «противники Форрера готовы были локализовать Ахияву хоть на Луне, лишь бы не на греческом континенте». Однако по мере того как археология уточняла истинные масштабы ахейского присутствия в Эгейском море и в Малой Азии, гипотеза Форрера начала привлекать все большее сочувствие ученых, и сегодня совпадение «Ахиявы» с какой-то частью ахейского мира считается почти доказанным. Спор идет скорее о том, включали хетты в это понятие всю микенскую цивилизацию или только ее форпосты в Малой Азии, Но в пользу первого предположения говорит тот факт, что в некоторых хеттских документах перед словами «царь Ахиявы» стоит значок, означавший у хеттов что-то вроде «Его Величество» титул, которого удостаивались в хеттской официальной переписке только цари Египта и Ассирии. О «величии» Ахиявы косвенно говорит и другой факт: в 1981 г. в греческих Фивах были найдены 36 ляпис-лазуревых печатей, происхождение части которых надежно прослежено до храма Мардука в Вавилоне, некогда ограбленного ассирийцами. Печати найдены в том слое, который соответствует времени хеттских попыток блокировать ассирийскую торговлю. Не были ли они подарком ассирийцев, пытавшихся привлечь Ахейю на свою сторону против хеттов? Эти и другие аналогичные свидетельства значимости Ахиявы постепенно побудили большинство ученых признать, что великий царь Ахиявы, равный по рангу царям других великих держав того времени, не мог быть правителем какой-то страны в Анатолии, где не было места ни для какой великой державы, кроме Хатти, и потому мог быть лишь царем материковой Греции. Итак, по нынешнему мнению большинства ученых, хеттская «Ахиява» — это действительно Микенское царство XV–XIII веков до н. э., а коль скоро это так, нам, конечно же, следует обратиться к хеттским текстам об отношениях с Ахиявой — ведь где-то там могут скрываться и упоминания о Трое, а может быть, и о Троянской войне. Сейчас мы этим займемся. Мы уже близки к финишу. >ГЛАВА 10 ТРОЯ В ХЕТТСКИХ ДОКУМЕНТАХ Хеттские клинописные тексты, сохранившиеся на десяти с лишним тысячах глиняных табличек из Хаттусы (Богазкёя), — это подлинная сокровищница исторических документов, на страницах которой запечатлены живые, яркие образы царей и полководцев, впечатляющие описания битв и походов, сложные и тонкие дипломатические интриги международной политики. В сравнении с этим тексты крито-микенского линейного письма Б выглядят как сухие безжизненные перечни, сквозь которые едва сквозят смутные силуэты мертвых предметов и безвестных людей. Но хеттские тексты не исключение на тогдашнем Востоке. Такую же широкую, яркую, поразительно выпуклую картину сложной политической и культурной жизни далекого прошлого запечатлели и памятники двух других великих держав той эпохи — Древнего Египта и Древней Ассирии. В этой связи английский историк Майкл Вуд меланхолически замечает: «Увы, микенская Греция находилась на периферии этого «клуба избранных»…» И он прав: в сравнении с хеттской, египетской и ассирийской цивилизациями XV–XIII веков до н. э. с их бесконечными территориями, огромными столицами и громадными военными полчищами материковая Треция тех времен — даже в любовном описании Гомера — кажется «убогой» и «варварской»; этакий архаичный вариант «рыцарской Европы» с ее безграмотными королями и утопавшими в грязи городами или же более знакомой нам Киевской Руси времен какого-нибудь Святослава или Владимира. Подобно Агамемнону и Ахиллу у Гомера, и те ведь ходили походами на Царьград с окраин своей ойкумены, и у тех всех радостей было — пировать в шатрах, враждовать друг с другом из-за пленниц или золота да схватываться с врагами в богатырских поединках. Боги, однако, смеются: где сегодня те византийцы — и где славяне? Где те хетты — и где греки? Именно таким «варварам» история, как правило, дарует великое будущее: пройдет лишь несколько столетий, и Хаттуса будет лежать в развалинах, а Афины станут центром ойкумены: там Платон будет учить Аристотеля, на Самосе родится Пифагор, а на Косе — Гиппократ, и греческие корабли разгромят самую крупную сухопутную державу азиатского континента — империю персов, которая к тому времени сменит хеттов, а потом Александр Македонский высадится в Малой Азии, чтобы завоевать и преобразить Восток. В описываемые нами годы до этого, однако, еще далеко, и, глядя на варварский городок Афины, никто не рискнет предсказать им великое будущее. Хетты еще правят в Малой Азии: их империя занимает всю центральную часть этого огромного полуострова, оползая по карте вниз, на юг, в Сирию и Двуречье, словно под грузом собственной тяжести. На западе она контролирует множество мелких полунезависимых царств на побережье Эгейского моря. Среди них и Милет — видимо, он находится в двойном подчинении (термин Шахермайра): подчиняется Микенам, но официально лоялен по отношению к Хаттусе. Эти места нас и интересуют — здесь, в их северо-западном углу, лежит Троя. Политическая география этого побережья сложна и запутанна, и хеттские тексты мало помогают в ее прояснении. Огромная хеттская держава мало интересуется этими местами: она требует лояльности от всех местных царствишек, ее цель — поддерживать нерушимый порядок в своих пределах, и лишь в те редкие периоды, когда чей-то серьезный мятеж или вторжение его нарушат, она вспоминает об этих местах и шлет туда армию, чтобы восстановить положенный миропорядок. Немудрено, что хеттские документы плохо и путано фиксируют местную географию — они и Ахияву-то, как мы видели, упоминают нечасто, в основном именно в связи с ее вторжениями или интригами на побережье. Все же можно восстановить, что главным царством на побережье хетты считали Арцаву (Аггауф), о местонахождении которой хеттологи по сей день ведут яростные споры. Одни помещают ее в юго-восточной части полуострова, и на карте в старой «Британской энциклопедии» вы увидите именно этот вариант, другие — их подавляющее большинство — отстаивают теорию «западной» Арцавы, в центре западного побережья Малой Азии, со столицей в Апасе, греческом Эфесе. Здесь, на западе, действительно раскопаны крупные города и роскошные дворцы, каких нет на юге; но главное — западное расположение Арцавы много лучше согласуется с имеющимися сведениями о соседних с ней царствах — Мира, Хапалла и Страна реки Сеха. На карте «Британники» они показаны севернее «южной» Арцавы, то есть уже в глубине малоазийского полуострова, но хеттологи показали, что название «Мира» точно сопоставимо с греческим «Мирос» — названием реки северо-восточнее Эфеса, а слово «Хапалла» — Со словом «Капалла», которым греки обозначали область побережья северо-западней Эфеса. Если принять «западное» размещение этих двух соседних с Арцавой царств, то и третий ее сосед, Страна реки Сеха, тоже найдет правильное место — еще дальше на север, в той части побережья, что против острова Лесбоса. То, что это размещение правильное, подтверждается упоминанием хеттских источников, что эта страна граничит со страной Lazpas, что как раз и означает, как мы уже говорили выше, греческий Лесбос. Все перечисленные царства вместе с Арцавой иногда именуются в хеттских документах одним словом «Ассува», которое замечательно близко к тому слову «Асуйя» (позднее — «Асия»), которым в крито-микенских табличках обозначается одно из главных мест, где ахейцы добывали себе рабов в набегах на малоазийское побережье. Видимо, такое единое обозначение следует понимать в том смысле, что все эти западные прибрежные царства время от времени объединялись в борьбе против власти хеттов, и потому хетты знали их как единого врага; это толкование действительно подтверждается списком городов-государств «Ассувы», перечисленных в «Анналах» царя Тудхалияса Четвертого. Может показаться, что мы копаемся в ненужных подробностях, но это не так: двигаясь от одного прибрежного царства к другому, мы имеем важную тайную цель — найти местоположение самого загадочного из них, которое в перечне из «Анналов» Тудхалияса именуется «Вилуса» (по-хеттски — Wilusija). Это название идет в перечне сразу же после другого, — еще более примечательного — «Truisa», которое тотчас и главным образом приковало к себе внимание исследователей (прежде всего Э. Форрера), попытавшихся отождествить его с гомеровским «Troih», т. е. Троей! Эта попытка встретила возражения других ученых, ибо хеттские знаки этого слова допускали несколько возможностей чтения (Форрер выбрал из них самую удобную для своих целей), и потому хеттологи, отложив на будущее загадку «Труисы», переключились на поиски Вилусы, и вот тогда-то П. Кречмер первым привлек для сравнения с ее названием греческое слово «Илион», или «Илиос», в котором, вглядываясь в особенности гомеровского языка, он выявил некогда существовавшее, но выпавшее начальное «В» — «Вилиос». Гипотеза Кречмера вскоре получила поддержку. При анализе хеттских текстов конца XIV века до н. э. времен царя Муватталиса выявилось, что тогдашний правитель Вилусы, некий Alaxandus (обратите внимание на это имя!) обратился к хеттам за помощью против соседей, отдав себя под власть Муватталиса. Между тем из много более поздних византийских хроник известно, что был в Византии город, основанный, по легенде, «царем Мотилом», который принимал там «Париса и Елену». Напомнив, что второе имя Париса было Александр, Кречмер предположил, что «Мотил» — это искаженное временем и легендой «Муватталис». Более того, в другом хеттском документе упоминается царь — предшественник Алаксандуса, по имени Кукунис, которое Кречмер отождествил с именем царя Кикна, упоминаемого в «Илиаде»: согласно Гомеру, он правил в городе Колоны, южнее Трои, и первым пришел на помощь осажденной Трое. Все эти совпадения побуждают сопоставить Вилусу с гомеровским Илиосом, или Троей. И действительно, если следовать перечню прибрежных царств в «Анналах» Тудхаилияса, то местонахождение загадочной Вилусы естественным образом совмещается с положением Трои. Может быть, Труисой в списке Тудхалияса называлась местность, окружавшая город, т. е. тот район, который мы сегодня называем Троадой? Ведь и у Гомера Троя и Илион-Илиос часто упоминаются так, будто Троя понимается и как город, и как страна (Троада), а Илион — только как город (мы говорили об этом в 3-й главе). Как бы то ни было, но в хеттских текстах перед словом Вилуса иногда стоят сразу два значка — страны и города, так что все вместе читается как «страна города Вилуса», а иногда только знак страны — «царство Вилуса». Это царство упоминается весьма часто, что создает впечатление давнего знакомства хеттов с этим районом. Самый первый «вилусский» документ хеттов — договор Алаксандуса и Муватталиса — рассказывает, что некогда хеттам подчинялась и Вилуса, и Арцава; позднее Арцава отпала, но Вилуса оставалась с хеттами в мире и дружбе, и отец Алаксандуса царь Кукунис даже оказал отцу Муватталиса — царю Мурсилису — помощь против Арцавы. Далее в этом документе следует: «У Кукуниса… было… вот он…» Исходя из того, что точно такое же сочетание слов было найдено в другом хеттском документе — об усыновлении одним хеттским царем некоего принца из страны Мира, историк И. Фридрих выдвинул смелую гипотезу, что и тут нужно читать: «У Кукуниса (не) было (детей), вот (он тебя, Алаксандус, и усыновил)». Гипотеза может показаться даже слишком смелой, учитывая скудость наличного текста, но ее делает привлекательной упоминание великого греческого драматурга Еврипида в его (известной, к сожалению, лишь в пересказе) трагедии «Александр» о том, что троянский Парис-Александр имел аналогичную биографию: он был усыновлен царем Приамом и провозглашен законным наследником, что вызвало недовольство и ропот троянцев. В договоре Муватталиса с Алаксандусом тоже говорится, что «человечество ропщет» против Алаксандуса. Параллели слишком волнующи, чтобы оставить их без внимания, — ведь, приняв гипотезу Фридриха, мы, по существу, обнаруживаем в хеттских текстах прямое указание на одного из главных героев «Илиады»! Судя по дальнейшему тексту договора, Муватталис поддержал Алаксандуса против «ропщущих» подданных, за что Алаксандус признал себя хеттским вассалом. Хетты, таким образом, в обмен за свою помощь получили еще одного вассала на западном берегу (в добавление к уже покоренным ими Хапалле, Мире и Стране реки Сеха). Как предположила Хайнхольд-Крамер, сколачивание этого блока вассальных царств было, видимо, необходимо хеттам для прикрытия побережья от возможного вторжения опасного врага. Мы сейчас увидим, что, скорее всего, этим врагом, была Ахиява, т. е. ахейцы. Пока же заметим, что с этим присоединением Вилусы к прохеттской коалиции прибрежных царств весьма подозрительно совпадает первое упоминание хеттами троянского племени: в стеле Рамзеса Второго о битве с хеттами при Кадеше (1275 г. до н. э.) говорится о хеттских союзниках «A-ru-sa-wi», что, видимо, означает воинов из Арцавы, и, «Dar-d-an-ja», что ученые расшифровывают как «дарданцы» — племя, обитавшее, согласно «Илиаде», на юге Троады-Илиоса (Вилусы); мы уже говорили много раньше, что это название то ли восходит к проливу Дарданеллы, то ли само дало ему такое название. Но откуда бы ни взялось слово «дарданцы», ясно, что их упоминание в Кадешской стеле — лишнее доказательство того, что Вилусу правильно отождествлять с Троадой: стоило ей стать вассалом Муватталиса (ум. в 1296 г. до н. э.), и вскоре (1275 г. до н. э.) вилусцы-дарданцы уже появляются в хеттских войсках при Кадеше. Есть и еще одно подтверждение того, что Вилуса — скорее всего, Троя: в договоре вилусского Алаксандуса с Муватталисом упоминаются вилусские боги; один из них — «Аппалинаус», что, несомненно, означает Аполлон. Напомним, что и у Гомера Аполлон не греческий, а именно троянский бог (о чем говорит, например, его история с Кассандрой, которой он хотел овладеть, а за отказ наплевал в уста). Следующим в списке вилусских богов назван «бог подземных вод», что не менее поразительно совпадает с тем фактом, что вблизи Трои воды реки Скамандр с шумом и грохотом выходят из подземного туннеля в широкое ущелье под горой Ида; это ущелье издавна было местом религиозных праздников в Троаде. Гомер, кстати, тоже называет Скамандр «божественным» и «богорожденным». После всего сказанного представляется уже почти несомненным, что в хеттских текстах, рассказывающих о царстве Вилуса, речь действительно идет о Трое-Илионе, знакомой Гомеру, и о ее древних царях времен Троянской войны: не забудем, что правление Муватталиса и его преемников, по какой хронологии ни считать, совпадает со временем существования Трои-6 и 7а, раскопанных Шлиманом, Дорпфельдом и Блегеном. Сам этот факт не так уж поразителен, если вдуматься, т— ведь сомнений в реальном существовании Трои на самом деле ни у кого нет, как нет сомнений и в том, что Троянское царство (а Троя-6, судя по ее размерам, должна была быть столицей довольно значительного царства — это самый большой древний город, раскопанный на северо-западе Малой Азии) уже хотя бы в силу своего геополитического расположения должно было входить в контакты с современной ему и соседствующей с ним могущественной империей хеттов. Приятно, конечно, что все эти представления, имеющие первоисточником гомеровский рассказ, подтверждены теперь перекрестными историческими, археологическими и лингвистическими доказательствами. Но это еще не доказывает исторической реальности описанной Гомером Троянской войны… Пока что мы не обнаружили в хеттских документах чего-либо, напоминающего об этом событии. Задумаемся поэтому: где следует искать такие упоминания (если они вообще существуют)? Ответ представляется однозначным. Троянская война велась ахейцами (для хеттов — Ахиявой) против Трои (для хеттов — Вилусы, их вассала). Следовательно, теперь, на завершающем этапе нашего исторического расследования, надлежит обратиться к тем хеттским текстам, в которых одновременно упоминаются и Вилуса, и Ахиява. Обратимся же к ним — и скорее — мы почти у цели! >ГЛАВА 11 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ХЕТТОВ Большинство хеттских документов повествует о внутренних делах империи; это вполне обычные, знакомые имперские дела: смены правителей, борьба за престол, смуты и гражданские войны, нерадивость местных чиновников и волнения в окраинных областях. Эти глиняные таблички не сохранили ни текстов своего Гомера, ни даже текстов своего Бродского, чтобы позволить потомкам вдохнуть горячую и горькую пыль тех веков, но и в них ощущается бескрайний размах имперского пространства, стянутого сетью нескончаемых, в пустоту уходящих дорог, всепроницаемость и вездесущесть централизованного надзора и тяжесть столичной длани на загривке провинций, бесконечная глушь отдаленных полисов и размеренная медлительность их предустановленного быта. Другой массив текстов посвящен делам внешним — это дипломатическая переписка с повелителями других империй, сообщения о битвах и походах, хвастливые отчеты о победах и сетования на нежданные поражения, договоры о торговле или их расторжение, смутные отголоски сложных политических интриг. Заморское царство Ахиява (которое большинство хеттологов, как мы уже говорили, отождествляют сегодня с материковой, «микенской» Грецией) упоминается здесь нечасто, около 20 раз, то есть несравненно реже, чем Ассирия и Египет, но ведь и то сказать — Ахиява далеко, и ее цари редко когда угрожают империи столь серьезно, как ее ближайшие и могущественные соседи на юге и востоке. Все же несколько-раз доходит, видимо, и до этого, и к таким конфликтам Ахиявы и хеттов нам нужно присмотреться особенно детально, потому что, как уже говорилось в конце предыдущей главы, отголоски Троянской войны, т. е. похода ахейцев на Трою-Вилусу, могут оказаться лишь в тех хеттских документах, которые повествуют о вторжениях царей Ахиявы в хеттские владения. Первый (из доныне найденных) хеттский текст, в котором упоминается такое вторжение, — это «рассказ о преступлениях Маддуваттаса», как его называют хеттологи, отнесшие этот рассказ после долгих споров примерно к 1440–1380 годам до н. э. Микенские греки в то время, как известно, уже овладели Критом и островами Эгейского моря, и вот уже пара десятилетий, как утвердились в Милете. Немудрено, что, ступив на побережье Малой Азии, они тут же начинают вмешиваться в дела прибрежных малоазийских земель, подвластных империи хеттов, и вот в тексте послания к некому Маддуваттасу (видимо, царьку одной из таких земель) в ходе перечисления его прегрешений впервые появляется упоминание об Ахияве: «…тебя (Маддуваттаса), из страны твоей изгнал Аттариссий, человек из страны Аххия… он и далее вслед за тобой… он постоянно преследовал тебя, он стремился к твоей, Маддуваттас, погибели. Но бежал ты, Маддуваттас, к от(цу Солнца Моего). И отец Солнца Моего отклонил тебя от погибели и Аттариссия назад отстранил…» В чем же состояли «преступления» Маддуваттаса, по которым названо это пространное и примечательное послание? Оказывается, едва оправившись благодаря помощи хеттов от поражения, он тотчас напал на своих соседей, других хеттских вассалов, и тогда отступивший было Аттариссий снова появился на сцене с огромным по тем временам войском, насчитывавшим 100 боевых колесниц. Пришлось снова отправлять против него хеттскую армию. Однако неугомонный Маддуваттас и после этого продолжал свои происки: он захватил ряд мелких прибрежных царств по соседству, сколотил из них серьезный анти хеттский блок и, что всего хуже, вступил в тайный сговор с Аттариссием и помог тому напасть на «страну Аласию» (ученые давно уже установили, что хеттская Аласия — это остров Кипр), где Аттариссий захватил много пленных (читай — будущих рабов). В этом месте так и просится упоминание, что по археологическим данным массовое проникновение микенской посуды на Кипр начинается именно в это время — около 1400 года до н. э. Мало того, массовое появление этой посуды на западном побережье Малой Азии тоже начинается в те годы, к которым, судя по хеттскому посланию, относятся вторжения «ахиявского царя» в малоазийские земли{16}. Созданная Маддуваттасом анти-хеттская коалиция сыграла роковую роль в истории «Старого» хеттского царства. Войдя в сговор с Египтом, эта коалиция едва не сокрушила хеттов; во всяком случае, накануне вступления на трон Тудхалияса Второго хетты находились на грани окончательного поражения. Однако новый правитель сумел отразить главные угрозы и возродить хеттскую империю под названием «Нового царства», а его преемники Тудхалияс Третий и Суппилулиумас неслыханно раздвинули пределы полученного наследия. На хеттских табличках сохранилась «Автобиография» Мурсилиса Второго, сына Суппилулиумаса, в которой он много рассказывает о своем отце, упоминая, в частности, что «когда отец мой в живых (был)… тогда он (что-то) с моей матерью… и ее в страну Ахиява… он на ту сторону отправил». Этот документ описывает времена, отстоящие на несколько десятилетий от походов Аттариссия, и отношения хеттов с Ахиявой за это время, видимо, изменились: они стали настолько дружественными, что Ахиява даже готова пойти навстречу хеттскому царю в довольно щекотливом вопросе распри с женой и принять у себя опальную царицу. Сам Мурсилис Второй продолжил победы своего отца, окончательно разгромив Арцаву, которая возглавляла антихеттскую коалицию на западном побережье Малой Азии, и главу ее, некого Ухацитиса, изгнал все в ту же Ахияву: «и он с моря… к царю Ахиявы… я снарядил с кораблем, и они увезли его прочь». Правда, в ходе этой войны был сожжен и главный форпост Ахиявы на побережье — город Милет, но ахиявские цари, судя по всему, не выразили никакого возмущения по этому поводу, и город вскоре был отстроен, кажется, руками самих же хеттов. А вскоре из Ахиявы ко двору заболевшего Мурсилиса отправляется некто «Антаравас» (возможно, Антреус) со статуями ахиявских богов, которые должны помочь выздоровлению царя. Одним словом, при Мурсилисе Втором глухая вражда между Хаттусой и Ахиявой сменяется подлинной политической идиллией. Однако ни во времена вражды, ни теперь, во времена дружбы, Вилуса в связи с Ахиявой, увы, не упоминается. Как мы помним, во времена правления следующего хеттского царя, Мувутталиса (1315–1296), некий принц из Вилусы, Алаксандус, опасаясь каких-то врагов, обратился за помощью к хеттам и согласился стать их вассалом (этими врагами скорее всего были его же «ропщущие» подданные, которым не понравилось, что усыновленный предыдущим вилусским царем Алаксандус взошел после его смерти На трон, минуя законных наследников). В договоре Алаксандуса с Муватталисом вассал обязывается противостоять какому-то врагу, и последующие события показывают, что обязательство это не было случайным — ожидать вторжения врага были все основания. Действительно, в сохранившемся отрывке письма, отправленного царем Страны реки Сеха (это царство, напомним, соседствовало с Вилусой с юга и востока) в Хаттусе, хеттскому царю (скорее всего, тому же Муватталису), говорится, что ожидаемый враг «пришел и войско страны Хатти привел… назад л страну Вилуса биться пошли». Весь этот эпизод хеттологи трактуют следующим образом: упрочив положение Алаксандуса на престоле Вилусы и сделав его своим вассалом, хетты, видимо, изменили прежнее положение вещей, при котором Вилуса была вассалом неведомого «врага»; этот противник не потерпел ослабления своих позиций и вторгся в страну, пытаясь восстановить прежнее положение; хетты тотчас отреагировали присылкой своих войск. Кто же этот неведомый противник, с которым хетты воюют из-за Вилусы? Хайнхольд-Крамер высказала предположение, что им могла быть Ахиява. На первый взгляд кажется, что это совершенно безосновательное предположение, но анализ последующих документов показывает, что оно вполне правдоподобно. Главным из этих документов является так называемое «Письмо о Тавакалавасе». Сопоставление его с другими хеттскими текстами, где упоминаются некоторые из лиц, указанных в «Письме», позволяет отнести события, излагаемые в письме, ко временам наследников Муватталиса — царя Мурсилиса Третьего (1296–1289), а скорее даже — его преемника и дяди, Хаттусилиса Третьего (1289–1265). Этот царь известен (из документов) своей политикой умиротворения противников, проводимой с большим дипломатическим искусством (впрочем, войну с Египтом при Кадеше он этим не предотвратил), а в «Письме о Тавакалавасе» обнаруживаются все приметы такой политики. История, стоящая за письмом, такова: некий Пиямарадус (судя по дальнейшему, мелкий властитель на западном побережье Малой Азии) восстал против хеттов на побережье, а когда хетты пришли навести порядок, этот «враг» бежал в Ахииву вместе с братом ахиявского царя Тавакалавасом, до того находившимся в Милаванде (как мы уже говорили выше, хеттская Милаванда — это главный ахейский, т. е. микенский, форпост в Малой Азии, город Милет, а имя Тавакалавас некоторые хеттологи отождествляют с греческим «Этеоклес», или «Этеокл», считая этого царевича Этеокла микенским наместником в Милете). И вот теперь хеттский царь пишет царю Ахиявы, именуя его «другом и братом», что он-де никаких враждебных замыслов против Ахиявы не имеет, Милаванду и трогать не намерен и просит лишь выдать ему мятежника Пиямарадуса, причем готов даже простить его, если царь Ахиявы будет на этом настаивать. Автор письма признает, что, возможно, обидел царя Ахиявы, и торопится заверить «друга и брата», что согласен на все его условия ради примирения с ним, а покамест посылает своего высокородного придворного в Ахияву в качестве «заложника мира». Подчеркнутая смиренность и миролюбивость текста выдает в авторе царя-миротворца Хатусилиса. Но самое интересное для нас таится в одной из второстепенных строк «Письма», где Хаттусилис вспоминает о прежних отношениях хеттов с Ахиявой. Он признает, что у царя Ахиявы могут быть обиды — ведь еще не так давно хетты воевали с ним из-за Вилусы, — но тут же оправдывается: во-первых, Ахиява ведь победила в той войне, а во-вторых, он, Хаттусилис, в ней вообще не виноват: «Я ведь юн был!» После чего восклицает с деланным недоумением: «Чего же еще?» Мол, какие еще могут быть претензии? Хаттусилис был «юн» во времена царствования своего брата Муватталиса, и это позволяет связать его слова о войне хеттов с Ахиявой из-за Вилусы с предыдущим сообщением царя Страны реки Сеха о вторжении неведомого врага в пределы Вилусы как раз во времена правления Муватталиса. В.таком случае предположение Хайнгольд-Крамер подтверждается: этим «неведомым врагом» действительно была Ахиява, цари которой не потерпели перехода Алаксандуса на сторону хеттов и сумели, по всей видимости, вернуть себе свои прежние позиции в Вилусе. Еще одно место из «Письма о Тавакалавасе» делает эту трактовку событий почти несомненной — здесь автор «Письма» вкладывает в уста своего адресата (царя Ахиявы) такое заявление: «Мы, царь страны Хатти и я, из-за этой страны Вилуса во вражде были мы… и он меня в отношении ее умиротворил и мы заключили договор». Иными словами, после кратковременной попытки Муватталиса повернуть Вилусу против Ахиявы и решительного военного ответа последней статус-кво был восстановлен и в отношениях, между хеттами и Ахиявой снова наступила идиллия. Но времена менялись. И в дипломатических текстах, относящихся к правлению следующего хеттского царя, воинственного Тудхиялиса Четвертого (1265–1235 гг. до н. э.), царь Ахиявы уже перестает быть «братом и другом». Причем перестает им быть весьма эффектно. В перечислении великих царей, содержащемся в одном из тогдашних документов, знак титулатуры «Его Величество», поставленный писцом перед словами «царь Ахиявы», стерт с таблички с таким усердием, словно была допущена грубая политическая ошибка. И в другом тексте, повествующем о победоносном походе хеттов на Аласию-Кипр, где в то время, — археологам это доподлинно известно — было много ахейских городов, никакого упоминания о «великой Ахияве» тоже нет, она в этом тексте не присутствует вообще. И то же самое — в третьем тексте, в «Письме в Милаванду», где этот давний и главный ахейский форпост в Малой Азии запросто, словно так и должно быть, словно так всегда и было, именуется хеттским владением — нет Ахиявы! Что, микенская держава распалась, исчезла под натиском каких-то врагов? Нет, она существует, это известно из других — греческих — источников, но хетты уже с ней не считаются, теперь она для них — побежденный и поверженный противник. Когда и как это произошло? Возможный ответ на это содержит документ, относящийся, по всей видимости, к началу царствования Тудхалияса Четвертого и представляющий собой очередное сообщение о военных столкновениях на западном побережье: «(Царь или народ) Страны реки Сеха снова дважды согрешил… вел войну. И царь страны Ахиявы отступил назад… отступил назад, а я, Великий Царь, пришел». Судя по этому тексту, сам царь Ахиявы вторгся в хеттские владения в районе реки Сеха, но потерпел сокрушительное поражение и был отброшен назад. Кажущееся незначительным и рядовым, событие это давно уже привлекло внимание хеттологов своим сходством с другим событием того же (если верить греческой традиции) времени, происходившем в том же (если верить традиции) месте. Речь идет об упоминаемом множеством древнегреческих авторов неудачном «первом» походе царя Микен Агамемнона и его спутников на Трою. У Гомера об этом событии глухо говорит Елена Прекрасная в своем плаче по Гектору, в самом конце «Илиады»: «Ныне двадцатый год круговратных времен протекает с оной поры, как пришла в Илион я, отечество бросив». Кажется странным, что Елена насчитывает уже 20 лет со времени своего побега с Парисом в Трою — ведь осада Трои, по Гомеру, продолжалась всего 10 лет! Но поэмы упоминавшегося нами в первых главах (и предшествовавшего Гомеру) «Эпического цикла», прежде всего — «Киприя», пересказ которой сохранился у автора V века до н. э. Прокла, рассказывают, что походов на Трою на самом деле было два, и во время первого ахейцы, «выйдя в море, причалили к Тевтрании и начали ее грабить, как будто Илион; Телеф же (местный царь) поспешил на помощь». Аналогично у другого автора V века — Аполлодора: «Не зная морского пути в Трою, пристали к Мисии (Тевтрании) и стали ее разорять, думая, что это Троя; Телеф же, царствовавший над мисийцами, погнал эллинов к кораблям и убил многих». После этого ахейцы целых 10 лет не могли оправиться от позорного поражения и лишь затем снова собрались с силами для второго похода, который и стал знаменитой Троянской войной; Елена, стало быть, была права, говоря о двадцати годах своего пребывания в Трое: десять лет перерыва между первым и вторым походами и десять — осады. Мисия, или Тевтрания, согласно греческой традиции, — это страна между реками Каик и Меандр, что к югу от Трои; об этом говорит историк II века Павсаний («У отправившихся в Трою с Агамемноном случилась ошибка во время плавания, результатом чего была битва в Мисии, и как напоминание об этом входящему в долину Каика служит камень в городе Элее…») — но у хеттов эти же места назывались Страной реки Сеха, и именно здесь, если верить документу тудхалиясовских времен, был с позором разгромлен «царь Ахиявы». И поскольку все прочие документы из анналов того же Тудхалияса Четвертого «великую Ахияву» больше не упоминают, надо полагать, что это незадачливое вторжение ахейцев произошло в самом начале правления Тудхалияса, т. е. близко к 1265 году до н. э. Если вся эта трактовка верна (а многие хеттологи на ней настаивают), то мы наконец-то можем с истинно гоголевским удовлетворением воскликнуть: «Отыскался след Троянского похода!» И ведь действительно вроде бы отыскался — пусть не второго, главного, а первого, неудачного, что из того? Куда важнее, что Гомер говорил правду: Троянская война — была! Гиндин и Цымбурский привлекают в этом месте внимание специалистов к еще одному замечательному документу, который представляет собой письмо царя хеттов к царю Ахиявы (именуемому без титула пренебрежительным «господин»). Пробиваясь сквозь путаницу фраз: «(ты)… написал… какие твои (страны) в запустении (были), их мне во владения отдал Бог Грозы. Царь страны Ассува… Акагамнус, дед отца, связал. А нынче Тудхалияс… его низвергнул», авторы делают смелое предположение, что речь идет о давней попытке прадеда нынешнего царя Ахиявы, некого «Акагамнуса», выступавшего под покровительством Бога Грозы, оттягать себе хеттские земли, пользуясь каким-то их «опустошением» — например, в результате землетрясения: известно ведь, что Троя-6 была разрушена мощным землетрясением примерно за 50 лет до того, как ее осадил и взял Агамемнон. Предположение смелое, потому что авторы, по сути, хотят одним махом решить загадку Троянской войны, объявив указанный документ ее «хеттским отголоском». В самом деле, если, вслед за авторами, видеть в «Акагамнусе» хеттское произношение имени «Агамемнон», в Боге Грозы — Громовержца Зевса, а в самом нашествии «ахиявцев» — взятие ахейцами Трои через 20 лет после их неудачной высадки на реке Каик, в начале царствования Тудхалияса Четвертого, то событие это следует отнести к середине или даже к концу этого царствования — скажем, к 1245–1240 годам до н. э., что, вообще говоря, совпадает с датой Троянской войны, предложенной К. Блегеном. Но эта гипотеза немедленно наталкивается на очевидные трудности. К каким временам относится рассматриваемое письмо, коль скоро его писал правнук «Акагамнуса»? Ведь даже приняв дистанцию между правнуком и прадедом всего в 60 лет, мы оказываемся в 1180 году до н. э., а в это время хеттская империя была уже сокрушена, и никаких царей, к которым могло быть. обращено такое послание, в Хаттусе уже не было, потому что и самой Хаттусы не было — сожжен он был и разрушен. И когда же, задумаемся, успел Тудхалияс Четвертый «низвергнуть» надменного этого «Акагамнуса»-Агамемнона после его победы над Троей, если всех лет царствования этому хеттскому царю осталось в лучшем случае четыре-пять? Нет, предположение Гиндина — Цымбурского загадку Троянской войны не решает, и потому нам придется сделать еще одно — впрочем, на сей раз действительно последнее, — усилие и попытаться найти в хеттских текстах иное, более убедительное свидетельство ее реальности. Или даже доказательство, если повезет. Повезет ли? >ГЛАВА 12 ИСТОРИЯ ТРЕХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ Подсчитаем наши бесспорные достижения. Мы убедились, что хеттские документы подтверждают реальное существование могучей микенской державы ахейцев, о которой говорит Гомер, — у хеттов это Ахиява. Мы увидели, что хеттские тексты засвидетельствовали реальное существование сильного и геополитически важного Троянского царства; у хеттов это царство Вилуса, расположенное на северо-западе малоазийского полуострова — именно там, где Шлиман нашел великую Трою. Мы обнаружили даже следы одного из царевичей Трои, названных велитсим Гомером, — усыновленного Париса-Александра, виновника Троянской войны; похоже, что у хеттов это Алаксандус, усыновленный царем Вилусы и поддержанный на троне властителем хеттской империи Муватталисом. Описанная в поэмах догомеровского «Эпического цикла» ошибочная высадка экспедиции Агамемнона у реки Каик и ее позорный разгром и бегство описаны также и хеттами — в виде незадачливого вторжения царя Ахиявы в Страну реки Сеха; даже географическое положение мест почти совпадает. Этих перекрестных совпадений так много, что постепенно они складываются в плотную сеть взаимосвязанных прочтений, каждое из которых подкрепляет предыдущее и подсказывает последующее, как во внезапно полностью раскрывающемся кроссворде. В целом можно сказать, что мы нашли еще одно подтверждение реальности микенской цивилизации — Шлимана — на сей раз в документах хеттов. Но наш поиск еще не закончен. Мы еще не нашли пока в этих документах никакого упоминания о том ахиявском триумфе в Вилусе, который греческая традиция описывает как осаду и взятие великой Трои ахейцами, как победное завершение Троянской войны. Чтобы приблизиться к этой цели, нам придется двинуться несколько обходным, на первый взгляд, путем — вернуться в Троаду-Вилусу и ее великую столицу. Великая Троя… Раскопки Шлимана лишь обнаружили ее истинное расположение; Дорпфельд углубился чуть дальше в ее прошлое, но только многолетние труды Карла Блегена позволили наконец выявить главные даты в биографии могучей крепости на равнине Скамандра и со всей несомненностью установить, что ее начало, первые следы поселения людей на Гиссарлыке, восходит к поистине баснословной древности — примерно 3600 лет до н. э.! До своего окончательного исчезновения, скажем, в XV веке нашей эры, Троя, следовательно, прожила свыше пяти тысячелетий, всего на пару тысяч лет меньше, чем Йерихо, этот древнейший город на Земле. В том культурном слое, который Шлиман, открыв его во время своего второго цикла раскопок, считал «древнейшим», поселение было заложено около 2500 года до н. э., то есть через целую тысячу лет после основания городища на холме. Знаменитая шлимаиовская Троя-2, которую он поначалу считал современницей Троянской войны — «Приамовой Троей», возникла в действительности за две тысячи лет до нашей эры, а это значит — как минимум за шесть столетий до предполагаемой даты этой войны. Судя по найденным там Шлиманом развалинам дворца и многочисленным золотым украшениям (пресловутая «диадема Елены»), Троя уже в то время была центром какого-то небольшого царства, властители которого, надо полагать, обогащались за счет выгодного стратегического положения своего города вблизи Дарданелл. Видимо, уже и тогда эти «таможенные поборы» троянцев вызывали чье-то сильное недовольство, ибо Троя-2 погибла в результате штурма: об этом свидетельствуют следы пожара и разрушений, а также тот факт, что «диадема Елены» вместе с прочим золотишком были брошены просто на землю, словно жителям, торопливо бежавшим из города, было уже и не до золота. Можно думать, однако, что это же «проклятие» Трои было одновременно и ее «благословением», ибо местоположение города у Дарданелл побуждало людей снова и снова возвращаться в эти края и основывать здесь поселение или даже крепость, — уже через сто лет после разрушения Трои-2 на ее развалинах (поверх них) возник очередной город — Троя-3, а еще через сто лет — на развалинах этого города — следующий, Троя-4. Проходит еще столетие, и его сменяет Троя-5 — по предположениям историков, именно тогда в здешние места пришли новые, индоевропейские племена, умевшие приручать и использовать лошадей (вспомним, что Гомер в «Илиаде» тоже говорит о «троянских конях», да и хетты тоже, как полагают, вывели свое название всего западного побережья Малой Азии, «Ассува», из слова, означавшего у них коня). Некоторые историки полагают, что племена, пришедшие тогда в Трою, составляли часть огромного воинства, основная масса которого осталась на противоположном берегу Дарданелл, на севере Балкан, и много позже стала называться фракийцами; они видят подтверждение этой гипотезы в совпадении множества названий околотроянских мест и народностей с фракийскими топонимами и этнонимами. Лишь позднее, говорят они, Троя обособилась, стала отдельным царством, и ее жители стали называть себя «троянцами» или «дарданцами». Что ж, возможно; возможно даже, что из тех же протофракийских племен, что троянцы, вышли (и двинулись на юг) и будущие греки; это могло бы объяснить их последующую, роковую, многовековую тягу к Троаде — неосознанное родство, почти по Фрейду. Впрочем, оставим. Несколько позже, на грани 1600–1500 годов до н. э., в культурных слоях Трои-5 обнаруживается микенская посуда, то есть следы прямых контактов между Троей и Микенами. Эти следы сохраняются до 1200 года до н. э., но за это время совершаются четыре важнейших события в истории Трои: возникает Троя-6 с ее крепостными стенами и бастионами, дворцом и аристократическими зданиями, напоминающими описания Гомера; происходит землетрясение, разрушающее этот город; окрестные жители возвращаются на развалины и строят там убогие, тесные и скученные лачуги — Трою-7а; и спустя 50 лет после своей предшественницы Троя-7а гибнет, как и та, только уже от рук людей — в огне и разрушениях, военного штурма. Последнее событие Блеген помещает между 1270–1250 годами до н. э. Снова проходит каких-нибудь полвека, и над развалинами Трои-7а возникает новый, тоже небольшой город — Троя-7б. Ее остатки тоже свидетельствуют о насильственном разрушении, но не таком полном, как раньше, — следы жизни переходят в следующий культурный слой непрерывно, как если бы часть жителей осталась на месте и продолжала поддерживать существование, города; более того, останки посуды свидетельствуют о смешении этих коренных троянцев с какими-то пришельцами из-за Дарданелл, возможно — опять из той же Фракии. Такая же посуда обнаруживается несколько выше по течению Скамандра, в Бурунбаши, — видимо, часть троянцев переселилась туда, так что недаром в новое время кое-кто считал, что Троя находилась именно в Бурунбаши, а не на Гиссарлыке. Однако примерно к 1000 году до н. э. последние следы жизни и там, и там исчезают древняя Троя окончательно уходит в прошлое. Но место «свято», и оно не опустевает: еще 200–300 лет спустя в Троаду (или, как она еще называлась, Илион, а у хеттов — Вилуса) приходят поселенцы с соседнего греческого острова Лесбос и основывают здесь «Эллинскую Трою» — «маленький торговый городок», как сообщают первые древнегреческие историки. Возможно, именно здесь побывал когда-то Гомер; возможно, в этих местах еще сохранялись тогда следы Древней Трои и, кто знает, даже легенды о героическом прошлом этого города. Как бы то ни было, с этого момента Троя вступает в период письменно зафиксированной истории: «Новый Илион» сменяется городом Александрова полководца Лизимаха, «Александрией Троянской», потом римской колонией Новый Илион, это уже Троя-9, по датировке Блегена; ее сменяет центр христианского епископата — «Византийская Троя», но к 1000 году нашей эры это поселение тоже угасает, и спустя еще 500 лет тут возникает последнее на Гиссарлыке поселение — деревня Гиплак, позднее покинутая жителями; останки ее поросли диким кустарником, не гнущимся даже под здешними ветрами. Очертим границы нашего поиска: весь наш предшествующий рассказ сосредоточен практически в пределах одного-полутора столетий — от гибели многовековой Трои-6 до гибели скоротечной Трои-7б. Как мы помним, поначалу Дорпфельд решил, что «Приамовой» («гомеровской») является именно могучая Троя-6. Но затем Блеген объявил, что этот богатый и укрепленный царский город был на самом деле разрушен мощным землетрясением, зато следы пожара, убийств и разрушений, которые могла причинить только война, присущи жалкой, «лачужной» Трое-7а, находившейся в полуразрушенных стенах предыдущей крепости. На первый взгляд, такая последовательность событий соответствует греческой мифо-эпической традиции. Эта традиция утверждает, что задолго до Агамемнона великий Геракл уже предпринял поход против троянского царя Лаомедонта, которому помогал бог моря Посейдон. Естественно Геракл победил: он захватил и разрушил Трою и посадил в ней нового царя — Приама, но предварительно ему пришлось схватиться врукопашную с неким «Посейдоновым чудищем», которое бог послал на защиту любимого города. Остается вспомнить, что греки считали Посейдона «сотрясателем земли», т. е. приписывали ему причину землетрясений, и тогда в эпизоде сражения Геракла с «Посейдоновым чудищем» легко усмотреть подернутое мифопоэтическим туманом воспоминание о реальном землетрясении, некогда разрушившем город Лаомедонта. Поскольку, по Блегену, землетрясение разрушило именно Трою-6, то именно ее он и объявил «Лаомедонтовой». По его расчетам, это «первое взятие Трои» (Гераклом) произошло примерно в 1300 году до н. э. (Заметим, что такая дата хорошо согласуется с описанной в «Письме о Тавакалавасе» распрей хеттов с Ахиявой за Вилусу, при царе Муватталисе.) Здесь уместно объяснить, на чем основывались эти расчеты. Подобно всем другим археологам до и после него, Блеген руководствовался в определении дат типом посуды, или, точнее, типом обработки керамической посуды, обнаруживаемой в том или ином культурном слое. В истории микенской керамики (которая сама датируется по египетским памятникам и, в свою очередь, позволяет датировать те раскопки, где она обнаруживается) существует очень важная и отчетливо прослеживаемая граница — примерно 1240–1190 годы до н. э., скорее, ближе к последней дате: до этого перелома керамика принадлежит к типу 3В (или еще более ранней 3А), после него — к типу 3С (более примитивному и грубому, который еще иногда называют «варварским»). Считается, что упрощение способов обработки керамики связано с общим падением ремесел в микенской Греции, а оно — с распадом и крахом микенской цивилизации в целом, павшей под натиском неведомых пришельцев с севера. Об этих загадочных пришельцах, разрушивших не только Микенский союз древнегреческих царств, но заодно и Хеттскую империю, и вообще радикально переменивших лицо древнего Средиземноморья, мы уже однажды упоминали, обещая поговорить о них в конце нашего рассказа; и нам действительно придется сейчас о них говорить. Но пока вернемся к Блегену и его расчетам. Раскапывая Трою-7а, Блеген не нашел в ее слоях признаков керамики типа ЗС и потому заключил, что этот город погиб раньше роковой даты варварского вторжения, т. е. раньше 1240 года до н. э.; поэтому он отнес дату взятия Трои-7а на 1270–1260 годы. Мы следовали этой схеме, когда в одной из предыдущих глав закончили рассказ о раскопках Трои выводом, что «Приамовой Троей» оказалась блегеновская Троя-7а. Теперь я вынужден с огорчением сказать, что нам придется изменить этот вывод. Дело в том что через несколько десятилетий после Блегена, в серии работ 1970–1980 годов самый авторитетный в мире специалист по микенской керамике Фурумарк сообщил, что повторное изучение некоторых керамических обломков, найденных Блегеном в Трое-7а, заставляет отнести их к типу 3С. Но керамика этого типа могла появиться в городе только после 1240–1230 годов до н. э. как минимум. Значит, Троя-7а существовала после этой переломной даты. Однако в ту пору Микенский «союз греческих героев» уже никак не мог осадить, захватить и разрушить Трою-7а, ибо сам был к тому времени подорван, а то и вовсе разрушен пришельцами с севера. Стало быть, блегеновская Троя-7а никак не могла быть той «Приамовой» Троей, которую осаждал и захватил Агамемнон. Прямым следствием этих сенсационных выводов Фурумарка было то, что археологи и историки. в подавляющем своем большинстве отвергли схему Блегена, и последние годы основная часть специалист тов снова вернулась к мнению Дорпфельда, признав «Приамовой» (гомеровской) могучую Трою-6. Английский историк Майкл Вуд сформулировал это новое представление следующим категорическим образом: «Если Троянская война была столь величественной, как описано у Гомера, она могла быть только войной против Трои-6». В поддержку этого утверждения сегодня приводится ряд новых фактов. Как показали археологические открытия последних лет, Трою-6 действительно постигло мощное землетрясение, и в этом Блеген был прав, но окончательное разрушение ее дворцов и аристократических зданий (на месте которых возникли позднее лачуги и времянки Трои-7а) было все же делом рук человеческих, а точнее — греческих, микенских: археологи нашли в слоях Трои-6 многочисленные останки микенского оружия, следы пожара, возникшего при захвате и разграблении города, и некоторые признаки нарочитого разрушения крепостных стен. Этот бесславный конец могучей Трои-6, просуществовавшей несколько столетий, сегодня датируется 1270–1260 годами до н. э. Новая датировка обоснована надежнее блегеновской, потому что базируется на более точном и детальном анализе типа керамики, но фактически она совпадает с датировкой Блегена. «А что же Троя-7а?» — немедленно спросите вы. Если поход Агамемнона («Троянская война») имел целью захват и разрушение Трои-6, то кто же и когда разрушил следующую по счету Трою, возникшую на развалинах предыдущей? И что означали найденные Блегеном в этом следующем городе признаки подготовки его жителей к осаде — скученность жилищ, врытые в землю кувшины с запасами продовольствия и т. п.? Упомянутое «большинство специалистов» располагает ответами и на эти-заковыристые вопросы. Они утверждают, что Троя-7а просуществовала вплоть до начала XII века до н. э., примерно до 1190–1180 годов. Но надо иметь в виду, что вся вторая половина XIII и начало XII веков до н. э. были эпохой нашествия северных варваров, которые накатывались на Средиземноморье несколькими последовательными волнами. То были времена всеобщего разрушения, хаоса и неустойчивости, и поэтому можно думать, что особенности жизни в Трое-7а попросту отражали общую неуверенность тогдашних людей в завтрашнем дне, их постоянную настороженность в предчувствии возможного набега бродивших повсюду варварских отрядов. «Не исключено, — говорит тот же М. Вуд, — что именно один из таких отрядов и разрушил Трою-7а, ведь она была слишком бедна и слаба, чтобы долго защищаться даже против небольшой группы захватчиков; не исключено также, что в числе этих захватчиков были и примкнувшие к варварам микенские ахейцы; но в любом случае то не были уже дружины Агамемнона и других греческих героев — времена героев давно прошли; скорее то была жалкая кучка искателей приключений и легкой наживы». Так выглядит новая схема «троянских событий», сложившаяся в самые последние десятилетия и принятая, как уже сказано, большинством современных исследователей. А как выглядит в свете этой схемы наш поиск отголосков Троянской войны в хеттских документах? Всмотримся снова в даты, и мы поймем, что искать в этих документах следы грабительского набега варваров на Трою-7а попросту безнадежно: в то время, к которому Вуд и другие относят это событие, в 1190–1180 годах до н. э., Хаттуса уже лежала в развалинах, ибо хеттская империя и сама уже рухнула под натиском тех же варваров. Но поход Агамемнона (если он вообще реален) происходил по этой схеме в 1270–1260 годах до н. э., а в это время хеттская империя еще существовала. По нашей «хронологии хеттских царей», это годы правления воинственного Тудхалияса Четвертого, того самого, при котором произошло вторжение «царя Ахиявы» в Страну реки Сеха (точности ради заметим, что сторонники новой схемы пользуются несколько иной хронологией и потому считают, что в это время в Хаттусе еще правил Хаттусилис Третий). Об этом вторжении упоминается в одном из хеттских документов, связанных с Ахиявой, — в письме правителя Страны реки Сеха к хеттскому царю. Так вот, говорят современные историки, это упоминание и есть искомый «хеттский отголосок» Троянского похода микенского царя Агамемнона, если угодно — прямое подтверждение реальности этого похода. Если принять это толкование, то наши поиски становятся излишними: мы, оказывается, давно нашли то, что искали; мы только не опознали найденное. Разумеется, такое разочаровывающе будничное завершение долгих поисков напоминает скорее сырое шипенье намокшего заряда, чем тот эффектный громовой взрыв, который от него ожидался, но что делать, если авторитетные специалисты думают именно так? Только развести руками. Хорошо еще, что мы выбрали в качестве представителя мнения большинства цитату из Майкла Вуда, который все-таки верит в реальность Троянской войны; много более авторитетный Шахермайр, к примеру, в это не верил и в свете новых данных считал, что Троянской войны не было вообще: «Илиада» — это переработка мифа о походе Геракла, а Троянский конь — это преобразованное воображением Гомера «Посейдоново чудище». Есть, однако, еще и мнение меньшинства, которое не согласно ни с Вудом, ни, тем более, с Шахермайром. Это меньшинство предлагает совершенно иное решение загадки Троянской войны, и этому меньшинству мы и предоставим сейчас, как давно обещали, последнее слово в нашем историческом расследовании. >ГЛАВА 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. НАРОДЫ МОРЯ Мы обещали в заключение предоставить слово тому меньшинству среди современных историков и лингвистов, занимающихся загадкой Троянской войны, которое энергично отстаивает свой особый взгляд на эту проблему. Судить об их правоте или неправоте мы, конечно, не сможем, но несомненную увлекательность возникающей из их рассуждений картины наверняка сумеем оценить. Начать хотя бы с того, что первые, кто во весь рост появляется на этой картине, — это те самые загадочные «северные варвары», о которых мы уже несколько раз говорили. Теперь мы, наконец, узнаем, кто они такие. Это — «народы моря», разгадке происхождения которых посвящены сотни исследований и десятки толстых научных книг. Их название восходит к двум египетским документам времен фараонов Мернепты и Рамзеса Третьего, один из которых правил в, 30-е годы XIII века до н. э., а второй — лет на сорок позже. Как сообщает рассказ Мернепты (точнее, его писца), на 5-й год правления этого фараона «пришли с моря народы» — лувийцы, шардана, ахейцы, турша, сикелы и многие другие — и пытались ворваться в Египет. Мернепта дал им бой и разгромил. На поле битвы осталось около двух с половиной тысяч пришельцев. Египтяне разделили убитых на два класса: обрезанных, как и они, — у этих они для счета отрубали одну руку, и необрезанных, у которых для счета отрубался пенис. Все эти руки и половые члены были свалены в кучу у ног фараона-победителя, как немецкие флаги некогда на Красной площади, и отсюда мы знаем, что необрезанных лувийцев и прочих было тысячи полторы, а все остальные были ахейцы (которые в ту пору, представьте, практиковали обряд обрезания). Благодаря историкам мы знаем также, что означают некоторые из упомянутых выше этнонимов: «шардана» — это балканский народ, который впоследствии заселил остров Сардиния, «турша» — это тирсены, поначалу северо-балканское племя, позднее переселившееся на юг Троады (о нем упоминает Гомер), после распада первой коалиции «народов моря» они мигрировали в Италию, где, по-видимому, дали начало этрускам; «сикелы» — будущие сицилийцы; ахейцы же нам знакомы — это микенские греки. Вся эта огромная масса племен, по мнению историков, двигалась с севера, из нынешней Фракии, сметая на своем пути прежние государства, в том числе Микены и Хатти, вынуждая к бегству одни народы (в это время началось великое переселение греков на периферию своего мира), обращая в рабство другие и увлекая за собой третьи. В документах из древнего ближневосточного города-государства Угарит сохранились письма от царя хеттов, который панически просит прислать ему на помощь угаритский флот, чтобы отбить нашествие варваров; известно (из египетских источников), что Мернепта послал царю Хатти пшеницу, чтобы прокормить население, оставшееся среди растоптанных полей; дипломатическая, переписка великих держав того времени запечатлела ощущение страха и судорожные попытки организовать совместный, отпор чудовищному потоку диких воинов на конях, повозках и идущих пешком. Попытки эти не увенчались успехом. Новое вторжение удалось лишь оттянуть — лет на тридцать, — но не предотвратить. На 5-й год правления Рамзеса Третьего, сообщает его стела, «народы моря» пришли вновь. На сей раз они окончательно сокрушили Хатти (впрочем, считается, что этому немало помогли внутренние распри), Арцаву, Аласию (Кипр), Угарит, полностью разорили микенскую Грецию и Крит, угрожали самому существованию Египта. Свою победу над ними Рамзес Третий считал главным достижением своей жизни. Он утверждал, что их вторжение было опасней гиксосского. В этот раз основу пришельцев составляли тевкры (из протофракийских племен, родственных троянцам) и пелашти; отброшенные Рамзесом от границ Египта, эти пелашти осели на восточном берегу Средиземного моря, дав название своей стране — Палестина, а сами стали теми «филистимлянами», что так хорошо известны Библии (там они называются «плиштим»); их культура (керамика, захоронения, обычаи) была во многом микенской, заимствованной по дороге; их предыстория связывает наш рассказ с предысторией евреев в Земле обетованной, но мы не будем сейчас отвлекаться в эту интереснейшую сторону (желающие могут обратиться, например, к книге копавших древнюю Филистию израильских археологов Моше Дотана и его жены Труды «Народы моря в поисках филистимлян», Нью-Йорк, 1993). Сейчас нам важнее узнать, что, оказывается, греческая традиция хранит некие смутные воспоминания о том, что когда-то в незапамятные времена ахейцы действительно вторгались в Египет и что это вторжение напрямую связано с Троянской войной! В поэмах догомеровского «Эпического цикла» рассказывается, что греки, взяв Трою, рассорились: Менелай обиделся на Агамемнона, отделился от главного отряда, вернувшегося на родину, и двинулся со своей дружиной в Египет, где был, однако, разбит. Гомер в «Одиссее» (песни 3 и 4), переиначивая тот же мотив, говорит, что на обратном пути из Трои буря занесла корабли Менелая в Египет, где он скитался целых 10 лет. В той же поэме, в песнях 13 и.14, Одиссей (уже на Итаке) рассказывает, будто во время своих скитаний пытался вторгнуться со своей дружиной в Египет, но был отогнан. И много позже Геродот собирает, повторяет и дополняет своими вымыслами все эти истории. По расчетам археологов, вторжение «северных варваров» в Грецию произошло примерно в 1240–1230 годах до н. э. — именно к этому времени относится появление керамики «варварского» стиля. Согласно египетской хронологии (она допускает несколько толкований, но здесь берется самая ранняя дата), первое вторжение «народов моря» произошло примерно в 1230 году. Главной ударной силой этого вторжения были ахейцы, видимо, примкнувшие к северным варварам, и жители южной Троады — турша, или тирсены. Что свело их вместе? Не могло ли быть так, осторожно спрашивают Гиндин и Цымбурский («Гомер и история восточного Средиземноморья»), что они объединились в Троаде, куда ахейцы вместе с другими северными варварами пришли для захвата Трои? Именно там, взяв город, разграбив и разрушив его, обретя дополнительных сильных союзников и гонимые мечтой о новых грабежах и новой добыче, ахейцы могли повернуть дальше на юг и, пройдя страну Хатти, ворваться в Египет фараона Мернепты. Если дело действительно обстояло так, то нельзя ли предположить, продолжают наши авторы, что это и был тот поход ахейцев, который много позже разросся в воображении потомков до размеров Троянской войны и последующей вооруженной высадки Менелая и Одиссея на египетских берегах? В таком случае придется признать, что Троянская война происходила не на взлете Микенского царства, а на его излете, когда оно уже рушилось под натиском северных варваров. Не случайно царствовавший именно в те времена Тудхалияс Четвертый велел вычеркнуть Ахияву из списка великих держав. И не случайно и Гомер, и народная традиция греков утверждают, что конец Троянского похода совпал с гибелью его царственных героев, распадом их царств и концом «героического века». Суммируя эти факты и предположения, сторонники новой гипотезы рисуют следующую, уже третью по счету, возможную картину событий (она третья, если первой считать блегеновскую трактовку Троянской войны как «похода на Трою-7а», а второй — новейшую трактовку этой же войны как «похода на Трою-6а»). В этой третьей трактовке никакой «великой» Троянской войны не было; а было вот что — где-то около 1240 года до н. э. Греция пережила первое нашествие северных варваров, резко ослабивших ее царства, но после их возвращения на Балканы предприняла попытку восстановить свои прежние позиции. Именно тогда царь Микен (Ахиявы) послал хеттскому царю Тудхалиясу Четвертому письмо с напоминанием договора о Вилусе; царь Хатти, однако, игнорировал это напоминание, и микенцы решили силой отвоевать Вилусу-Трою, но, увы, по ошибке высадились в Стране реки Сеха (Каик) и потерпели поражение. С этого момента начинаются их беспрестанные попытки расквитаться за позор, поэтому неудачную высадку у Сехи можно считать началом Троянской войны. В таких мелких попытках проходит почти 20 лет, но потом ахейцы все же добиваются своего благодаря помощи вновь пришедших в Грецию северных варваров, «народов моря». Объединившись с ними, они наконец захватывают Трою (по датам это Троя-7а, так как дело происходит примерно в 1230–1220 годах до н. э.), после чего движутся на Египет, где терпят поражение, откатываются и рассеиваются по берегам Средиземного моря. Этот уход из Греции множества ее самых отчаянных, предприимчивых молодых воинов (не забудем — только в бою с Мернептой их погибло свыше тысячи двухсот — огромное по тем временам число) окончательно ослабляет страну, и в образовавшийся вакуум вскоре вторгается новое северное племя, на сей раз родственное грекам, — дорийцы. Наступают «темные века» греческой истории. В отличие от двух первых гипотез, базирующихся в основном на археологических фактах, эта третья опирается преимущественно на факты лингвистические. Но нельзя не видеть, что и в этой схеме есть множество хронологических и прочих натяжек. В целом выводы из всего сказанного представляются, скорее, неутешительными. То, что во времена Шлимана казалось таким ясным и определенным, сегодня снова подернулось туманом зыбкой неопределенности. Хотя новейшая «археологическая гипотеза» объявляет «Троянской войной» поход ахейцев против Трои-6, она не исключает возможность их второго, крайне незначительного, похода против Трои-7а совместно с варварми. Со своей стороны, новейшая «лингвистическая гипотеза» считает подлинной «Троянской войной» именно этот поход (с ее точки зрения, единственный). А в схеме стоящего особняком Шахермайра никакого Троянского похода, как мы видели, не было вообще. Так что нам, скорее всего, так и не удастся до конца решить загадку этой воспетой Гомером войны — была она в действительности или нет? И если была, то когда? Пройдя по текстам Гомера, через данные археологических раскопок, тексты линейного письма Б хеттские клинописные документы, мы нигде не отыскали совершенно однозначных свидетельств «за» или «против» ее реальности. Каков же итог? Скорее всего, правы Гиндин и Цымбурский, когда заключают: «Видимо, слияние некого многовекового лейтмотива (прежних походов — Геракла или хеттской «Ахиявы» — на Трою. — Р.Н.) с порывом «бегства за моря», охватившим массы ахейцев после первого нашествия северных варваров и придавшим новому походу на Илион общеахейский размах, и породило тот грандиозный облик, какой обрела в памяти греков Троянская война». Та «Троянская война», что была, добавим, последней. Больше уже, если верить названию пьесы Жана Жироду, «Троянской войны не будет»… >Комментарии id="c_1">1 Самыми последними из этих книг по времени уже в наши дни стали многочисленные произведения, посвященные т. н. «теории разумного дизайна» («Intelligent Design», или ID). Этими словами ее создатели сокращенно называют утверждение, будто сложность живых существ и обнаруженное астрономией точное соответствие космических параметров всем требованиям возникновения разумной жизни якобы свидетельствуют о том, что космос был «сконструирован» (причем именно для появления жизни и человека) неким высшим Разумом, или Разумным Конструктором. С благословения сочувствующих этому тезису американских политиков-республиканцев, в том числе и самого президента Буша, эта теория, по сути возрождающая креационизм в новом обличье, сейчас внедряется в американские школы в качестве «научной» альтернативы теории эволюции. id="c_2">2 В еврейской системе летосчисления, изложенной в летописи «Седер Олам Рабба» и ведущей счет годам от Сотворения Мира, «баhарад» — сокращенное название для новолуния первого месяца от начала мироздания; это первое новолуние называется также «новолунием хаоса» (молад ТОРУ). id="c_3">3 Цепочка рава Элиягу Залмана замечательна и другими своими особенностями. Например, между «мэм» в слове «мишнэ» и «тав» в слове «тора» пропущено ровно 613 букв, что равно числу мицвот (заповедей) в Торе; первые буквы последних четырех слов стиха 11:9 — это «рэйш», «мэм», «бет» и «мэм», что складывается в «Рамбам»; один из стихов той же главы содержит дату «четырнадцатое нисана», что является днем рождения Рамбама; и, наконец, 49 — это священное для евреев число — количество дней Омер между праздниками Песах и Шавуот. Между прочим, рав Вейсмандель тоже обратил внимание на тот факт, что его буквенные цепочки «т-о-р-а» имеют пропуск в 49 букв. Правда, в последней цепочке пропуск на одну букву меньше, но рав Вейсмандель объяснил это тем, что последняя книга, «Дварим», рассказывает о смерти Моисея, а Моисей однажды согрешил перед Всевышним самовольным чудотворством, и за это перед ним была закрыта одна из дверей мудрости Торы. id="c_4">4 Первая (еврейская) буква этого слова — «хэй», что может означать «ha» — это определенный артикль. Вообще-то слово «ханука» (название еврейского религиозного праздника) пишется без такого артикля, но мы пока отложим разговор о том, почему оно в данном случае написано именно так. id="c_5">5 «Хашмонай» — представитель знаменитого в еврейской истории рода Хасмонеев, которые во II в. до н. э. возглавляли борьбу евреев за религиозную независимость; праздник Ханука был учрежден как раз в честь победы в этой войне. Отметим важный факт — то, что буквы второго слова («Хашмонай») не образовали вертикальный столбик, а идут по диагонали, связано с тем, что пропуск между ними другой: им нужна чуть более длинная окружность оборота нити, чтобы улечься друг под другом. Но если бы мы выбрали цилиндр с чуть большей окружностью, то не легли бы друг под другом буквы слова «hа-ханука». Два слова стали бы столбиками только при одной и той же длине оборота, т. е. если бы интервалы между буквами обоих слов были одинаковыми. id="c_6">6 Под наименованиями понимаются сокращенные прозвища, аббревиатуры или акронимы, с которыми те или иные еврейские мудрецы вошли в историю, — например, Рамбам или Маймонид (рав Моше бен Маймон), «Бейт-Исраэль» или просто «Бейт-Йуд» (так назвали рава Йосефа Каро по заглавию его важнейшей книги) и т. п. У некоторых мудрецов есть по 3–4 таких наименования. id="c_7">7 Например, одна и та же дата может быть словами записана как «шени бэ нисан», «бэ шени бэ нисан» и т. п. id="c_8">8 Сухие определения — такой-то век до н. э. — вряд ли способны создать правильное ощущение времени. Та «классическая эпоха» греческой истории, которую мы знаем из школьных учебников истории, — война греков с персами, Афины, Перикл, Парфенон, война Афин со Спартой — очень близка к нам, это V век до н. э. Гомер жил за 300–400 лет до возвышения Афин, а описанная им «героическая эпоха» имела место в совсем уж глубоком прошлом — за 800 лет до Перикла! Это лет на сто раньше еврейского Исхода из Египта и на 2000 лет раньше Киевской Руси. id="c_9">9 Сокровищам, которые Шлиман нашел в Микенах, повезло больше: они сохранились полностью, и сегодня каждый желающий может увидеть поразительной, красоты золотую маску Агамемнона в афинском музее. Стоит, однако, предупредить, что маска эта по мнению современных ученых, на несколько столетий старше гомеровского Агамемнона, даже если последний действительно существовал. Современный американский специалист проф. Калдер примерно 30 лет назад поставил вопрос, не является ли и эта находка Шлимана его фальсификацией: это вызвало продолжающуюся по сей день оживленную дискуссию; отчет о которой можно найти в журнале Archeology (т. 52. 4, 1999). id="c_10">10 Впоследствии ему и это лыко поставили в строку; в мае 1995-го тот же журнал «Археология» сообщил, что потомки Кальверта решили потребовать возвращения принадлежащих им по праву наследования двух золотых мечей, найденных Шлиманом на восточной оконечности холма Гиссарлык, принадлежавшей Франку Кальверту (он купил ее у оттоманских властей). В момент публикации сообщения мечи эти находились в Пушкинском музее. Чем кончилось дело, мне неизвестно. id="c_11">11 Много позже, в ходе раскопок 1930 года, золотые предметы были найдены и во многих других местах второго слоя, словно жители того давнего города бежали из него в панике, теряя на бегу драгоценности и пожитки: это, кстати, доказывает, что Шлимана, видимо, зря обвиняли в фальсификации сокровищ. id="c_12">12 Самое интересное во всей этой истории то, что спустя семьдесят с лишним лет греческие археологи обнаружили второй такой же круг гробниц, но уже вне стен крепости, снаружи от Львиных ворот — там, где некогда простирался древний город (внутри крепостных стен находились в древности лишь дворцовые постройки). Скорее всего, именно этот круг и был тем, который когда-то видел Павсаний. Так что в итоге оказалось, что Шлиман неправильно понял Павсания, но как раз эта ошибка и принесла ему сказочную удачу. id="c_13">13 Принятая сегодня хронология различает три главные эпохи греческой предыстории: ранний бронзовый век, 2800–1900 гг. до н. э.; средний бронзовый век, 1900–1600 гг. до н. э.; и поздний бронзовый век, 1600–1100 гг. до н. э.; далее начинается век железный. Эти абсолютные даты базируются на синхронности определенных критских и греческих находок с аналогичными находками в Древнем Египте и наоборот; египетская же хронология благодаря сохранившимся надписям известна с достаточной точностью. id="c_14">14 Уже в наши дни некоторые ученые выдвинули предположение, что причиной этой катастрофы могло быть знаменитое извержение вулкана на близлежащем острове Санторин, он же Тера (эта же катастрофа, по их мнению, положила начало мифу об утонувшей Атлантиде). Имеются, однако, убедительные основания считать, что это извержение произошло почти на столетие раньше. id="c_15">15 Любопытно, что следов микенской посуды почему-то почти нет на северо-западе, если не считать раскопанной Трои: здесь, видимо, не было других крупных городов, или же местные жители, будучи более воинственны, успешно отражали попытки ахейского проникновения. id="c_16">16 Некоторые хеттологи видят в «Аттариссии» прародителя микенских царей Дтрея, но, как указывают другие, такое отождествление противоречит законам хеттской и греческой фонетики. Л. Гиндин и В. Цымбурский отмечают, однако, что эти противоречия можно обойти, если принять, вслед за О. Семереньи, что хеттское «Аттарисий» не столько тождественно греческому «Атреус» по фонетическому звучанию, сколько передает тот же смысл («бесстрашный»), только на хеттский лад, поскольку восходит к анатолийскому корню «a-trs-io», имеющему значение «не знающий страха». Комментарии id="c_1">1 Самыми последними из этих книг по времени уже в наши дни стали многочисленные произведения, посвященные т. н. «теории разумного дизайна» («Intelligent Design», или ID). Этими словами ее создатели сокращенно называют утверждение, будто сложность живых существ и обнаруженное астрономией точное соответствие космических параметров всем требованиям возникновения разумной жизни якобы свидетельствуют о том, что космос был «сконструирован» (причем именно для появления жизни и человека) неким высшим Разумом, или Разумным Конструктором. С благословения сочувствующих этому тезису американских политиков-республиканцев, в том числе и самого президента Буша, эта теория, по сути возрождающая креационизм в новом обличье, сейчас внедряется в американские школы в качестве «научной» альтернативы теории эволюции. id="c_2">2 В еврейской системе летосчисления, изложенной в летописи «Седер Олам Рабба» и ведущей счет годам от Сотворения Мира, «баhарад» — сокращенное название для новолуния первого месяца от начала мироздания; это первое новолуние называется также «новолунием хаоса» (молад ТОРУ). id="c_3">3 Цепочка рава Элиягу Залмана замечательна и другими своими особенностями. Например, между «мэм» в слове «мишнэ» и «тав» в слове «тора» пропущено ровно 613 букв, что равно числу мицвот (заповедей) в Торе; первые буквы последних четырех слов стиха 11:9 — это «рэйш», «мэм», «бет» и «мэм», что складывается в «Рамбам»; один из стихов той же главы содержит дату «четырнадцатое нисана», что является днем рождения Рамбама; и, наконец, 49 — это священное для евреев число — количество дней Омер между праздниками Песах и Шавуот. Между прочим, рав Вейсмандель тоже обратил внимание на тот факт, что его буквенные цепочки «т-о-р-а» имеют пропуск в 49 букв. Правда, в последней цепочке пропуск на одну букву меньше, но рав Вейсмандель объяснил это тем, что последняя книга, «Дварим», рассказывает о смерти Моисея, а Моисей однажды согрешил перед Всевышним самовольным чудотворством, и за это перед ним была закрыта одна из дверей мудрости Торы. id="c_4">4 Первая (еврейская) буква этого слова — «хэй», что может означать «ha» — это определенный артикль. Вообще-то слово «ханука» (название еврейского религиозного праздника) пишется без такого артикля, но мы пока отложим разговор о том, почему оно в данном случае написано именно так. id="c_5">5 «Хашмонай» — представитель знаменитого в еврейской истории рода Хасмонеев, которые во II в. до н. э. возглавляли борьбу евреев за религиозную независимость; праздник Ханука был учрежден как раз в честь победы в этой войне. Отметим важный факт — то, что буквы второго слова («Хашмонай») не образовали вертикальный столбик, а идут по диагонали, связано с тем, что пропуск между ними другой: им нужна чуть более длинная окружность оборота нити, чтобы улечься друг под другом. Но если бы мы выбрали цилиндр с чуть большей окружностью, то не легли бы друг под другом буквы слова «hа-ханука». Два слова стали бы столбиками только при одной и той же длине оборота, т. е. если бы интервалы между буквами обоих слов были одинаковыми. id="c_6">6 Под наименованиями понимаются сокращенные прозвища, аббревиатуры или акронимы, с которыми те или иные еврейские мудрецы вошли в историю, — например, Рамбам или Маймонид (рав Моше бен Маймон), «Бейт-Исраэль» или просто «Бейт-Йуд» (так назвали рава Йосефа Каро по заглавию его важнейшей книги) и т. п. У некоторых мудрецов есть по 3–4 таких наименования. id="c_7">7 Например, одна и та же дата может быть словами записана как «шени бэ нисан», «бэ шени бэ нисан» и т. п. id="c_8">8 Сухие определения — такой-то век до н. э. — вряд ли способны создать правильное ощущение времени. Та «классическая эпоха» греческой истории, которую мы знаем из школьных учебников истории, — война греков с персами, Афины, Перикл, Парфенон, война Афин со Спартой — очень близка к нам, это V век до н. э. Гомер жил за 300–400 лет до возвышения Афин, а описанная им «героическая эпоха» имела место в совсем уж глубоком прошлом — за 800 лет до Перикла! Это лет на сто раньше еврейского Исхода из Египта и на 2000 лет раньше Киевской Руси. id="c_9">9 Сокровищам, которые Шлиман нашел в Микенах, повезло больше: они сохранились полностью, и сегодня каждый желающий может увидеть поразительной, красоты золотую маску Агамемнона в афинском музее. Стоит, однако, предупредить, что маска эта по мнению современных ученых, на несколько столетий старше гомеровского Агамемнона, даже если последний действительно существовал. Современный американский специалист проф. Калдер примерно 30 лет назад поставил вопрос, не является ли и эта находка Шлимана его фальсификацией: это вызвало продолжающуюся по сей день оживленную дискуссию; отчет о которой можно найти в журнале Archeology (т. 52. 4, 1999). id="c_10">10 Впоследствии ему и это лыко поставили в строку; в мае 1995-го тот же журнал «Археология» сообщил, что потомки Кальверта решили потребовать возвращения принадлежащих им по праву наследования двух золотых мечей, найденных Шлиманом на восточной оконечности холма Гиссарлык, принадлежавшей Франку Кальверту (он купил ее у оттоманских властей). В момент публикации сообщения мечи эти находились в Пушкинском музее. Чем кончилось дело, мне неизвестно. id="c_11">11 Много позже, в ходе раскопок 1930 года, золотые предметы были найдены и во многих других местах второго слоя, словно жители того давнего города бежали из него в панике, теряя на бегу драгоценности и пожитки: это, кстати, доказывает, что Шлимана, видимо, зря обвиняли в фальсификации сокровищ. id="c_12">12 Самое интересное во всей этой истории то, что спустя семьдесят с лишним лет греческие археологи обнаружили второй такой же круг гробниц, но уже вне стен крепости, снаружи от Львиных ворот — там, где некогда простирался древний город (внутри крепостных стен находились в древности лишь дворцовые постройки). Скорее всего, именно этот круг и был тем, который когда-то видел Павсаний. Так что в итоге оказалось, что Шлиман неправильно понял Павсания, но как раз эта ошибка и принесла ему сказочную удачу. id="c_13">13 Принятая сегодня хронология различает три главные эпохи греческой предыстории: ранний бронзовый век, 2800–1900 гг. до н. э.; средний бронзовый век, 1900–1600 гг. до н. э.; и поздний бронзовый век, 1600–1100 гг. до н. э.; далее начинается век железный. Эти абсолютные даты базируются на синхронности определенных критских и греческих находок с аналогичными находками в Древнем Египте и наоборот; египетская же хронология благодаря сохранившимся надписям известна с достаточной точностью. id="c_14">14 Уже в наши дни некоторые ученые выдвинули предположение, что причиной этой катастрофы могло быть знаменитое извержение вулкана на близлежащем острове Санторин, он же Тера (эта же катастрофа, по их мнению, положила начало мифу об утонувшей Атлантиде). Имеются, однако, убедительные основания считать, что это извержение произошло почти на столетие раньше. id="c_15">15 Любопытно, что следов микенской посуды почему-то почти нет на северо-западе, если не считать раскопанной Трои: здесь, видимо, не было других крупных городов, или же местные жители, будучи более воинственны, успешно отражали попытки ахейского проникновения. id="c_16">16 Некоторые хеттологи видят в «Аттариссии» прародителя микенских царей Дтрея, но, как указывают другие, такое отождествление противоречит законам хеттской и греческой фонетики. Л. Гиндин и В. Цымбурский отмечают, однако, что эти противоречия можно обойти, если принять, вслед за О. Семереньи, что хеттское «Аттарисий» не столько тождественно греческому «Атреус» по фонетическому звучанию, сколько передает тот же смысл («бесстрашный»), только на хеттский лад, поскольку восходит к анатолийскому корню «a-trs-io», имеющему значение «не знающий страха». Комментарии id="c_1">1 Самыми последними из этих книг по времени уже в наши дни стали многочисленные произведения, посвященные т. н. «теории разумного дизайна» («Intelligent Design», или ID). Этими словами ее создатели сокращенно называют утверждение, будто сложность живых существ и обнаруженное астрономией точное соответствие космических параметров всем требованиям возникновения разумной жизни якобы свидетельствуют о том, что космос был «сконструирован» (причем именно для появления жизни и человека) неким высшим Разумом, или Разумным Конструктором. С благословения сочувствующих этому тезису американских политиков-республиканцев, в том числе и самого президента Буша, эта теория, по сути возрождающая креационизм в новом обличье, сейчас внедряется в американские школы в качестве «научной» альтернативы теории эволюции. Новая книга израильского популяризатора науки Рафаила Нудельмана «Библейская археология. Научный подход к тайнам тысячелетий» представляет собой сборник научно-популярных очерков, составленных с учетом самых последних научных открытий и псевдонаучных сенсаций. Все эти очерки объединяют простота и доступность изложения, великолепное чувство юмора автора и его постоянное стремление проверять свободный полет фантазии мерками научного знания и строгой логики. 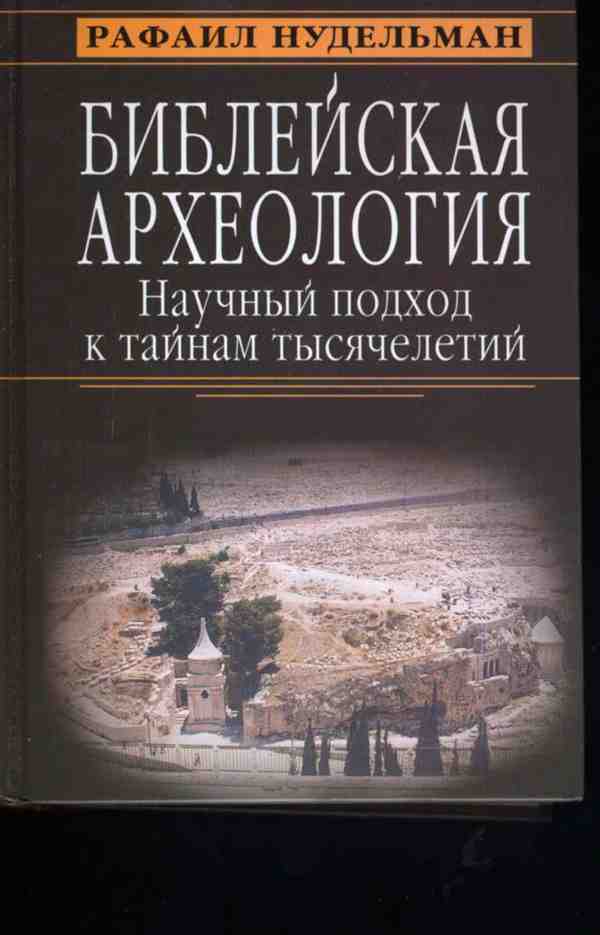 1.0 — создание файла Р. И. Нудельман Библейская археология: научный подход к тайнам тысячелетий >ЧАСТЬ 1 КОСМОЛОГИЯ И КАББАЛА >ГЛАВА 1 ВЕЛИКАЯ ПИРАМИДОЛОГИЯ Не так давно один из израильских журналов познакомил русскоязычный читающий мир с увлекательной теорией нашего соотечественника, недавнего репатрианта Григория Айзенберга. Согласно этой теории, великая египетская пирамида Хеопса, построенная в XXVII веке до нашей эры, хранит в себе проход к некоему «золотому шару», содержащему на своих стенах «закодированную» историю исчезнувших цивилизаций и даже пророческие детали технических открытий будущих времен. Айзенбергу, скромному врачу из Винницы, как рассказывает журнал, было «видение», в котором вся эта сияющая истина явилась ему сразу, целиком, как Афина из головы Зевса, после чего он стал страстным глашатаем новой идеи и даже сумел заручиться солидной поддержкой для ее проверки. Отдавая должное оригинальности вышеизложенной гипотезы, я, тем не менее, считаю, что ее автор, а также интервьюировавший его журналист допустили определенный просчет, хотя бы вкратце не познакомив читателей с современным состоянием той науки, в которую таким ярким метеором вторгся наш соотечественник. Я имею в виду великую пирамидологию, имеющую за собой долгую и славную историю. Думается, такое знакомство позволило бы читателям лучше оценить научное значение излагаемой теории и ее место в ряду других ей подобных. Поэтому я счел необходимым восполнить это досадное упущение. К сожалению, не всем и не каждому известно, что первые смутные догадки о наличии в египетских пирамидах закодированных тайн и пророчеств возникли еще в темные средневековые времена среди розенкрейцеров и других тогдашних оккультистов. Но становление великой науки пирамидологии как подлинной науки произошло только в середине XIX века и связано с именем некоего английского издателя Джона Тэйлора, который в 1859 году выпустил книгу «Великая пирамида: кто ее построил и зачем?». Как видно из названия, именно здесь был впервые поставлен ребром тот мучительный вопрос, который волновал затем все прогрессивное человечество на протяжении полутора последующих веков вплоть до явления Айзенберга народам. Конечно, сегодня благодаря Айзенбергу нам уже известно, что строителями пирамид были люди, произошедшие от зеленых человечков из, летающих тарелок, то бишь от космических пришельцев. Но в середине XIX века о пришельцах еще ничего не знали, и поэтому Тэйлору пришлось искать иной ответ на поставленный им вопрос. Ход рассуждений этого родоначальника пирамидологии был весьма поучителен. Тэйлор тоже догадывался, что великая пирамида Хеопса не простых египетских рук дело, но, в отличие от Айзенберга, утверждал, что ее строителем был… праотец Ной. Этому предположению нельзя отказать в логичности. Ведь однажды Ной уже построил ковчег. Так что построить после этого пирамиду было для него раз плюнуть. Тем более что он был доверенным лицом самого Господа. А Тэйлор был убежден, что никто, кроме самого Господа, не мог бы «закодировать» в пирамиде те поразительные сведения, которые он, Тэйлор, открыл, изучая ее геометрические особенности. Так, он нашел, что если разделить высоту пирамиды Хеопса на удвоенную длину ее основания, то получится число, очень близкое к знаменитому «пи» (отношение длины окружности к ее диаметру). А если разделить радиус Земли на 400 000, то получится в точности та библейская мера длины, «локоть», которая лежит в основе всех геометрических размеров пирамиды. Одновременно этот «локоть» — та самая мера, которую, согласно Библии, Ной использовал при конструировании ковчега, а Соломон — при создании Храма. Этот «локоть», по Тэйлору, равен примерно 25 дюймам. Для тех, кого даже эти поразительные совпадения не убеждали в сверхъестественном происхождении пирамид, Тэйлор припас другие неопровержимые доводы. Так, у Исайи сказано: «И в те дни будет алтарь Господу в середине Египта». А у Иова говорится: «Кто же положил те основания, если не Ты, о Господи, и задал те меры, если не Ты, о Господи?» Но убедительней всего — цитата апостола Павла: «Сам Иисус положил тот краеугольный камень, дабы сложить храм Господу». Хотя ни в одной из этих цитат ничего не говорится о пирамидах, но неутомимый и проницательный Тэйлор сообразил, что речь идет именно о них, а из этого следует, помимо всего прочего, что пирамида Хеопса была задумана как прообраз иерусалимского Храма и будущей христианской Церкви. Так что наш Айзенберг не одинок, когда утверждает, что в пирамидах хранятся тайны будущих технических свершений. Апостол Павел утверждал то же самое. Дело Тэйлора получило развитие в трудах профессора астрономии Эдинбургского университета Чарлза Смита, который в 1864 г. опубликовал 664-страничную книгу «Наше наследие в Великой Пирамиде», где тоже предвосхитил некоторые будущие прозрения Айзенберга. Прежде всего Смит занялся прямоугольником, лежащим в основании пирамиды. Правда, о существовании под ним «золотого шара» он не догадался, но зато, разделив ширину этого основания на размер тех камней, которыми в старину была облицована пирамида, он получил 365, то есть точное число дней в году. Значение этого открытия и его точность представляются особенно поразительными, если вспомнить, что сами камни тогда еще не были найдены и поэтому Смит в своей оценке их размеров был вынужден опираться на смутные воспоминания египетских феллахов. Тем не менее отсутствие камней не остановило пытливого исследователя. Продолжая вникать в тайны Великой Пирамиды, Смит догадался разделить длину облицовочного камня (тоже приблизительно показанную одним из феллахов) на число 25 и с помощью этой гениально простой догадки нашел величину так называемого «Божественного дюйма», который Ной по научению Господа положил в основу своих инженерно-технических расчетов. Оказалось, что этот спущенный сверху дюйм в точности равен одной десятимиллионной земного радиуса. К сожалению, Смит не указал, какого именно радиуса (Земля, как известно, не вполне сферична, и потому различные радиусы имеют разные длины), но эта мелочь нисколько не уменьшает значения других открытий, совершенных неутомимым пирамидоведом с помощью найденного им «Божественного дюйма». Прилагая его ко всем мыслимым размерам пирамиды, Смит обнаружил огромное множество поразительных совпадений. Так, высота пирамиды, умноженная на десять в девятой степени, оказалась равной расстоянию от Земли до Солнца. Другие расчеты позволили установить плотность Земли, период колебаний земной оси, среднюю температуру земной поверхности и многое-многое другое. Как видим, пытливый ум Смита извлек из одной-единственной пирамиды куда больше откровений, чем иной ленивый ум мог бы извлечь даже из Британской энциклопедии. Но самое удивительное вскрылось, когда Смит приступил к внутренним проходам пирамиды. Тщательно измерив длину каждого прохода в «Божественных дюймах» и приняв один дюйм за год, он показал, что в этих размерах закодированы все важнейшие даты прошлой и даже будущей истории Земли. А также всей Вселенной! Выяснилось, что Вселенная была создана ровно за 4004 года до рождества Христова; были установлены точные даты потопа, исхода евреев из Египта и постройки самой пирамиды; были найдены закодированные в заднем (извините!) проходе пирамиды даты рождения Иисуса Христа, его казни, нисхождения в ад и воскресения; а при подъеме вверх по тому же заднему (извините опять) проходу удалось предугадать и дату его Второго Пришествия — между 1882-м и 1911 годами нашей эры. Внимательно присмотревшись к пирамиде, Смит и Тэйлор пришли к выдающемуся выводу, что она (с учетом) основания пятигранна. Этот поразительный факт неизбежно привел их к выводу, что — число пять имеет в пирамидологии огромное символическое значение. Мало того, что пяти граням пирамиды отвечает пять углов, но ее «Божественный дюйм» также заложен в пирамиду Тем, кто дал нам пять пальцев на каждой руке и ноге, пять органов чувств, пять книг Моисеевых и дважды пять его заповедей. С этим нельзя не согласиться. Отчасти это даже ставит под сомнение гипотезу пришельцев. Пришельцы, у которых, как известно, вместо пальцев сплошные щупальца, всего этого дать людям не могли. Если бы человечество рассчитывало только на этих безобразных зеленых человечков, оно, скорее всего, не получило бы ни Пятикнижия, ни заповедей, ни даже органов чувств. Под влиянием всех этих замечательных открытий Тэйлора и Смита в 1879 году в Америке, в городе Бостоне, был основан специальный «Институт точных пирамидологических измерений», призванный периодически уточнять все размеры пирамид с помощью наиновейших методов исследования. Второй задачей Института была объявлена борьба за низвержение принятой на европейском континенте «безбожной метрической системы» и замену ее системой, основанной на «Божественном дюйме». Книги Тэйлора и Смита дали также толчок многим другим исследованиям. Так, полковник Карнье сумел установить, что уточненные размеры пирамиды дают основание ожидать Второго Пришествия не в 1911-м, а в 1920 году. Как известно, оно в тот год почему-то не состоялось, и тогда Уолтер Уинн предпринял новые расчеты, которые показали, что в расчеты Карнье вкралась досадная ошибка и в действительности Второе Пришествие состоится в 1933 году. Однако пастор Чарлз Рассел опроверг это утверждение, заявив, что более детальные пирамидологические расчеты приводят к намного более удивительным выводам. Оказывается, Второе Пришествие на самом деле уже состоялось! Произошло это в 1874 году, «незримо» для всех, кроме самого пастора, который тут же вычислил, что вслед за этим начнется некий 40-летний цикл, к исходу которого, в 1914 году, все истинные праведники будут спасены, а грешники — подвергнуты каре. Как мы помним, в 1914 году указанные 40 лет действительно истекли, но завершились не столько спасением, сколько умерщвлением множества праведников в ходе первой мировой войны. На этом основании очередной глава секты «расселитов», судья Резерфорд, выдвинул радикально новую теорию, согласно которой Великая Пирамида на самом деле — вовсе не творение Господа, а наваждение Сатаны. Разочарованные «расселить!» отошли от занятий пирамидологией, но их идеи были почти тотчас подхвачены новой сектой — англо-израэлитов, которая утверждала, что англо саксонские и кельтские народы ведут прямое происхождение от десяти исчезнувших колен Израиля и потому унаследуют все те обетования, которые Господь дал Аврааму. Основатель секты, инженер Дэвидсон, опубликовал очередное пирамидоведческое сочинение «Великая Пирамида и ее Божественное Послание», в котором заявлял, что спасение потомков Авраама в Великобритании начнется в 1928 году и протянется до 1936 года, после чего этот «истинный» Израиль соберет армии народов всего мира против Гога и Магога, и настанет Армаггедон, за которым и последует долгожданное Второе Пришествие. В Соединенных Штатах эту благую весть подхватил некто Джордж Рифферт. Однако когда суматоха прошла, а Второе Пришествие опять не наступило, Рифферт выпустил новую книгу, в которой писал, что нужно подождать еще немного — и тогда «вавилонская блудница капитализма окончательно исчезнет, уступив место духовному Израилю англосаксонских наций с его новым экономическим порядком». Поскольку это предсказание основано на точных данных великой пирамидологии, стоит, думается, все-таки подождать. Может быть, и России, и нашему Израилю найдется место под солнцем нового англосаксонского экономического порядка. Если, конечно, открытие Айзенберга еще раньше не выведет всех нас в первые ряды преемников великих пирамидных обетований. Я не умещусь в рамках данной книги, если начну, в дополнение к уже сказанному, пересказывать еще и те тайны Великой Пирамиды, которые открылись разным оккультистам, начиная с мадам Блаватской, согласно которой пирамида Хеопса была местом ритуала, изложенного в египетской «Книге мертвых», и, кончая неким Рандольфом Скиннером, который утверждал, что в пирамиде якобы закодированы тайны еврейской Каббалы. Лучше я посвящу оставшееся место краткому ответу на вопрос: что же все это означает? Краткий ответ состоит в том, что все сказанное свидетельствует о пользе неполного среднего образования. Получив такое образование, любой любознательный человек научается неполно читать, неполно считать и получает смутные сведения о существовании великой пирамиды Хеопса. Посчитав пальцы на руках и ногах и обнаружив, что их там дважды пять, он во всеоружии этих познаний приступает к решению мировых проблем посредством упомянутой пирамиды. Все дальнейшее зависит исключительно от его изобретательности. Комбинируя размеры пирамиды с мировыми константами, он подгоняет одно к другому и находит желаемые ответы. Поскольку размеры эти весьма приблизительны, четырех правил арифметики вполне хватает, чтобы сотворить истинные чудеса. Скажем, упомянутые выше облицовочные камни существуют в десятках разновидностей. Каждый пирамидолог-любитель может выбрать нужный по вкусу и желанию. Если же и это не, поможет, можно взять любое число наугад, помножить его на какое-нибудь другое, вычесть что-нибудь подходящее, возвести в требуемую степень и затем добавить лаврового листа и маринованного винограда, а также соли и перца по вкусу. На самый худой конец к желаемому результату всегда удается прийти методом одного американского пирамидоведа, которого известный археолог Петри как-то застукал возле пирамиды Хеопса в тот самый момент, когда тот подтесывал найденный в песке облицовочный камень, чтобы получить очередную точную дату Второго Пришествия. Очень помогают также откровения, пророческие сны, всевозможные сведения из брошюр об Атлантиде и упоминание пришельцев. Пирамидология открыта всем и каждому, нужно только знать, с какой стороны к ней подойти. Так что смело за работу, господа. Сорок веков, как говаривал Наполеон, смотрят на вас с вершины пирамид, храня тайны праотцев, атлантов и зеленых человечков! Не говоря уже о Золотом шаре, в котором, как в Торе, закодировано вообще все! Если, конечно, верить господину Айзенбергу. А почему бы, собственно, ему не верить? Особенно если очень хочется. >ГЛАВА 2 МЕМУАРЫ СПЕРМАТОЗОИДА Книга эта называется «Дианетика». Ее втором является некто Лафайетт Рональд Хаббард, в прошлом моряк, ветеран и инвалид второй мировой войны, пламенно-рыжий и столь же. пламенно темпераментный американец, немного инженер, немного летчик, немного музыкант, немного яхтсмен, не успевший по причине всех своих многочисленных увлечений получить никакого законченного образования. Что не помешало ему, написать толстую книгу и, как вы увидите, еще несколько таких же книг, выдержавших в одной только Америке несколько десятков изданий. Любителям фантастики Хаббард известен как необычно плодовитый автор множества научно-фантастических рассказов и повестей. Собственно, фантастика и была отчасти виновницей того, что Хаббард написал свою эпохальную книгу, положившую начало одному из самых странных, долгих и шумных увлечений нашего века. Дело было в конце 1940-х годов, когда Хаббард принес свои первые рассказы в журнал «Поразительная научная фантастика». Редактор журнала, Джон Кемпбелл-младший, страдал хроническим синуситом, и Хаббард взялся его лечить. Лечение оказалось настолько успешным, что Кемпбелл тут же предложил Хаббарду опубликовать в журнале краткое изложение его медицинских методов. Публикация вызвала огромный интерес, и вдохновленный этим Хаббард тут же сел за более подробное изложение, из которого ровно через три недели образовалась объемистая книга под названием «Дианетика, или современная наука ментального исцеления». Первое издание расхватали, издатели тут же выпустили второе, третье и так далее; дианетика стала бешено модной в Голливуде и университетских кампусах всей Америки, и вскоре в Нью-Джерси был заложен специальный Исследовательский институт дианетики с ответвлениями в сотнях городов и со своим журналом, который назывался «Дианетический бюллетень». Распространению нового метода весьма способствовала его простота и доступность. Всего за 500 долларов каждый мог пройти в институте шестинедельный курс инструктажа и получить сертификат «врача-дианетика». Что же такое дианетика? И какое, собственно, отношение она имеет к упомянутым в нашем заглавии воспоминаниям? В основе дианетики лежит утверждение, что наш мозг функционирует как гигантский компьютер. Компьютер этот состоит из двух частей — сознательной, или «аналитической», и бессознательной, или, в терминологии Хаббарда, «реактивной». Аналитический мозг управляет нами, когда мы находимся в сознательном состоянии, и управляет в общем-то безупречно. Но он может дать сбой, когда «реактивный» мозг подаст ему неверные данные. А это происходит каждый раз, когда мы на время теряем сознательный контроль над собой — например, когда спим. Или когда нам очень больно. Хаббард утверждает, что есть много состояний, когда реактивный мозг захватывает власть над аналитическим. На нашу беду. Дело в том, что реактивный мозг — это дебил, как говорит Хаббард. Программы, которые он выдает сознанию, — ошибочные программы. Они запечатлеваются в реактивном мозгу под влиянием восприятий, поступающих от наших органов чувств, когда мы находимся в бессознательном состоянии. Вот, — например (цитирую Хаббарда): «Женщина сбита машиной. Ее окружают прохожие, водитель кричит, что она сама виновата, в ее глазах мелькают вспышки света, она ощущает запах бензина и асфальта, вкус крови во рту. Реактивный мозг запечатлевает все эти ощущения в виде «энграммы» — целостной записи происшествия со всеми сопровождающими его ощущениями». Ключевое слово произнесено. Энграммы, по Хаббарду, это и есть те ошибочные, неправильно отражающие реальность «записи», которые реактивный мозг будет позднее выдавать аналитическому, вызывая всевозможные неврозы, психозы и психосоматические болезни, вплоть до рака и диабета (рак и диабет, по Хаббарду, именно психосоматические болезни, они возникают, грубо говоря, от «психа»). А самый вредный вид таких «записей» — это утробные энграммы. То есть те, которые запечатлелись в нашем реактивном мозгу, когда мы еще пребывали в материнской утробе. Как, утверждает дианетика Хаббарда, именно эти энграммы вызывают большинство наших неврозов и болезней. Вот как Хаббард объясняет образование утробных энграмм: «Мама чихает — плод содрогается в конвульсиях; мама натыкается на стол в кухне — у ребенка ощущение жуткого удара по голове; мама икает — ребенку кажется, что он попал в нутро грохочущей стиральной машины. Папа ночью вошел в азарт — ребенку кажется, что он попал под паровой молот. Мама зашлась в истерике — у ребенка образуется энграмма. И так без конца». Мы и не подозревали, что в матке царит такая чудовищная какофония. «Стуки, лязги, грохот, скрежет, чваканье, бурленье, оглушительный шум текущих вод, громыханье прорывающихся газов…» Бедное дитя! «В его ушах стоит непрерывный шум. Ему душно, больно, тесно и страшно». И вдобавок ко всему в его крохотном мозгу запечатлеваются все произносимые снаружи слова. Папа кричит маме: «Возьми это! Возьми!!» — а позже, уже во взрослом возрасте, реактивный мозг истолковывает эту энграмму с буквализмом идиота, и вы становитесь клептоманом. Мама кричит папе: «Ты ни на что не способен!» — ребенок вырастает с комплексом неполноценности. Мама жалуется подруге: «На черта мне эта беременность!» — и ребенок вырастает с сознанием своей ненужности в семье. Но есть еще более ужасная ловушка, куда мы все неизбежно попадаем, даже если в матке нам было хорошо и уютно. Эта ловушка — энграммы, возникшие на доутробной стадии! «Почти каждый мой пациент, — утверждает Хаббард, — признавался во время сеанса, что не раз переживал во сне ощущение, будто он стремительно плывет по какому-то узкому каналу или лежит у какой-то стены в ожидании пронизывающей боли чьего-то проникновения». Поначалу Хаббард не придавал особого значения этим снам. Но потом его осенило. Он понял, какие переживания они отражают. Это, провозгласил он, не что иное, как «реальные переживания, которые мы испытывали на стадии сперматозоида или яйцеклетки». Эти «воспоминания сперматозоида» ужасны тем, утверждает Хаббард, что они являются самыми ранними, самыми глубинными, самыми базовыми из всех наших энграмм. А согласно дианетике, для излечения человека от неврозов и прочих недугов нужно прежде всего «стереть» его базовые энграммы. Тогда более поздние сотрутся легче. Воспоминания сперматозоида уж такие базовые, что дальше буквально некуда. Поэтому их следует стирать в самую первую очередь. Методы дианетики очень просты, Пациент ложится на кушетку, а врач-дианетик соответствующими, фразами погружает его в «дианетический транс». Наступление этого транса опознается по частому трепетанию век. Доведя пациента до трепета, врач начинает задавать ему серию вопросов, понуждая его «вернуться вспять» по его «временной траектории», чтобы вспомнить все прежние энграммоформирующие переживания. Стоит пациенту припомнить какую-нибудь энграмму, как она тут же теряет свою силу. Ослабление энграммы сопровождается беспричинной зевотой и потягиванием, а ее полное «стирание» — столь же беспричинным приступом смеха. За пять-шесть таких сеансов все энграммы стираются, и пациент выходит от врача, излеченный от всех неврозов и недугов. Включая рак и диабет. Излеченные пациенты становятся «абсолютно чистыми». Они настолько здоровее всех остальных людей, что Хаббард даже опасается, не станут ли они «аристократией будущего». Впрочем, он тут же оговаривается, что это не так уж страшно — ведь «абсолютно чистые» вместе с энграммами утрачивают и все свои дурные помыслы и даже способность к ним. Дианетика оказывается также способом совершенствования общества и культуры. Но это уже проблемы метафизического свойства. Им Хаббард посвятил другую свою не менее толстую книгу — «Наука выживания», написанную уже не за три недели, а всего за три дня. Кроме того, он опубликовал также «Детскую дианетику», посвященную методам лечения детей. Еще одна его книга, «Превентивная дианетика», излагает приемы предотвращения энграммобразования. Приемов, собственно, немного. Строго говоря — всего один. Нужно поменьше разговаривать вблизи беременной женщины. «Всякая речь, любое громко произнесенное слово угрожает душевному здоровью плода. Молчите!» Если ваши родители не воспользовались этим мудрым советом, пока вы пребываете в материнской утробе, вам не миновать образования энграмм и всех неприятностей, с ними связанных. А значит, вам не миновать и кушетки врача-дианетика. Не пугайтесь. Вас не будут допытывать, хотели вы обладать своей мамой или прикончить своего папу. Ассистент Хаббарда и пламенный энтузиаст дианетики (позднее, впрочем, в ней разуверившийся) доктор Винтер так описывает свой предварительный разговор с пациентом. «Что вы чувствуете сейчас? — Мне хочется почесать глаз. — Чем, по-вашему, вызвано это желание? — Наверно, пылинка попала. — Подумайте еще. — Ну, не знаю. — Я могу подсказать вам несколько предположений, которые вы, конечно, не обязаны принимать. Не чешется ли ваш глаз потому, что у вас наворачиваются слезы? — Пожалуй. — В таком случае постарайтесь вспомнить, когда у Вас впервые в жизни было такое ощущение. Не чесался ли у Вас глаз в момент вашего рождения?» Как не вспомнить двух предприимчивых евреев, в голодные годы отправившихся на село зарабатывать фокусами: «Хаим, отгадай, в какой руке у меня монета. — В левой. — А подумав? — В правой. — (Селянам, торжествующе): Вот видите!» Тем, кому врач не по карману, Хаббард предлагает домашнее руководство под названием «Излечись сам!». К этой книге прилагаются специальные картонные диски двух цветов с соответствующими надписями. Поворачивая диск, вы можете сами получить дианетические ответы на все свои медицинские вопросы, а также стереть все свои вредные энграммы. Эффективное, быстрое и полное исцеление гарантируется. Еще за 100 долларов можно приобрести специальный «электропсихометр», который позволит вам «объективно» измерять стресс в процессе своего дианетического самоисцеления. Прибор градуирован в специальной «хаббардовской шкале» и «немедленно выявляет особо прочные энграммы». Прибор выпускается и в упрощенном варианте, который называется «миниметр» и стоит всего 40 долларов, но с этой дешевкой вам в такую глубь своей биографии проникнуть не удастся. Дианетика возникла около полувека назад. Хаббард уже умер. Но его дело живет и продолжает распространяться по всему земному шару, находя миллионы новых адептов. Учение Хаббарда всесильно, потому что оно вульгарно. Когда-то Ильф и Петров подметили: стоит в «большом мире» начаться, скажем, штурму Северного полюса, как в «малом мире» тотчас рождается шлягер: «Нам с милкой и на полюсе тепло». Стоит в большом мире начаться штурму подсознания, как в малом рождается дианетика и прочие «современные науки ментального исцеления». Сразу от всех недугов. Включая рак и диабет. Да, чуть не забыл. Вскоре после выхода «Дианетики» Джон Кемпбелл-младший снова заболел синуситом, от которого уже не избавился до самой своей смерти. >ГЛАВА 3 ГЛАШАТАИ КАТАСТРОФ Все астрономы сегодня согласны, что Земля возникла миллиарды лет назад и с тех пор продолжает с невозмутимой регулярностью вращаться вокруг Солнца. Но для некоторых рядовых граждан все, что вызывает единодушное согласие ученых, тотчас становится подозрительным. Им это кажется догмой или — того хуже — преступным сговором. Такие граждане, если они наделены достаточным воображением и хотя бы обрывками школьных знаний, немедленно принимаются за работу и создают собственные теории, разоблачающие этот сговор и открывающие миру «подлинную истину». Чаще всего такие теории остаются достоянием узкого круга знакомых и друзей. Но иногда они выходят за его пределы и захватывают воображение множества других рядовых граждан. Почему это происходит с одними теориями и не происходит с другими, не очень понятно. Может быть, стоит рассмотреть некоторые из таких случаев, чтобы лучше понять, что же способно увлечь массы. Среди теорий, опровергающих общепринятые среди астрономов взгляды на историю Солнечной системы, наибольшая популярность в новом времени выпала на долю четырех. Об одной их них, принадлежащей Иммануилу Великовскому, я уже рассказывал в своей предыдущей книге «Загадки, тайны и коды Библии». Великовский был родом из Москвы, сыном известного еврейского купца и сиониста, который позднее эмигрировал в Палестину. Великовский и сам некоторое время жил в Палестине, где имел врачебную практику и занимался психоанализом. Позже он переехал в США, где и создал свои прославленные книги. Первая из них, «Миры в столкновении», вышла в свет в 1950 году. Она сразу же стала бестселлером среди широких читательских масс вроде нынешнего «Кода да Винчи», хотя и на другой манер. Среди ученых она вызвала бурное возмущение. Великовский утверждал, что не в столь далеком прошлом некая гигантская комета, исторгнутая из недр Юпитера, дважды прошла вблизи Земли, после чего была заторможена Марсом и превратилась в нынешнюю планету Венеру. Первая встреча, или «столкновение», этой кометы с нашей планетой произошло, по Великовскому, в 1500 году до н. э. и заставило Землю замедлить свое вращение или даже полностью остановиться, что вызвало катастрофические последствия: горы стали рушиться, моря расступились, метеоры посыпались с неба, реки окрасились кровью и огненный столб огромной молнии соединил Землю с кометой. Все это, утверждал Великовский, и было запечатлено в библейской книге Исхода в виде явлений, сопровождавших исход евреев из Египта. Воздействием кометы он объяснял и последующие события еврейской истории, как они описаны в той же Библии. Например, извержения, землетрясения и прочие жуткие явления в ходе получения Моисеем Торы на горе Синай были, по его мнению, следствием краткого возвращения кометы к Земле; манна небесная, кормившая евреев все 40 лет странствий в пустыне, образовалась из углеводородов, составлявших хвост кометы (из них же позднее образовались земные залежи нефти); а та знаменитая остановка Солнца над долиной Айялон по приказу Иисуса Навина, что произошла 52 года спустя, была вызвана повторным «столкновением» Земли с кометой. Одно из вызванных этим столкновением землетрясений обрушило и знаменитые стены Иерихона. А вот катастрофические события, произошедшие семь столетий спустя, в восьмом веке до н. э., когда Сеннахериб осаждал Иерусалим и отступил от него, напуганный землетрясениями, имели причиной уже не саму эту комету, а планету Марс, который под воздействием всё той же неприкаянно блуждавшей по Солнечной системе кометы вдруг резко приблизился к Земле и вызвал все эти катаклизмы. Кстати, этим же приближением Марса Великовский объяснял и знаменитую «загадку Свифта». Дело в том, что автор «Путешествий Гулливера», описывая вымышленную им страну Лапуту, походя заметил, что у Марса есть два спутника. А земные астрономы открыли эти спутники только через 156 лет после написания Свифтом этих строк! Более того, в этом же своем рассказе Свифт совершенно точно указал, что один из этих спутников движется вокруг Марса быстрее, чем вращается сама планета. Откуда он мог это знать? Великовский утверждает, что Свифт вычитал все это в манускриптах древних астрономов, которые разглядели эти спутники невооруженным глазом во время вышеупомянутого приближения Марса к Земле. Представляете, как близко он подошел?! Великовский вообще имел привычку обосновывать свою теорию «космических катастроф» ссылками на всевозможные древние рукописи, легенды и сказания самых разных народов. Обилие использованных им фольклорных источников изумляет. Столь же изумляет непредвзятого читателя способ их использования. Автор «Миров в столкновениях» привлекал себе в поддержку те материалы, которые ему подходили, и совершенно спокойно игнорировал все те, которые противоречили его теории. Точно так же он игнорировал все те научные факты и законы, которым эта теория сама противоречила. Как закон тяготения Ньютона, так и открытые им законы движения не допускают такой эквилибристики небесных тел, какую постулировал Великовский. Остановка или даже приостановка вращения Земли должны были вызвать куда более трагические последствия, вплоть до уничтожения всего живого. Нефть образовалась на Земле совершенно иным путем. Геологические данные начисто отрицают наличие тех следов, которые должны были оставить на лике планеты «катастрофы Великовского». Но автора теории «столкновений» все это нисколько не смущало. Как не смущало его, например, то простое обстоятельство, что «кометная манна» должна была выпадать на евреев непрерывно, а не с теми перерывами на субботу, которые описываются в Библии. Для Великовского всё, что было написано в Библии, сомнению не подлежало, — оно подлежало «объяснению». И он последовательно находил такие «объяснения» каждой фразе, каждому слову Библии. К своей «теории катастроф» он пришел как раз движимый жгучим стремлением «научно» объяснить библейское описание чудес еврейского исхода из Египта. Все остальное в этой теории было попросту придумыванием таких псевдонаучных «объяснений». Если бы Великовский был первым, придумавшим такую теорию, ему хоть принадлежал бы приоритет открытия новой области псевдонауки. Увы, даже этого приоритета он не заслужил. У него были по меньшей мере два примечательных предшественника. Каждый из них подкреплял свою теорию теми же мифами и легендами, и каждый придумал ее для объяснения того же библейского текста. Первым из них был Уильям Уинстон, британский священник и математик, опубликовавший свою книгу «Новая теория Земли» еще в 1696 году. К тому времени уже было известно, что Земля кругла, и многие священники стали искать в библейских текстах доказательства того, что именно это в них и говорилось. Уинстон использовал в качестве такого доказательства слова пророка Исайи: «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли». Где круг — там шар, рассудил Уинстон и, ободренный этим первым успехом, взялся выводить из той же Библии все остальные факты современной ему науки. Написано, что земля была безвидна и пуста — значит, она находилась в хвосте огромной кометы (и тут комета!), и этот хвост поглощал весь солнечный свет. Не написано, что она вращалась вокруг своей оси — значит, поначалу и не вращалась. Поэтому каждый день был тогда равен году, и погода все время стояла ровная, теплая и приятная. А испортилась она лишь тогда, когда Земля — под воздействием все той же кометы — начала вращаться. А начала она делать это в наказание первым людям, Адаму и Еве, которые польстились на запретное яблоко. Но люди не вняли этому первому предостережению высшей силы и продолжали, как известно, грешить. Тогда в один злосчастный день, а точнее, по расчетам Уинстона, 28 ноября 2349 г. до н. э., Господь наслал на Землю вторую комету, водяной пар которой, придя в соприкосновение с земной атмосферой, обратился в дождь и вызвал потоп. Из-за выпадения на Землю большой массы воды ее собственная масса возросла, и вращение вокруг оси замедлилось — так сутки получили свою нынешнюю длительность. И так далее. Отличие от Великовского — только в том, что тут комет было две, не одна. Кроме того, у Уинстона — опять же в отличие от Великовского — всё это было разработано до мельчайших деталей и доказывалось с помощью математических формул. Возможно, именно наличие этих формул заставило великого Ньютона с большим энтузиазмом встретить книгу «ученого коллеги». Уинстон удостоился также похвал философа Джона Локка. В оправдание их обоих, следует сказать, что в те времена геологические и астрономические сведения были еще довольно скудны и проверить гипотезы Уинстона было практически невозможно. Брошенная Уистоном идея, что Земля переживала периоды больших катастроф и ответственны за них были кометы, воспламенила воображение многих последователей, и в 1822 году американец Игнациус Доннелли подхватил и использовал ее в своей нашумевшей книге «Рагнарок». Доннелли был очень колоритной политической фигурой. Благодаря выдающимся ораторским способностям и своей программе аграрных реформ он уже в 28 лет стал вице-губернатором штата Миннесота. Позднее он стал конгрессменом и сенатором. Кроме того, он был незаурядным писателем, автором двух увлекательных романов, второй из которых, «Колонна Цезаря», можно было бы по праву назвать предшественником всех современных антиутопий: в нем изображалась Америка XXI века, в которой восторжествовало что-то вроде фашизма. И вдобавок ко всему Доннелли был буквально помешан сразу на трех псевдонаучных идеях — на существовании Атлантиды, на тайном шифре, которым якобы написаны пьесы Шекспира, и на былых катастрофах в истории Земли, вызванными столкновениями с кометами. Первой он посвятил книгу «Атлантида», второй — сразу две книги: «Великая криптограмма» и «Шифр пьес», а третью изложил в «Рагнароке». Слово «Рагнарок» Доннелли заимствовал из древней скандинавской мифологии, где оно означало гибель богов и всего мира. В древнескандинавском «Прорицании вельвы» рассказывается о почерневшем солнце, испепеляющем жаре, падении звезд с неба, землетрясениях и земле, погружающейся в море. Двести страниц книги Доннелли посвящены пересказу этих и всевозможных других мифов и легенд, которые, по мнению автора, доказывали, что последнему ледниковому периоду предшествовала гигантская катастрофа, вызванная приблизившейся к Земле огромной кометой. Эти описания крайне похожи на соответствующие места в книге Великоватого: те же землетрясения, обрушивание и подъем гор, наводнения и метеорные дожди, бури и чудовищная жара. Доннелли утверждал, что остатком этой великой катастрофы являются те гравийные породы, которые там и сям обнаруживаются на планете. Он отвергал мнение геологов, будто эти породы являются следом прохождения ледников. Напротив, говорил он, ледники появились как раз в результате кометной катастрофы. Пыль настолько затмила солнечный свет, что на Земле наступила Эра Мрака, сопровождавшаяся резким похолоданием и образованием ледников. Доннелли предвосхитил Великовского даже в том, что связывал с кометой «остановку Солнца», описанную в библейском рассказе об Йегошуа бин-Нуне (Иисусе Навине). Трудно сказать, верил ли сам Доннелли в то, что написал в своей книге. Астрономические и геологические познания в его время были уже вполне достаточны, а сам он был вполне образованным человеком, чтобы быть с ними знакомым. Как бы то ни было, ученые-современники обошли его «Рагнарок» полным молчанием, отнеся его к разряду фантастических повестей, хотя широкая публика жадно расхватывала экземпляры в книжных лавках. Книга еще более укрепила популярность автора, и незадолго до смерти в 1901 году Доннелли был даже выдвинут кандидатом в вице-президенты Соединенных Штатов. Через 12 лет после его смерти венский горный инженер Ганс Хербигер выпустил в свет монументальный, 790-страничный том под названием «Тлациальная космогония», в которой излагал еще более причудливую космогоническую теорию, со временем завоевавшую еще более широкую, а главное — куда более влиятельную аудиторию. «Космогония» Хербигера стала особенно популярной во времена подъема нацизма с его антиинтеллектуальной, мистической духовной атмосферой. Именно тогда она пришлась особенно ко двору и была подхвачена миллионами фанатичных последователей, включая самого Гитлера и многих его приближенных. Она превратилась в своеобразный культ, получивший, наименование WEL (сокращение немецкого слова «Welt-eis-lehre», или «Учение о мировом льде»). История этого культа описана во многих книгах. Бывший немецкий ракетный инженер Вилли Лей посвятил ей подробную статью «Псевдонаука в стране нацистов», в которой рассказывал, что школа Хербигера функционировала как настоящее политическое движение, к тому же крайне тоталитарное. Она выпускала сотни тысяч листовок, брошюр и плакатов, публиковала специальный журнал «Ключ к мировым событиям» и созывала регулярные митинги сторонников, проходившие под лозунгами «Долой астрономические догмы, да здравствует Хербигер!». Сам автор писал тому же Лею: «Либо вы примете мою доктрину, либо будете объявлены изменником родины и врагом народа…» В список таких «врагов» у Хербигера попали, разумеется, все ведущие астрофизики и астрономы мира, поскольку они не хотели признать его «доктрину». В чем же она состояла? В отличие от предшественников, Хербигер считал виновниками земных катастроф не кометы, а спутники Земли. До нынешней Луны Земля, по его утверждению, уже имела шесть таких спутников. Все они. один за другим последовательно падали на Землю, что и вызывало-известные нам катаклизмы в ее геологической истории. Причины этих падений были те же, по которым со временем и все планеты упадут на Солнце. Дело в том, говорит Хербигер, что так называемая «Вселенная» — в действительности всего лишь огромная пустота в еще более огромной глыбе космического льда, наполненная разреженным водородом, который тормозит движение планет! Сами планеты — это оторвавшиеся от глыбы обломки, которые по спиралям приближаются к находящемуся в центре Солнцу. Более мелкие обломки могут захватываться более крупными и становиться их спутниками. Вот так у Земли и появились все ее предыдущие спутники-луны. Больше всех из них Хербигера интересовал предпоследний, потому что его существование, как он считал, совпало с появлением на Земле человечества и потому могло быть зафиксировано в мифах и легендах народов мира. Эти фольклорные свидетельства он называл «окаменевшей историей предлунной культуры». Собрав такие свидетельства воедино, Хербигер вывел из них связную «картину» тех давних событий. По мере того как предпоследний спутник приближался к Земле, он все больше притягивал к себе ее океаны и моря, и вода повсюду поднималась. Чтобы избежать потопа, люди мигрировали на возвышенности в Тибет, на Боливийское плато, в Мексику и тому подобные места. Под конец спутник опоясывал Землю по шесть раз в день, затмевая собой даже солнечный свет, а его изъеденная кратерами поверхность нависала над планетой так низко, что люди стали считать его живым существом; отсюда взялись легенды о драконах и прочих летающих чудовищах, а в иудео-христианской мифологии — представление о Сатане. Затем под влиянием Земли ледяной спутник распался на части, которые стали выпадать на Землю сначала в виде водяного потопа, а затем — в виде града огромных осколков. Земля тоже претерпела влияние спутника — она вытянулась в виде эллипсоида, а потом вернулась к сферической форме, и поднятый притяжением спутника водяной вал растекся по всей планете, вызвав «Ноев потоп». После этой катастрофы наступило великое затишье, которое и отразилось в мифах о рае. Но это состояние кончилось, когда Земля захватила нынешнюю Луну. Появление спутника опять сопровождалось катаклизмами, в ходе которых погибла Атлантида и наступил четвертичный период. Это произошло примерно 13 500 лет назад, то есть так недавно, что память об этом событии сохранилась не только в мифах, но и в коллективном подсознании человечества, в виде страха перед падением Луны на Землю. По Хербигеру, страх этот вполне обоснован: наша Луна тоже должна рухнуть, и человечеству грозят неслыханные беды. Теория «космического льда» была, конечно, безумной, но последовательной в своем безумии. Не только планеты, но и Млечный путь, говорил Хербигер, — это куски льда в пустоте. Трещины в ледяной поверхности Марса — это как раз и есть знаменитые «каналы». Ледяные глыбы заслоняют от нас поверхность Солнца — это т. н. «солнечные пятна». А когда Хербигеру показывали сделанные астрономами фотографии планет и звезд, он просто отшвыривал их со словами: «Еврейская фальшивка!» Зарубежные астрономы могли посмеиваться над этим истерическим и безумным культом; немецким было не до смеха: министерство пропаганды Геббельса объявило, что «нельзя стать хорошим национал-социалистом, если не веришь в теорию космического льда». В брошюре министерства заявлялось, что «наши нордические предки выросли сильными благодаря льду и снегу; вера в космический лед — это историческое наследие подлинного арийца; и подобно тому, как сын Австрии Гитлер покончил с еврейским засильем в политике, так сын Австрии Хербигер покончил с еврейским засильем в науке». Сам Хербигер умер в 1931 году. Но его доктрина еще долго продолжала воодушевлять соотечественников. Гитлер твердо верил, что призван очистить Землю от «карликовых рас», заполонивших ее в период предыдущей космической катастрофы, и приготовить планету для владычества «арийских гигантов» к моменту наступления следующего катаклизма — падения Луны. Так что его посланцы далеко не случайно организовывали «научные» экспедиции в Тибет. Приверженцы теории Хербигера и поныне существуют в Германии и других странах. Существуют и миллионы приверженцев теории Великовского. Видимо, псевдонауку легче разоблачить, чем вытравить из сознания людей. И чем грандиознее ее «теории», тем вернее они удостаиваются успеха. Рядовые граждане упорно продолжают подозревать ученых в преступном сговоре против человечества. Величественные и прекрасные в своей грандиозности катастрофы возбуждают их воображение куда сильней, чем прозаические и сложные научные теории. Но, может быть, в этом тоже сказывается наша человеческая сущность. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман…» Вот уж у этой истины всегда будут миллионы последователей. >ГЛАВА 4 ПУПОК АДАМА Откуда взялись ископаемые окаменелости? Как образовались различные геологические слои? Любой современный ученый ответит, что это — памятники древнего прошлого Земли. Но не всякий верующий человек с ним согласится. Многие верующие до сих пор цепко держатся за доктрину Божественного Творения, произошедшего пять тысяч и сколько-то там еще лет тому назад и занявшего ровно шесть дней с последующим отдыхом в субботу. Чтобы объяснить происхождение окаменелостей, этим людям приходится пускаться во все тяжкие и проявлять недюжинную изобретательность. Они утверждают, например, что окаменелости — это остатки Ноева потопа, а то и дело «рук» самого Всевышнего, который нарочно насовал их в землю, чтобы задать нам неразрешимую загадку. (Некоторые, правда, утверждают, что это сделал Сатана.) Одним из самых ревностных глашатаев Божественного происхождения окаменелостей был немецкий ученый XVIII века Иоганн Берингер. В своей монографии он привел множество рисунков с изображениями найденных им в окрестностях Вюрцбурга окаменелостей, украшенных изображениями Луны и Солнца, а то даже и краткими надписями на древнееврейском. Борьба Берингера в защиту доктрины Божественного Творения завершилась в тот несчастливый день, когда он нашел окаменелость, на которой было написано его собственное имя! Оказалось, что и эту, и все прежние находки подсовывали ему его же студенты. Рассказывают, что в течение еще многих лет Берингер повсюду скупал уцелевшие экземпляры своей монографии и беспощадно их уничтожал. Однако история борьбы «креационистов» (верящих в акт Творения) с эволюционистами знавала и более забавные моменты. Особо яростный характер приняла эта борьба после опубликования в 1859 году дарвиновского «Происхождения видов», и одним из самых оригинальных ответов на эту книгу стала появившаяся вскоре многосотстраничная монография британского зоолога Филиппа Госсе «Омфалос». Омфалос — греческое слово, означающее «пупок», и пупок действительно играл ключевую роль в этой попытке доказать, что наличие окаменелостей и прочих аргументов в пользу эволюции нисколько не подрывает доктрину Божественного Творения. Доказательство Госсе было исключительным в своем роде: он призвал на помощь… пупок Адама. В самом деле, говорил он, мог же Господь сотворить Адама с пупком, как будто Адам родился от женщины, хотя на самом деле он был сотворен Всевышним. С таким же успехом мог сотворить Господь и все окаменелости разом. Всё это — такие же «следы никогда не имевшей места эволюции», как пупок Адама — «след» никогда не имевшего места биологического рождения первого человека. Предвидя возможные возражения, Госсе далее писал: «Кое-кто может сказать, что, создавая Землю вместе с помещенными в ней изначально окаменелыми остатками никогда на деле не существовавших организмов, Всевышний обманывал человека. Но разве, давая Адаму пупок, он ставил своей задачей обмануть нас и внушить, что Адам имел родителей?» Этот пресловутый пупок еще долго после книги Госсе не сходил с арены борьбы креационистов с эволюционистами. Уже в 50-е годы нашего века почтенный председатель комиссии по обороне Палаты представителей американского конгресса Карл Дурхэм сурово затребовал у одной газеты разъяснения: на каком основании она в одной из своих карикатур изобразила Адама и Еву с пупками? По мнению почтенного председателя уважаемой комиссии, эти пупки свидетельствовали о том, что сотрудники газеты — скрытые коммунисты: своей карикатурой пытаются подорвать основы христианской веры. Конгрессмен Дурхэм успокоился лишь после того, как газета разъяснила ему, что уже Микеланджело изобразил наших прародителей с пупками — и где (?!) — на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане… Другой поворотный пункт в полемике креационистов обозначила книга американского профессора геологии из небольшого религиозного университета в штате Небраска, некого Джорджа Прайса, под названием «Новая геология». Геология, излагавшаяся Прайсом, действительно была «новой» — он начисто отрицал то мнение, будто расположение окаменелостей в геологических слоях свидетельствует о древности этих самых окаменелостей. «Ничего подобного!» — восклицал Прайс. Все геологи вертятся в порочном кругу: они определяют возраст слоев по окаменелостям, а возраст окаменелостей — по слоям. Но даже если принять их выводы, то остается фактом, что множество «якобы древних» ископаемых останков обнаруживается в более верхних (то есть более молодых) слоях, а множество окаменелостей более молоды — в слоях пониже, то есть более старых. Прайс, разумеется, жульничал. Никакого такого «множества» не было. Было несколько сотен случаев обнаружения «обратной последовательности» (на миллионы случаев правильного расположения ископаемых останков), и он это прекрасно знал. Не мог он не знать и того, что все эти «неправильные» случаи давно уже объяснены произошедшими в более поздние времена переворотами пластов в результате сдвигов, сбросов и других геологических подвижек. И во всех этих случаях следы таких сдвигов и сбросов прекрасно видны на самих слоях. И, наконец, у геологов к тому времени давно уже были способы независимого определения возраста слоев, так что «порочный круг», о котором говорил Прайс, существовал только в его воображении. Тем не менее на верующих читателей книга Прайса произвела сильное впечатление. Еще бы — профессор геологии! Это впечатление лишь усиливалось тем, что Прайс предлагал и свое оригинальное объяснение сходству человека с обезьяной — сходству, которое так подрывало основы веры в Творение и укрепляло идею эволюции. Согласно Прайсу, это сходство вовсе не доказывает, будто человек произошел от обезьяны. Это обезьяна возникла из человека! «Нет никаких доказательств, — писал Прайс, — будто так называемые человекоподобные обезьяны существовали до Ноева потопа. Эти обезьяны — продукт скрещения человека с другими животными, уцелевшими в Ноевом ковчеге, точно так же, как такими гибридами являются негроидные и монголоидные расы. Если бы мне пришлось выбирать между утверждениями, что человек — это эволюционировавшая обезьяна и что обезьяна — это дегенерировавший человек, я бы, не колеблясь, выбрал второе». Это было написано в том же году, когда Гитлер в далекой Баварии создавал первый вариант «Майн кампф» и писал, что все неарийские расы возникли в результате «дегенеративного скрещения» праарийцев с обезьянами. Из второго издания своей книги Гитлер этот тезис изъял, но Прайс и в переизданиях оставался на прежних позициях. (Он только добавил к ним собственное толкование причин потопа: Землю, оказывается, в древности окружало кольцо мелких спутников, как у Сатурна; падение этих спутников на поверхность планеты и вызвало потоп.) В Англии главным пропагандистом теории Прайса были Арнольд Лунн (в своей книге «Бегство от разума» он доказывал, что ни один биологический вид не имеет никакой генеалогической связи с другими) и энергичный антиэволюционист Хиллер Беллок (его энергия могла сравниться только с его невежеством). Но, конечно, куда большую известность получили нападки на эволюцию знаменитого писателя (и ближайшего друга Беллока) Гилберта Честертона. В своей книге «Вечный человек» Честертон использовал все свое прославленное остроумие, чтобы убедить читателей, будто между человеком и животными лежит непроходимая пропасть. Человек разговаривает, смеется, рисует, шьет одежду, испытывает угрызения совести, верит в Бога, наконец, — а животные ничего этого не умеют. Разве это не доказывает, что между ними и нами не может и не могло быть никакого промежуточного звена? Никто почему-то не спросил Честертона, почему он не сравнивает своего «человека» с новорожденным ребенком: тот тоже не говорит, не рисует и не верит в Бога. А главное — не шьет! Потому что всему этому он научается в ходе своей эволюции во взрослого. Почему бы такой эволюции не быть причиной превращения обезьяны в человека? Вся эта борьба окончилась молчаливой капитуляцией религии. В 1950 году папа римский специальной энцикликой предостерег верующих от признания того, будто «происхождение человеческого тела из предсуществующей и живой материи является доказанным фактом», но… разрешил каждому из них верить в это, если тот пожелает. Многие верующие были сбиты с толку двусмысленностью энциклики, и большинство из них продолжало и продолжает придерживаться религиозной догмы о Творении. И точно так же продолжают появляться бесчисленные книги, в которых предлагаются все новые и новые доказательства этой догмы{1}. Упомянем только одно из них — самое, пожалуй, занятное. В книге «Бог или горилла» некто Альфред Мак-Канн написал не так давно, что «Дарвин ошибался, выводя человека из обезьяны, и доказательством его ошибки может служить найденный мною отпечаток обутой человеческой ноги в отложениях триасового периода. Этот отпечаток показывает, что уже первые люди ходили в обуви!» Рядом был приведен фотоснимок, на котором даже начинающий геолог без труда мог бы опознать самую обычную и вполне естественную вмятину в скальной породе, ничего общего с отпечатком подошвы не имеющую. Не будем, однако, торопиться с насмешками в адрес незадачливого Мак-Канна. А мы разве лучше? А разве многие из нас не передавали друг другу вычитанную у какого-нибудь Казанцева историю об обнаружении в Индии «нержавеющей стальной колонны многотысячелетней давности, изготовленной самым современным методом — методом порошковой металлургии»? И разве не обсуждали после этого, с пылом и страстью, возможность того, что «древним были доступны скрытые тайны и они обладали неизвестным нам знанием»? (Хотя, как выяснилось, «колонна» во дворе делийской мечети Кувват уль-ислам и не стальная, и благополучно ржавеет, и дата изготовления на ней отлита.) Да что там — многие и сегодня верят, что какая-нибудь мадам Блаватская или «тибетские монахи» в своем скрытом от человечества городе Шамбала сохранили это неведомое людям «Тайное знание» (именно так называется главный труд Блаватской) и ждут не дождутся передать его нам. А многие (вслед за той же Блаватской) уверяют, что у них это знание уже имеется и что с его помощью они готовы исцелять нас от любых болезней (долой конвенциональную медицину вместе с теорией эволюции и прочей наукой!), открывать нам наше будущее (на свалку причинность!), передавать наши мысли на расстояние (на свалку радио!), передвигать предметы силой собственной воли (физику — за борт), запечатлевать на фотографиях свою ауру (а то кто-то там сомневался, что душа существует!) и вообще гнуть вилки, не прикасаясь к ним, и водить машины с завязанными глазами. И мы им верим, вот что интересно. Даже университетские дипломы нам не мешают. Чем это лучше, чем верить в питекантропа в галошах на волосатую ногу или в Божественное происхождение Адамова пупка? >ГЛАВА 5 ЧУДЕСА И ВЕРОЯТНОСТИ Излечение больных — это основная форма, которую принимают чудеса в иудаизме и христианстве, как, впрочем, и в других религиях. При этом чаще всего чудеса связываются с молитвами, которые приносятся в местах поклонения. В католических регионах Европы, а также в некоторых исламских странах такое паломничество к святым местам в целях выздоровления по сей день остается массовым явлением. Но только относительно недавно были сделаны попытки проверить и оценить чудеса, которые молва связывает с этими местами. Одно из самых известных и посещаемых святых мест в христианской Европе — знаменитый Лурд — небольшой городок в юго-восточной Франции. Если верить легенде, именно здесь в 1858 году бедной пастушке по имени Бернадетта начала являться Дева Мария (это происходило в той пещере вблизи деревни, на месте которой сейчас построен грандиозный двухуровневый храм). В то время как местные власти пытались опровергнуть утверждения Бернадетты, крестьяне безоговорочно поверили ее рассказам, и через несколько месяцев в эту деревню в предгорьях Пиренеев начали прибывать первые паломники. Сегодня Лурд ежегодно посещают примерно 5 миллионов верующих, которые оставляют в городе свыше полутора миллиардов франков, потраченных на еду, жилье и религиозные сувениры. Больные начали прибывать в Лурд в значительных количествах уже в 1875 году. Почти сразу же некоторые из них стали утверждать, что сочетание молитвы и погружений в воды святого источника (открытого Бернадетте в ее видениях) чудесным образом повлияло на их здоровье. 8 лет спустя в городе была основана специальная медицинская комиссия для проверки этих утверждений. Ей было вменено в обязанность проверять все подобные заявления и отсеивать те из них, которые могли привести к подрыву веры в особые силы святого места — то ли вследствие искреннего заблуждения, то ли в результате преднамеренного обмана. Это должно было защитить святыню от скептиков, в которых никогда не было недостатка. (Так, знаменитый французский романист Эмиль Золя насмешлива спрашивал, почему среди костылей, отброшенных «исцелившимися», не было ни одной деревянной ноги.) Сегодня в Лурд ежегодно прибывает около 80 000 больных в надежде обрести чудесное исцеление. С 1862 по 1999 год в Лурде было зарегистрировано 6700 случаев таких исцелений. Однако католическая церковь признала чудесами лишь 66 из них, то есть около 1 процента. Иными словами, каждый год в Лурде объявляют себя исцелившимися примерно 50 человек, но признается действительно чудесно исцеленным только один человек за два года. Кстати, это распределение чудес во времени не остается постоянным: их число резко падает в последние десятилетия, и, например, за последние 40 лет Ватикан признал чудом всего 4 — исцеления, что составляет примерно одного на миллион (!) больных, посетивших Лурд за это время. Этот неумолимый и быстрый спад «чудопроизводства» объясняется, скорее всего, огромным прогрессом современной медицины. Медицинская наука играет центральную роль в том дотошном расследовании, которому подвергается каждый случай возможного чудесного выздоровления. И в результате такого расследования большинство этих случаев находят вполне рациональное медицинское объяснение. Руководство католической церкви, которое весьма дорожит репутацией столь популярного святого места, как лурдский храм Девы Марии, опирается на эти заключения ученых в своем решении признать или не признать те или иные исцеления чудесными и, соответственно, удостоить или не удостоить того, кому молился исцеленный «беатификации» (провозглашения блаженным) или «канонизации» (провозглашения святым). А вот последняя (из опубликованных) сводка с фронта лурдских чудес. В 1999 году объявили о своем чудесном исцелении 19 человек. По сообщению нынешнего главы медицинской комиссии Патрика Теллье, 6 из этих случаев были признаны заслуживающими дальнейшего рассмотрения: одно ущемление диска, два рака яичника, рак груди, глухота и поражение кожи. Заслуживающими дальнейшего рассмотрения признаются лишь такие случаи, которые отвечают критериям, сформулированным папой Бенедиктом XIV еще в XVIII веке. Прежде всего исходная болезнь должна иметь точный и надежный диагноз и сопровождаться инвалидностью. Далее, исцеление должно быть внезапным, «на месте» и без какого-либо дополнительного медицинского вмешательства. Оно должно быть также полным, то есть полностью и навсегда возвращающим исцеленному нормальное здоровье. Подлежат рассмотрению любые заболевания, кроме психических, которые трудно точно-диагностировать и излечение от которых трудно оценить. Случаи исцеления, переданные на рассмотрение комиссии, проверяются самым придирчивым образом. Вначале пациент подвергается обследованию лурдскими врачами, которые фиксируют его состояние после «чуда». Попутно комиссия выясняет все детали его предшествующей болезни у лечащего врача по месту жительства. Затем пациента отправляют домой с тем, чтобы он в течение года подвергался медицинскому наблюдению. Через год он возвращается в Лурд на повторное обследование: На этот раз им занимаются члены лурдской Международной ассоциации врачей. В общей сложности до 250 разных докторов всесторонне осматривают, исследуют, изучают и наблюдают кандидата в «чудесно исцеленные» на протяжении целых трех лет. И лишь при условии, что случай выдерживает все эти проверки, он передается в Международную комиссию экспертов, состоящую из 20 человек, которые голосуют, признать ли его окончательно необъяснимым с точки зрения сегодняшних научно-медицинских познаний. Последнее (на местном уровне) слово в провозглашении исцеления чудесным принадлежит исключительно епископу той епархии, где проживает пациент. Епископ и его советники решают, имеет ли исцеление особое значение, достаточное для укрепления веры в Бога у свидетелей чуда, включая самого исцеленного. После этого дело передается в Ватикан, где решается, достоин ли человек, которому молились о выздоровлении, звания блаженного или святого. Одной из таких святых была объявлена монахиня Катарина Дрексель, умершая в 1955 году. Наследница большого банковского состояния, она отказалась от богатства и посвятила свою жизнь религии, а также образованию угнетенных негров и индейцев. В 1988 году она была беатифицирована, т. е. получила титул блаженной. Нынешнее решение провозгласить Катарину святой было принято в результате чудесного исцеления от глухоты 7-летней девочки, мать которой, отчаявшись найти помощь у врачей, пришла с ней в Лурд и взмолилась о заступничестве к сестре Катарине, после чего обнаружила, что ее дочь внезапно и полностью исцелилась. Весь легион медицинских экспертов, консультирующих Ватикан, не смог дать однозначного ответа на вопрос, является этот случай следствием молитвы, естественных причин или простого совпадения того и другого. Результаты расследования экспертной комиссии заняли 700 страниц, содержащих всю историю болезни девочки, интервью с лечившими и проверявшими ее врачами, свидетельства друзей и родственников по поводу ее болезни и выздоровления, а также мнения о времени и природе предполагаемого святого заступничества. Затем этот том был передан Коллегии теологических консультантов, 9 членов которой оценили меру связи между молитвой и внезапным исцелением. В дополнение к этому было проведено также голосование среди епископов и кардиналов. И только тогда рекомендация о признании данного случая чудом была передана папе, которому, как всегда, принадлежит последнее слово. (Кстати говоря, недавно умерший папа Иоанн Павел Второй с 1978 года беатифицировал 984 и канонизировал 296 человек — больше, чем любой из его предшественников.) Развитие медицины влияет на весь этот процесс принятия решений в целом ряде аспектов. Современная медицина и сама способна производить «чудеса», а поскольку больные, как правило, проходят лечение до того, как приходят в Лурд, их исцеление здесь может быть просто отсроченным результатом предыдущего лечения. Так, медицинская комиссия расследовала однажды случай выздоровления женщины с тяжелым полиартритом, который изуродовал большинство ее суставов; пройдя лурдские ритуалы, она снова смогла двигаться. Но поскольку она перед этим принимала лечение кортизоном, комиссия не признала ее излечение «однозначно необъяснимым». Учет предшествующих лечебных процедур существенно уменьшает число претендентов на чудесное исцеление. На принятие решений оказывает влияние и новая медицинская технология. С одной стороны, она усложняет вынесение медицинского вердикта, поскольку весь процесс проверки занимает теперь больше времени, проходя многочисленные лабораторные тесты и клинические испытания. Но те же новые методы зачастую, помогают облегчить принятие решений. Врачи получают доступ к информации о всякого рода — случаях неожиданного излечения, не связанных ни с какими чудесами. Например, такие случаи иногда, хотя и редко, происходят в результате спонтанной ремиссии болезни. (Это может быть в действительности внезапным проявлением длительного скрытого процесса.) Имея доступ к Интернету, лурдские врачи получают информацию о таких событиях, и это позволяет им сравнить свои (довольно немногочисленные) случаи с большим числом аналогичных. Новые методы позволяют также исключить самые распространенные случаи ошибочной или сомнительной диагностики. Поучителен в этом плане случай одного француза, страдавшего рассеянным склерозом и излечившегося в результате посещения Лурда в 1987 году: лурдская комиссия, проверявшая этот случай уже в 90-е годы, смогла подтвердить факт его выздоровления с помощью магнитно-резонансного метода, но не смогла проверить, правилен ли был его диагноз, поскольку в 80-е годы этот метод еще не существовал и лечащий врач основывался исключительно на симптомах; комиссии пришлось признать этот случай «медицински необъяснимым». (Впрочем, епископ, которому был направлен этот вердикт, понял сомнительность исцеления и нашел формулу, позволявшую обойти упоминание о чуде, объявив выздоровление больного «личным даром Господа».) Этот случай особенно наглядно иллюстрирует главное в проблеме «чудесных исцелений». Их «чудесность» всегда определяется сиюминутным уровнем медицинских знаний и возможностей. То, что комиссия еще 10 лет назад вынуждена была бы счесть «медицински необъяснимым», сегодня или завтра перестает быть таковым и получает вполне естественное объяснение. Еще недавно, например, не было известно, что человеческие гены, от которых зависит состояние организма, могут порой менять свою активность «сами по себе», по неизвестной (пока) причине приводя к результатам, которые лишь вчера могли бы быть восприняты как чудо. Впрочем, это развитие медицины влияет скорее лишь на признание или непризнание церковью того или иного «чудесного» исцеления ситуации с самими чудесами оно не меняет. Лурдские чудеса продолжают в равной степени убеждать верующих и вызывать недоверие скептиков. >ГЛАВА 6 МЕТАФИЗИКА ЗАКОНА МЭРФИ Герой одного из американских телесериалов, преследуемый бесконечными неприятностями, в конце концов восклицает: «Ну почему, почему все шишки валятся именно на меня? За что?» Со времен Иова люди пытались по-всякому ответить на этот вопрос. Самой забавной попыткой такого ответа, несомненно, является так называемый закон Мэрфи. Закон этот, как известно, гласит (в одном из переводов): «Все, что может пойти наперекосяк, обязательно пойдет наперекосяк». Эта унылая уверенность в злокозненности всего сущего вызывает у нас невольную улыбку, но улыбаемся мы как-то судорожно, словно и впрямь подозреваем, что так оно и есть. С одной стороны, у нас вроде бы нет никаких оснований предполагать, будто все мелкие гадости природы и в самом деле обусловлены какой-то космической «закономерностью», а с другой, кто же, в очередной раз, столкнувшись с досадной незадачей, не восклицал: «А что я говорил!»? В чем же кроется источник этого нашего фаталистического недоверия к окружающему миру? Не разъяснят ли нам это как раз закон Мэрфи и его бесчисленные насмешливые следствия? Профессор религиоведения из университета Нью-Джерси Роберт М. Прайс предпринял недавно попытку проанализировать метафизическую, так сказать, сторону всех этих законов, иными словами, тот взгляд на устройство бытия, который в них — когда подспудно, а когда вполне откровенно — выражен. Оказалось, что у всех этих вызывающих нашу улыбку высказываний есть свой общий и весьма глубокий подтекст. Прежде всего, говорит профессор Прайс, совокупность всех следствий, выведенных из основного закона Мэрфи, нетрудно разделить на три большие и, в сущности, очень разные, группы. Первая из них на самом деле характеризует не столько окружающий мир, сколько попросту нашу человеческую природу. Ну о чем, к примеру, говорит так называемый второй закон Финагля: «Каков бы ни был ожидаемый результат, всегда найдется кто-нибудь, кто его переврет, подделает или припишет себе»? Да ведь это самая элементарная констатация того печального факта, что среди людей полным-полно дураков, жуликов и завистников. О том же неизбывном и неприглядном аспекте человеческого бытия говорит, в сущности, и закон Чизолма: «Если ваше объяснение абсолютно исключает возможность неправильного толкования, обязательно найдется человек, который истолкует его неправильно». А восьмое следствие из закона Мэрфи формулирует это уже совсем откровенно: «Невозможно изобрести абсолютную защиту от дурака, потому что дураки невероятно изобретательны». Иными словами, определенную часть всех наших житейских неприятностей доставляют нам вовсе не какие-то злокозненные демоны, а просто наши же собратья по человеческому роду. Вторая группа следствий из закона Мэрфи — это, по сути, юмористическая перефразировка известного закона энтропии, или, как его еще называют, второго закона термодинамики. Напомним читателю, что этот закон утверждает, что состояние любой замкнутой физической системы всегда меняется так, что порядок и организация в ней неизбежно сменяются нарастающим хаосом и беспорядком. И действительно, перелистав книжки, посвященные закону Мэрфи, нетрудно обнаружить там множество высказываний, иносказательно формулирующих это же самое утверждение, только на более житейский лад. В самом деле, разве не об этом гласит, например, закон Симона: «Все, что удалось составить, рано или поздно обязательно развалится»? Или пятое следствие из закона Мэрфи: «Предоставленные сами себе, дела имеют склонность становиться из плохих худшими»? А так называемый «закон сохранения социального зла» попросту переносит ту же закономерность на все наши благие намерения по части общественного переустройства, утверждая, что «общее количество социального зла всегда остается неизменным и поэтому, скажем, уменьшение безработицы обязательно влечет за собой что-нибудь вроде увеличения преступности». Все это, конечно, достойно сожаления, но ничего загадочного или мистического здесь явно не обнаруживается. Так уж устроен мир. Настоящая проблема, говорит профессор Прайс, возникает при переходе к законам третьей группы. Он предлагает назвать их «законами негативной синхронности». Это странное и на первый взгляд непонятное название связано с одной теорией знаменитого швейцарского психолога Карла Густава Юнга. Об этой его работе мы скажем чуть погодя, а сейчас объясним, какие именно законы Прайс предлагает выделить в отдельную группу и почему к «законам негативной синхронности» он относит все те высказывания типа закона Мэрфи, которые, в отличие от законов первых двух групп, представляются отражением некой реальной закономерности природы, а конкретней говоря — того тревожного факта, что в определенных случаях природа ведет себя так, словно и впрямь стремится помешать всем нашим намерениям. Вещи ведут себя так, будто находятся в явном сговоре против нас. В сущности, это утверждает уже и сам основной закон Мэрфи: «Если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк». Но ту же мысль выражает и третье следствие закона: «Если может произойти несколько неприятностей, то произойдет та из них, которая причинит наибольший ущерб». О наличии «космического сговора» говорят и многие другие законы. Например, третий закон Джонсона: «Если в вашей подшивке недостает какого-то номера журнала, то это обязательно окажется номер с самой важной для вас статьей»; или, четырнадцатое следствие Атвуда: «На библиотечной полке будут все книги, кроме той, которая вам больше всего нужна»; или закон Буба: «То, что вы ищете, всегда находится там, куда вы заглядываете в последнюю очередь»; или, наконец, замечательное своей всеобщностью и выразительной точностью «дополнение Дженнингса к закону избирательной гравитации»: «Вероятность падения бутерброда на ковер намазанной стороной прямо пропорциональна стоимости ковра». Что же такое выражают собой все эти пессимистические утверждения? — спрашивает профессор Прайс. С одной стороны, все перечисленные выше житейские неприятности никак нельзя объяснить законом роста энтропии, то есть беспорядка: если здесь и можно говорить о «нарушении порядка», то лишь в том случае, если «порядком» мы условимся называть только то, что приятней нам самим — например, чтобы нужный номер журнала оказался в подшивке, нужная книга — на полке, затерявшийся предмет — прямо перед носом, и если уж бутерброду приспичило упасть на ковер, пусть падает ненамазанной стороной. Вот это, с нашей точки зрения, будет «в порядке». Природа, однако, все эти наши претензии не признает: с ее точки зрения, физический порядок (или, если угодно, беспорядок) в системе «ковер — бутерброд» будет совершенно одинаковым, упадет бутерброд намазанной или не намазанной стороной, — ковру это абсолютно без разницы. Но, может быть, все дело тут опять же в наших человеческих особенностях? Может, «закон избирательной гравитации» — это попросту «закон избирательной памяти»? Все те случаи, когда бутерброд падает ненамазанной стороной, мы немедленно забываем: ведь ничего плохого не произошло; зато испачканный ковер запоминаем, естественно, надолго. Вот в результате нам и кажется, что нас непрестанно подстерегают одни только неприятности: все бутерброды имеют некую злобную склонность «всегда» падать маслом на ковер! Если дело всего лишь в этом, то законы, которые мы вслед за профессором Прайсом торжественно назвали «законами негативной синхронности», были бы просто отражением того тривиального факта, что мы склонны забывать все хорошее и, напротив, запоминать всё дурное; иными словами, они сводились бы к тем же законам первой группы, которые описывают все прочие не самые замечательные особенности нашей натуры. Увы, говорит профессор Прайс, такое объяснение слишком поверхностно. Попробуйте напрячь свою память и припомнить, сколько раз в жизни вам случалось уронить бутерброд ненамазанной стороной? То-то! Нет, неприятности явно доминируют. И поэтому следует присмотреться к законам третьей группы более внимательно. А заодно уж и объяснить, почему они объединены под названием «законов негативной синхронности». Тут нам придется на время прервать нить рассуждений американского профессора и обратиться к самому термину «синхронность». В психологию его впервые ввел уже упомянутый выше Юнг. Одна из загадок, которые всю жизнь занимали этого психолога, состояла в том, как объяснить всевозможные «реальные совпадения» вроде вещих снов, услышанных Господом молитв, магических исцелений, исполнившихся предсказаний и тому подобных чудес. Юнг относился ко всем этим явлениям весьма серьезно, но отвергал те сверхъестественные объяснения, которые им обычно давались. Его любопытство еще более провоцировалось тем, что он и сам знавал такие случаи в своей собственной жизни (да и кто их не знавал?! — или хотя бы о них не слышал?!). Он, например, описывает одну свою пациентку, которой снилось, что она получила в подарок золотого жука. В тот самый момент, когда она рассказывала ему этот свой сон, Юнг вдруг услышал негромкое постукивание чьих-то лапок по оконному стеклу. Он глянул в окно и увидел жука, который пытался проникнуть в комнату. Жук этот был в точности похож на того, которого описывала пациентка. Юнг признавал, что, все эти явления относятся к разряду «совпадений» — в том смысле, что между ними нет никакой причинно-следственной связи. Тот факт, что пациентке снился жук, никак не мог повлечь за собой появление жука на оконном стекле, это очевидно. С чем, однако, Юнг не соглашался, так это с тем, будто такие совпадения случайны — в том смысле, что ничего собою не выражают и никакого значения не имеют. Напротив, он был убежден, — что среди всей массы действительно случайных, ничего не значащих совпадений попадаются и такие, которые выражают некую реальную связь, существующую между нашими психологическими состояниями и тем, что происходит или может произойти в окружающем физическом мире. Иными словами, существуют, говорил он, «значимые совпадения» — они «что-то значат». Они значат, или, точнее, они доказывают, что между содержимым нашей психики и событиями природы существует некая «синхронность». «Само но себе это слово, — писал Юнг, — еще ничего не объясняет; оно просто фиксирует факт появления «значимых совпадений» (то есть синхронного, практически одновременного появления каких-то состояний — снов, «озарений», предчувствий и т. п. — в психике и каких-то сходных с этими снами, предчувствиями и т. д. событий в реальности. — Р.Н.). Эти совпадения, с одной стороны, конечно, случайны, но, с другой, настолько маловероятны, что приходится предположить существование за ними какого-то объективного закона, какой-то реальной особенности окружающего мира, запечатленной и время от времени всплывающей в нашей психике». После долгих размышлений над смыслом этих совпадений Юнг пришел к выводу, что правы были те древние мыслители, которые утверждали, что между внутренним миром человека (его «психикой») и внешним миром природы (ее «физикой») существует определенное гармоническое единство. По мнению Юнга, эти два мира, микрокосм и макрокосм, объединены через так называемые архетипы. Этим словом Юнг обозначил некие смутные праобразы, или сгустки невыразимых идей, таящиеся на самом глубоком уровне человеческой психики — на уровне так называемого «коллективного бессознательного». По Юнгу, это уровень общечеловеческой наследственной памяти. Но архетипы, утверждал Юнг, — совсем не то же самое, что обычные воспоминания, которые откладываются в памяти каждого отдельного человека за время его жизни. Было бы точнее сказать, что архетипы — это «воспоминания» или «догадки» о каких-то предельно общих закономерностях окружающего мира, некогда уловленных первобытным человеком в ходе его неосознанных наблюдений за природой и космосом. Иными словами, архетипы — это что-то вроде платоновских «чистых идей», которые существуют сами по-себе, до всяких конкретных вещей; это «закономерности как таковые», которые первобытная психика в невообразимо далеком, архаическом прошлом неосознанно «извлекла» из мира конкретных явлений и запечатлела на самом первом этаже человеческой памяти. Поскольку эти «сгустки чистых идей» выражают объективные законы мира, все первобытные люди извлекали из наблюдений за окружающим миром одни и те же сгустки, одни и те же архетипы — вот почему «склад» этих идей Юнг и назвал «коллективным бессознательным»: набор таких архетипов — один и тот же для всего человечества. Примером такого общего достояния является, скажем, присутствующий в самых разных религиях и мифах образ «богини-матери». Согласно Юнгу, этот образ порождается «архетипом бессмертия», который, в свою очередь, выражает ту реально существующую (и смутно уловленную когда-то первобытным сознанием) закономерность, что смена поколений, происходящая с помощью женщины, позволяет человечеству бесконечно продолжаться. Вот эта-то общая «идея бесконечного продолжения», только выраженная не в абстрактных понятиях, а в виде чувственно-образного архетипа, и вошла когда-то в общую кладовую архаических завоеваний человеческого разума; там она находится и сейчас. Когда мы сказали о «чувственно-образной» природе архетипа, мы просто хотели этим отличить его от абстрактного понятия. На самом деле архетип — это не вполне образ, во всяком случае — это не тот конкретный образ, каким является, например, образ богини-матери Геры или Богородицы Девы Марии. Он таится в «коллективном бессознательном» отнюдь не в виде готовой картинки. «Коллективное бессознательное» можно сравнить с насыщенным раствором какого-нибудь вещества; образ — с кристаллом, который вырастает из этого раствора, а архетип — с системой осей, с той геометрической структурой, в соответствии с которой располагаются атомы этого кристалла. Архетип — это не образ, а всего лишь та модель, та первосхема, в соответствии с которой психика бессознательно строит образ. Поскольку эта модель, эта «колодка», по которой «тачаются» все образы данного содержания, у всех людей одна и та же, то и все такие образы (скажем, той же богини-матери) будут иметь сходные структурные черты, хотя и могут бесконечно варьировать в конкретных деталях (ибо эти детали для постройки каждого конкретного образа психика берет уже из своего индивидуального «склада» воспоминаний). Именно существование такого единого закона построения данного класса образов (мифов, символов и т. п.), то есть существование их общего, универсального праобраза («архетип», от греческого «архе» — начало и «типос» — образ, в дословном переводе означает как раз «праобраз»), и объясняет, почему в различных мифологиях, религиях и литературах появляются устойчивые общие мотивы (миф о потопе, образ «тени» или «двойника», мотив «андрогина» и многое-многое другое). Томас Манн, который очень близко принял к сердцу эти идеи Юнга, когда-то очень выразительно назвал архетип «издревле заданной формулой, в которую укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы». Очень важно, что, по Юнгу, эта «древняя формула», которая всплывает, воплощенная в виде образа или символа, из бессознательных глубин нашей коллективной архаической памяти, была выловлена первобытной психикой из окружающего мира и, стало быть, объективно соответствует некой реальной закономерности бытия. Это означает, что содержание некоторых сновидений или предчувствий (тоже ведь выносящих в сознание древние архетипы) имеет какие-то реальные параллели во внешнем мире. Иными словами, во внешнем мире обязательно существуют (и могут синхронно с нашим сновидением произойти) события, которые отражают ту самую закономерность, что запечатлена в архетипе, лежащем в основе этого «пророческого сна». Вот почему Юнг и писал, что «гипотеза синхронности, по существу, означает, что одно и то же трансцендентное значение может синхронно проявиться как в виде некого психического явления, так и в виде совершенно не зависимого от него явления внешнего мира». Грубо говоря, человеку может присниться, что он стал бессмертным, и одновременно в окружающем мире может произойти что-то такое, что свидетельствует о бессмертии человеческого рода, — например, рождение у этого человека ребенка. Физически это совпадение, конечно, случайно, но на более глубоком — метафизическом — уровне оно имеет определенный смысл: оно «значит», что мир (и его отражение в нашей психике) действительно содержит «идею бессмертия» (как реальную возможность). Эта-то идея неожиданно всплыла из нашего «коллективного бессознательного» в виде «вещего сна». Разумеется, нет ничего удивительного в том, что он оказался вещим: случайно здесь то, что совпадение с реальностью произошло именно в данном конкретном случае, но совершенно закономерно, что в каких-то случаях оно обязательно должно было произойти. «Значимые совпадения» неизбежны, потому что в структуре образов, порождаемых нашими архетипами, отражена структура бытия. В каких-то случаях сновидение и реальное событие, отражающие один и тот же закон мирового устройства, должны обязательно совпасть во времени (оказаться «синхронными»), и тогда мы говорим о «вещем сне». В действительности это архетип, вернувшийся в сознание в виде сновидения, вдруг осветил нам подлинное устройство окружающего мира, его скрытые закономерности, его «порядок». Я должен извиниться за столь пространное отступление. Оно вызвано тем, что об архетипах и гипотезе синхронности Юнга зачастую толкуют понаслышке, а их точное понимание играет существенную роль в нашем обсуждении третьей группы законов Мэрфи. Возвращаясь к ним, мы должны снова дать слово профессору Прайсу. Он очень точно назвал все эти неприятные журнально-бутербродные совпадения проявлениями «негативной синхронности». Ведь и тут наши предчувствия «синхронны» с происходящими вслед за тем реальными событиями, только в данном случае эти события сплошь «негативны». Для нас, разумеется. Как же это понимать? Можно, конечно, сказать, что эта «негативная синхронность» вызвана тем, что в природе действительно существует та «злонамеренность» по отношению к нам, о которой говорят наши мрачные предчувствия, — иными словами, совпадения предчувствий с фактами порождены тем, что Господь играет с нами в коварные игры. Но разве не воскликнул когда-то с глубоким убеждением Эйнштейн, что «Господь Бог изощрен, но не злонамерен»?! Не станем же мы вслед за параноиками радостно восклицать, что «весь мир сговорился против нас»! Не такие уж мы, в конце концов, важные персоны для Господа Бога! Куда скромнее будет признать, что «негативные совпадения», описываемые третьей группой законов Мэрфи, в отличие от «значимых совпадений» Юнга, никакого скрытого смысла в окружающем мире не открывают, потому что такого смысла, какой мы им приписываем, в этом мире попросту нет. Но почему же мы все-таки склонны приписывать законам третьей группы этот зловещий смысл? По мнению профессора Прайса, это объясняется одной важной особенностью человеческой психики. Антропологи и психологи, говорит он, давно уже отметили, что людям свойственно жгучее желание обнаружить надежную предсказуемость (то есть, по существу, закономерность) во всем, что их окружает. Иными словами, им свойственно понятное желание знать, что их ожидает. В книге Густава Ягоды «Психология суеверий» приводится множество примеров того, как настойчиво цепляются люди за веру во всякого рода гороскопы, гадания и предсказания, даже вопреки многочисленным разочарованиям. Да мы и сами видим вокруг сотни тому примеров. Что же привлекает людей к этому способу ориентирования в окружающем мире, если способ этот столь явно недостоверен? Можно думать, что причиной тому являются случайные совпадения. Если даже данное заклинание, магическое действие или предсказание срабатывают лишь в половине случаев, это все равно дает человеку ощутимое психологическое облегчение. Все-таки почувствовать себя хотя бы наполовину «зрячим» в отношении будущего — совсем не то, что ощущать себя совершенно «слепым»! Но как, тем не менее, быть со второй половиной, когда данное заклинание или предсказание оказываются ошибочными? Нам обязательно нужно это «объяснить» — ведь иначе придется признать, что и прежние «удачи» были всего лишь случайными и никакой особой силы во всей этой мистике нет. А на это мы не согласны. Поэтому мы начинаем придумывать неудачам «рациональные» объяснения. Чудотворное средство не могло не сработать «просто так» — ведь сработало же оно в остальных случаях. Значит, была какая-то сила, которая действовала против нас! Чакры не открылись не потому, что никаких чакр нет вообще, а потому, что кто-то «злонамеренно» помешал им открыться. Бутерброд упал маслом на ковер не просто так, а потому, что подействовала «злая сила». Вера в существование такой силы сопровождает человечество с древнейших времен. Уже у древних греков была особая богиня (ее звали Эрис или Эрит), которая якобы непрерывно творит беспорядок, причем злонамеренно и коварно. Это же надо: придумать божество, которое управляет… беспорядком! Мы настолько боимся признать органически присущую природе непредсказуемость и случайность, что даже беспорядок возводим в некий порядок! Закон Мэрфи, заключает профессор Прайс, — это наша современная версия богини Эрис. В действительности нас должно было бы удивлять, что нам вообще удается что-либо осуществить в этом хаотическом и беспорядочном мире. Вместо этого мы приписываем этому миру некий желанный нам «внутренний порядок», воображаем, будто он устроен в полном соответствии со всеми нашими желаниями, а потом требуем объяснений, почему бутерброд куда чаще падает намазанной стороной и почему вообще «все, что может пойти наперекосяк, обязательно идет наперекосяк». Объясняя этот досадный факт скрытой злонамеренностью Вселенной и ее умышленным коварством! мы, конечно, не предотвращаем этим очередное падение бутерброда маслом на ковер, но, по крайней мере, утешаем себя тем, что «нашли» какую-то «закономерность». Ведь теперь мы уже не пребываем в ужасном неведении! Теперь мы уже «знаем», в чем «истинная» причина всех наших неприятностей! И теперь мы уже можем смело улыбнуться вместе с Мэрфи: молоток опять попал по больному пальцу? А что мы вам говорили?! Если что-нибудь может произойти не так, «как надо», оно обязательно произойдет именно не так, как надо, это же закон природы, его еще Мэрфи открыл… >ГЛАВА 7 ПСИХОЛОГИЯ СУЕВЕРИЙ, ИЛИ ТОСКА ПО УТРАЧЕННОЙ ГАРМОНИИ IЭтот очерк родился по читательской просьбе. Случилось так, что в одной из предыдущих статей («Метафизика закона Мэрфи») был бегло затронут вопрос о суевериях, и один из читателей, Игорь Губерман, автор повсеместно известных «гариков» (а в другой своей ипостаси — автор нескольких не менее известных научно-популярных книг по психологии), попросил меня рассказать об этом более подробно. Мне показалось, что эта просьба заслуживает внимания. Действительно, представляется порою странным, что в наши, казалось бы, предельно рационалистические времена распространение суеверий приобрело самые массовые масштабы. Достаточно вспомнить о мильенаристских и прочих апокалиптических пророчествах наших дней, а также о возродившемся массовом интересе к давним пророчествам Нострадамуса. Но проблема не исчерпывается одним лишь увлечением мистическими предсказаниями. Современные суеверия причудливо объединяют плохо переваренные гипотезы нынешней науки со столь же мистическим толкованием прошлого и настоящего. Приведу лишь один из сотен тысяч возможных примеров. Сравнительно недавно мне довелось прочесть статью некого молодого поклонника «нового каббалистического учения» рава Бэра, в которой вполне серьезно рассказывалось, что, стоя у горы Синай в ожидании Моисея, отправившегося на гору за скрижалями Завета, древние евреи были заняты тем, что соединяли проволочки, сооружая из них «электронную машину» для извлечения положительной астральной энергии из космоса. Поначалу рассуждения этого молодого человека поразили меня своим диким невежеством — чего стоят одни эти «проволочки» и «электронные машины» времен фараонов! Но затем, однако, я задумался. Вера автора в свой рассказ была ощутимо искренней. Что порождает эту веру? Что порождает веру миллионов других людей в аналогичные рассказы? Глубокая эмоциональная основа всех этих суеверий несомненна. Люди готовы с пеной у рта отстаивать то, что нам представляется заблуждением. Почему? На Западе существует Международное общество скептиков (и соответствующий журнал). Оно ставит своей целью научный анализ и опровержение всевозможных суеверий. Состоящие в обществе, кажется, убеждены, что такое рационалистическое просветительство принесет желанные плоды. Чем больше я сталкиваюсь с реальными носителями суеверий, тем больше начинаю сомневаться в успехе этой затеи. Люди могут работать на компьютерах и в то же время стучать по дереву от «сглаза». Тот же Игорь Губерман рассказывал мне, как в одной из российских деревень в современной избе, где стояли телевизор, холодильник и стиральная машина, ему довелось услышать рассказ о порче, которую местная ворожея наводила на молодого парня. В современной Англии каждый шестой взрослый верит в духов и каждый третий хоть раз да побывал у гадалки. Две трети англичан регулярно читают газетные гороскопы. В Германии цифры те же, в Северной Италии они даже выше. В одном из специально поставленных опытов 37 человек из 51 старались обойти приставленную к дому лестницу снаружи, а не пройти под ней, хотя, обходя ее, они вынуждены были выходить на мостовую, где риск попасть под машину был вполне реален — во всяком случае, реальнее, чем та сомнительная беда, которую могло вызвать прохождение под лестницей. Все это означает, что суеверия — вовсе не результат невежества. Это не привилегия первобытного или дикарского сознания. Скорее это глубокая психологическая потребность человека. Думается, следовало бы начинать не с «борьбы» с суевериями, а с попытки понять их происхождение, их психологическую и социальную роль в нашей жизни. Конечно, «искоренению» суеверий это вряд ли поможет, но, во всяком случае, вооружит нас небесполезным знанием. В том числе и знанием о самих себе. В надежде на это я вооружился терпением и проштудировал некоторые книги. Результатами этих штудий я и попытаюсь поделиться. А начну с поразившей меня исторической параллели. В книге итальянского исследователя Карло Гинцбурга «Ключи, мифы и исторический метод» я натолкнулся на описание инквизиционного процесса против жительницы города Модена Чиары Монсиньори. Дело было в 1519 году. Соседи обвинили Чиару в ведьмовстве. Инквизитор взялся за нее круто. Он действовал по всем правилам инквизиционного ритуала. Допросы следовали за допросами, и постепенно госпожа Монсиньори «раскалывалась». Она признала, что ей были видения Богоматери; признала, что, скорее всего, то была не Богоматерь, а дьявол; признала, что он наущал ее заниматься ворожбой и порчей; и только в одном продолжала упорствовать — ни за что не признавала, что участвовала в дьявольской черной мессе и напрямую сношалась с сатаной. Это спасло ей жизнь: инквизиционный трибунал решил, что ее покаяние искренне, и осудил ее всего лишь на пожизненное заточение в госпитале, где она должна была помогать бедным и больным. Граждане Модены с удовлетворением восприняли разоблачение злостной ведьмы и вынесенный ей приговор. Другой пример я почерпнул из этнографических наблюдений над обычаями угандийского племени Бвамба. Женщина Бвамба рассказала исследователю, как ее мать была обвинена в ведьмовстве своими соседями. Сначала по деревне прошел слух, что кто-то из жителей наводит порчу на людей. Был призван местный колдун, который с помощью принятого в племени ритуала «нашел» виновную. После этого (тоже в соответствии с ритуалом) было проведено расследование. Женщина призналась и покаялась. Она взяла свою ворожбу назад и была помилована. Жители села с удовлетворением восприняли выявление ведьмы и ее раскаяние. Модена XVI века и деревня племени Бвамба XX века разделены огромной культурной и цивилизационной пропастью. Тем не менее структура обоих случаев удивительно одинакова. И там, и тут обвинения в ведьмовстве отражали уверенность жителей в том, что источником постигших их неприятностей является чья-то злая воля. И там, и тут выявление и расследование происходили в соответствии с установленными ритуалами, причем ритуалу следовали не только обвинители, но и сами обвиняемые, которые признавали свою вину. И там, и тут разоблачение и наказание виновных привело к устранению источника конфликта и к восстановлению (хотя и временному) прежней социальной гармонии. Наконец, и там, и тут сама возможность такого процесса над ведьмой была обусловлена наличием глубоко укорененной в данном обществе веры в существование и злокозненную силу ведьм как таковых. В этих двух примерах представлены все главные аспекты интересующей нас проблемы. Сразу видно, что суеверие, будучи приметой индивидуальной психологии, одновременно является социальным явлением. Суеверие в коллективе играет не только «отрицательную», но зачастую и явно положительную роль. Оно коренится в каких-то особенностях мышления, которые не очень зависят от исторического периода, места, культуры и тому подобных частностей. Более того, то, что нам кажется очевидным суеверием, отнюдь не кажется таковым его носителям, а порой и всему обществу в целом. Понятие суеверия относительно. А порой то, что мы убежденно считаем суеверием, со временем оказывается даже вполне достоверным фактом. Образованные люди Англии смеялись над методами «народной медицины», а Дженнер использовал их для создания вакцины против оспы. Образованные посмеивались над поверьями, будто на развитие плода влияет то, что видит и переживает мать, а сейчас это общепризнано (хотя, разумеется, не в той почти смехотворной мере, как это считается в описанной выше дианетике). Открытие Рентгена тоже поначалу объявляли «мистикой». С другой стороны, анализ многих суеверий подчас показывает, что в них скрыта серьезная житейская мудрость. Тому же Губерману я обязан ярким примером такого мнимого суеверия: в русских деревнях принято, чтобы новобрачная входила в избу мужа с левой ноги; но этот обычай вынуждает ее более внимательно смотреть за своими шагами и предотвращает возможность споткнуться о высокий порог. Что же тогда вообще считать суеверием? Видимо, однозначного определения дать нельзя, и мы вынуждены примириться с относительностью этого понятия: суеверия — это те обычаи и поступки, которые представляются суеверными нам, современным, разумным и образованным западным людям, сегодня. Последнее добавление существенно. В свое время миссионеры называли суевериями буквально все обычаи дикарских племен. Англичане XVIII века считали предрассудками обычаи жителей континента. В «Словаре суеверий», выпущенном в начале нашего века, в числе прочих упоминаются такие «вздорные поверья», как агностицизм и социализм. Впрочем, с последним многие согласятся и сегодня. Может показаться, что существуют все-таки такие поверья, ложность которых может быть доказана однозначно. Увы, как бы много фактов ни накапливалось против какого-то убеждения (например, веры в существование лохнесского чудовища или в свойства «бермудского треугольника»), они не могут исключить возможности появления новых фактов, подтверждающих эту веру. Негативное доказательство, или доказательство отсутствия, никогда не может сравниться с доказательством позитивным, или доказательством наличия. Но и позитивное доказательство не всегда означает именно то, чем оно представляется. Положим, что мы провели специальное исследование: точно ли «понедельник 13-го числа» является «несчастливым днем». Вполне может выясниться, что в этот день действительно происходит больше несчастных случаев и неприятностей. Означает ли это, что данное сочетание является каким-то «мистическим»? Вовсе не обязательно. Ведь и суеверие, в свою очередь, тоже влияет на поведение человека. Если биржевые маклеры уверены, что понедельник или пятница, приходящиеся к тому же на 13-е число, являются несчастливыми, они постараются в этот день избавляться от акций, и показатель Доу-Джонса в этот день имеет все шансы упасть. Итак, точного определения понятия «суеверие» не решается дать ни один исследователь, кроме разве что самых заангажированных. Ограничимся поэтому субъективным ощущением и попробуем разобраться, нельзя ли хотя бы классифицировать суеверия. Один из читанных мною авторов (Ягода; в книге «Происхождение суеверий») такую классификацию намечает. Прежде всего он предлагает выделить широкий класс суеверий, связанных с космогоническими и космологическими представлениями, выросшими из языческих религий; это вера в наличие неких духов и т. п., которых нужно ублажать всевозможными магическими обрядами, ритуалами и заклинаниями. Сюда относится также вера в ведьмовство и колдовство. Эти суеверия занимают промежуточное место между собственно суевериями и религией. Далее идут обычаи и верования, которые также восходят к древней традиции, но уже не имеют внутренней связи и не образуют какой-то особой системы взглядов, а представляют собой разрозненный набор собственно суеверий вроде веры в дурной глаз или в приметы (рассыпанная соль, разбитое зеркало, черная кошка и т. п.) и действий, направленных на нейтрализацию их негативного влияния. Сюда относится также вера в народную (или иную экзотическую) медицину, в гороскопы, гадания и т. д. Эти суеверия создают почву для целой индустрии обслуживания — от торговли амулетами до астрологических компьютеров. Особняком стоят здесь группы людей, объединенных общим суеверием, но не зарабатывающих на нем, а всего лишь сотрудничающих в целях его распространения, — например, всех тех, кто верит в духов, летающие тарелки и т. п. Третью группу образуют мистические и оккультные переживания («видения», «голоса», «откровения») отдельных индивидуумов, а также чисто личные, «приватные» суеверия, которые не передаются окружающим и не играют никакой социальной роли (например, вера в то, что рубашка, в которой удалось успешно сдать предыдущий экзамен, поможет и на следующем). Эти суеверия распространены, пожалуй, даже больше, чем две предыдущие группы; во всяком случае, они присущи вполне образованным и во всем прочем здравомыслящим людям (как, впрочем, и подспудная вера в приметы или простейшие заклинания вроде сплевывания через левое плечо). Вообще, каждая группа суеверий имеет свое происхождение. Но исследователи издавна пытались и по сию пору пытаются найти некий общий источник всех и всяческих суеверий, и именно этими гипотезами мы и займемся в дальнейшем. Первая из них гласит, что суеверие есть результат ошибки. Гипотеза эта была выдвинута великими этнографами Фрэзером и Тэйлором. Они утверждали, что все суеверия возникли на дикарской стадии развития человечества и их причиной было неумение дикарей различать между естественным и сверхъестественным. Дикари, говорил Фрэзер, полагали, что подобное производит подобное, отсюда совершаемые ими магические процедуры над частью тела убитого животного или врага, т. н. «имитативная магия». Они вообще преувеличивали значение магических заклинаний и даже случайные совпадения принимали за причинно-следственную связь. Как писал известный психолог Вундт, «для дикаря вообще не существует причинности в современном понимании слова; у них только и есть что причинность магии». Но эта магия представляется им эффективной, добавлял он, в силу того эмоционального чувства, которое они вкладывают в свои магические ритуалы. Ученик Вундта Леман пытался найти те психологические факторы, которые могли порождать и из-за ошибок восприятия и определенной настроенности наблюдателя. Свой общий вывод он сформулировал так: «Все эти суеверия имеют в зародыше то или иное ложное толкование реального наблюдения». И что-то в этом выводе, несомненно, соответствовало действительности. Мы видим это и сегодня. Люди склонны переоценивать точность своих наблюдений, преувеличивать автоматизм органов чувств и недооценивать влияние «дополнительных» факторов. Так, фильм, в котором движение руки состоит на самом деле из отдельных кадров этой руки, застывшей в разных положениях, создает у нас иллюзию непрерывного движения, потому что память «дополняет» стоячие кадры собственным знанием того, как движется рука в жизни. Такого рода «дополнения» могут играть роль в т. н. видении духов или призраков: порыв холодного ветра в сочетании с отдаленным воем собаки может восприниматься как появление покойника, особенно если наблюдатель расположен к такому толкованию. На этом основаны и многочисленные случаи внушения, когда внушающий использует «ожидания» внушаемого субъекта, направляя его к желаемой интерпретации невинного события. В 50-е годы некто Прайс снял в Лондоне «дом с привидениями» и пригласил через газету добровольцев для наблюдения за ними, заранее объяснив, каких признаков следует ожидать; большинство откликнувшихся утверждали позднее, будто действительно наблюдали эти признаки. Такие ложные трактовки особенно легко закрепляются в группах людей, имеющих склонность к одинаковым толкованиям (например, в группах участников спиритических сеансов): такие группы обнаруживают усиленную психологическую тенденцию к установлению униформизма трактовки и решительно сплачиваются против всякого «диссидента», вплоть до изгнания его из своей среды. Но если бы суеверие было просто результатом ошибки или ложного толкования, то его легко было бы побороть. Тот факт, что люди цепко держатся за свои суеверия, показывает, что их причина коренится куда глубже — где-то в глубинах психологии личности. Понимание этого породило следующую гипотезу происхождения суеверий — психоаналитическую. Согласно этой гипотезе, суеверия — продукт нашего подсознательного или бессознательного. Начало этому толкованию положил Фрейд. Одна из его пациенток рассказала ему, что во сне видела, будто встретила знакомого врача, и на следующий день действительно встретила его. Фрейд тщательно расспросил ее и установил, что до встречи она ничего не помнила об этом якобы «вещем» сне. Можно было бы успокоиться на этом и сказать, что сон ей «припомнился» задним числом, то есть, проще говоря, придумался. Но Фрейд на этом не остановился. Его заинтересовало происхождение всех такого рода ошибок памяти. Более подробные расспросы показали, что женщина была раньше увлечена приятелем встреченного врача, но потом он с ней разошелся. По Фрейду, ее иллюзия во время встречи с врачом (т. е. «припоминание» несуществовавшего сна) была равносильна возгласу: «Ах, доктор, вы мне напомнили те дни, когда я видела вас вместе с вашим приятелем!» Иными словами, Фрейд усмотрел источник ложного припоминания в реальных, но подавленных подсознательных эмоциях. Того же рода, заключил он, и источник наших суеверий. Подавленное подсознательное не может выйти на свет сознания и «переносится», «проецируется» на что-то иное — например, превращается в предчувствие чьей-то смерти и т. п. Когда это предчувствие по случайному совпадению реализуется, человек обретает убежденность в эффективности своих предчувствий или — если он подсознательно чего-то желал — желаний. В своей книге «Тотем и табу» Фрейд проследил зарождение такой убежденности к раннему детскому возрасту: ребенок полагает, что мир подчиняется его воле, склонен приписывать внешние события своему воздействию на окружающее. Такое «детское» мышление Фрейд считал характерным для «детей человечества», для дикарей; этим он объяснял их магические ритуалы и заклинания. Один из учеников Фрейда Ференци указал на то, что у ребенка эта вера закрепляется еще и потому, что плач и капризы зачастую действительно помогают им добиться желаемого. Другие ученики великого психоаналитика постулировали, что эта «детская» склонность подсознательно связывать осуществление собственных желаний с каким-то своим «магическим» воздействием на окружающий мир сохраняется и во взрослом возрасте — например, у шизофреников и невротиков. На этом основании другой ученик Фрейда, Филд, даже предположил, что магические идеи первоначально вообще родились в мозгах первобытных шизофреников, для мышления которых была характерна детская вера в прямую связь символических жестов и реальных событий, а уже от них эти магические суеверия были восприняты всем племенем. Но, как мы знаем, первобытных племен было много, а суеверия они почему-то создали практически одни и те же. По гипотезе Филда, следовало бы предположить, что у всех без исключения первобытных-шизофреников реальные события почему-то связывались с одними и теми же символическими жестами, заклинаниями, ритуалами и т. п. Фрейд в такую единую общечеловеческую символику не верил. Зато в нее горячо поверил Юнг. Он считал, что набор символов у всех людей и народов действительно одинаков, и на этом основании постулировал существование общечеловеческого «коллективного бессознательного». Оно состоит из общего всем людям и сформировавшегося еще в первобытные времена набора «автономных психических комплексов» — так называемых «архетипов». Существование этих архетипов проявляется, в частности, в существовании сходных, одинаковых для всех людей суеверий. Конкретный анализ, доказывающий именно такое происхождение суеверий, Юнг произвел на примере одного из них — веры в духов. Свою статью «О психической основе веры в духов» он начинает с утверждения, что излишний рационализм современной жизни не дает выхода определенным важным свойствам человеческой натуры, в силу чего эти подавленные побуждения могут проявиться неожиданно и взрывоподобно. Таким проявлением, по его мнению, является нынешний всплеск веры в духов. Существует древний архетип «призрака», или «духа», сложившийся еще в первобытные времена, когда дикари воспринимали мир в единстве материального и спиритуального начал и наделяли окружающие предметы и явления самостоятельной «душой». (Юнг, сам склонный к мистике, полагает, что такое одухотворение имеет под собой некое реальное основание, в противном случае оно бы не закрепилось в виде архетипа.) Сегодня этот архетип «духа» дает о себе знать только в снах, «видениях» и других сходных состояниях; рационализм мешает им принять этих духов за реальность, поверить в них. Но когда в мире назревают глубокие перемены, они активизируют коллективное бессознательное, и оно отвечает все более частым, настойчивым и массовым появлением таких состояний, постепенно понуждая все большее число людей поверить в реальное существование духов и призраков. Так начинается массовое распространение данного суеверия. Юнг заключает статью словами: «Духи — это комплексы коллективного бессознательного, которые выплывают, из него, когда люди теряют приспособление к прежней реальности, когда прежнее отношение к ней у большинства людей начинает сменяться новым общим отношением; это не просто патологические фантазии индивида, а признак назревания новых, но еще не осознанных идей». В духе своей гипотезы Юнг склонялся даже к признанию пророческих способностей «духов» (что неудивительно, если они возникают как неосознанное отражение «новых идей»), но приводимые им факты проявления такой способности убеждали весьма мало; биолог Хаксли даже заметил по этому поводу: «Удивительно, какие тривиальности сообщают нам юнговские духи». Фрейд, будучи крайним рационалистом, относился к заигрываниям своего бывшего ученика с мистикой резко отрицательно. Что, однако, роднит их обоих, так это одинаковое убеждение, что суеверия глубоко укоренены в человеческом подсознании и тесно связаны с глубинными эмоциями; именно поэтому они и не поддаются рациональному устранению. В этом вопросе психоанализ Фрейда и «аналитическая психология» Юнга стоят как бы на одном полюсе трактовок суеверий. Но существует и другой крайний подход, так сказать, противоположный полюс; это — бихевиористский подход. Основная гипотеза бихевиористов состоит в том, что суеверия (как и всякий иной вид поведения) являются результатом обучения. Просто суеверия есть результат «неправильного» обучения. Бихевиоризм (название произведено от английского слова «behaviour», означающего «поведение») родился под влиянием учения Павлова об условных рефлексах. В основе опытов Павлова лежала подмена безусловного раздражителя (например, реального куска мяса) «условным» (например, звонком, раздающимся при показе мяса). Для того чтобы собака приучилась выделять слюну в ответ на звонок, ей необходимо периодическое «подкрепление» в виде показа реального мяса. Основоположник бихевиоризма американский исследователь Скиннер переместил центр исследований на изучение связи между таким «подкреплением» и реакцией на него. «Подкрепление» можно рассматривать как «награду» или «наказание»; и то, и другое способно менять вероятность того, что подкрепляемая реакция будет повторяться при аналогичных обстоятельствах в будущем. По Скиннеру, окружающая среда непрерывно подбрасывает животному такие награды или наказания и тем самым «обучает» его тому или иному виду поведения; если этот вид поведения способствует выживанию животного, он оказывается эволюционно полезным. Но он может оказаться и бесполезным или даже вредным. Полезно, когда ребенок научается бояться горячего чайника, а потом и всех других обжигающих предметов, но бесполезно или даже вредно, когда он, однажды испугавшись лая собаки, научается бояться всех собак вообще. Какое отношение это имеет к суевериям? Скиннер очень четко высказался по данному поводу в знаменитой статье «Суеверие у голубей». Он описал в ней эксперимент, во время которого голубю давали пищу («подкрепление») через равные промежутки времени. Одного голубя такое «подкрепление» застало в тот момент, когда он поворачивал голову против часовой стрелки; подкрепление усилило эту реакцию; голубь стал повторять ее чаще; она стала чаще совпадать с появлением пищи; и все кончилось возникновением «магического ритуала»: голубь, пишет Скиннер, «поверил» в то, что если поворачивать голову против часовой стрелки, в кормушке обязательно появится пища. У другого голубя могло возникнуть другое «суеверие» (он, например, в момент первого появления пищи поворачивал голову по часовой стрелке); оно могло закрепиться, а могло и исчезнуть, если, скажем, счастливых совпадений случайно оказалось недостаточно. Скиннер заключает: «Голубь ведет себя так, будто между его поведением и появлением желанного результата существует причинная связь. Такое поведение, основанное на чисто случайной связи, то есть на неправильном обучении, следует назвать суеверным». В книге «Наука и человеческое поведение» Скиннер уже напрямую объявляет, что люди в этом отношении ничем не отличаются от голубей: случайные совпадения несущественных особенностей поведения с желаемыми результатами порождают у них ритуальные практики. Зачастую для этого достаточно единственного, но сильного «подкрепления»: если человек однажды нашел в парке крупную банкноту, это, скорее всего, приведет к образованию у него суеверного ритуала — идти на прогулку именно в этот парк, гулять по тем же дорожкам, внимательно смотреть под ноги и так далее. Легко усмотреть здесь аналогию с распространенным ритуалом одевания той же «счастливой» рубашки перед каждым экзаменом и т. п. Самое важное в образовании таких суеверий — именно их психологическая сторона: наличие очень сильного желания достичь данного результата (нахождения денег или успешной сдачи экзамена) и подкрепления каких-то случайных особенностей поведения таким достижением в реальности. Казалось бы, Скиннер нащупал самую общую и единую причину возникновения суеверий. Но, как отмечает, например, тот же психосоциолог Густав Ягода, это объяснение страдает двумя существенными недостатками. Во-первых, оно сводит все суеверия к бесполезному (а то и вредному) поведению, тогда как во многих случаях суеверия, как мы уже знаем, могут играть и вполне положительную приспособительную роль, помогая организму выжить в стрессовых и других ситуациях. (Мы могли бы добавить, что эту же положительную роль суеверий подчеркивал и Юнг в цитированной выше статье о духах; ее же, в сущности, имел в виду Леви-Стросс, когда формулировал свое знаменитое утверждение, что всякий миф является «примирением невыносимых для первобытного сознания противоположностей».) Во-вторых же, продолжает Ягода, гипотеза Скиннера страдает чрезмерным антропоморфизмом; ведь голубь вовсе не «верит», что его поведение вызывает появление пищи, тогда как у людей всякое суеверие (как показывает само слово) неразрывно связано именно с глубокой, психологически укорененной «верой»: не случайно «целительные ритуалы» так часто помогают людям в действительности. Этот недостаток теории Скиннера становится особенно заметным при переходе к попыткам объяснения веры в ведьмовство, колдовство и тому подобные феномены. Скиннер считает, что такая вера берет начало в невинных выражениях типа: «это ты виноват в том, что у нас все провалилось», «это из-за тебя мы опоздали» и т. д. Отсюда, говорит он, всего один шаг к наделению данного человека «реальной» способностью влиять на события в дурную (или хорошую) сторону. В действительности, однако, это шаг огромный: от того, что, данный человек обвинит другого в намеренном наведении «порчи», вера в ведьмовство и соответствующее поведение людей в данном обществе не возникнут — эта вера должна существовать заранее. Иными словами, ведьмовские и им подобные суеверия — не просто производная индивидуальной человеческой психологии, а производная определенных социальных условий. Человека можно объявить колдуном, но без подходящей социальной среды такое утверждение не получит поддержки в вере. Гипотеза Скиннера не учитывает социального аспекта суеверий, а потому не может дать ответ на многие и многие вопросы. IIВыше мы пришли к выводу, что суеверия неопределимы. Мы решили называть суеверием то, что нам субъективно представляется таковым. Мы классифицировали суеверия на квазирелигиозные (связанные с верой в духов и другие сверхъестественные феномены), индивидуальные (например, тот приватный ритуал, который, по вашему личному убеждению, способствует удаче) и коллективные (или социальные); примером последних является вера в ведьмовство или колдовство, распространенная в истории от первобытных племен до недавних европейских обществ. Мы осознали, что важнейшей особенностью любого суеверия является его психологическая сторона, то есть сильнейшая его связанность с психологией личности, с ее глубинными эмоциями; этим и объясняется как устойчивость суеверий, так и невозможность устранить их с помощью рациональных объяснений. Мы, наконец, рассмотрели несколько попыток объяснения генезиса суеверий. Этнологи пытались объяснить их ошибками а толковании причинных связей; фрейдисты и юнгианцы связывают их происхождение с комплексами представлений, таящимися в глубинах индивидуального подсознательного или коллективного бессознательного; бихевиористы толкуют возникновение суеверий как результат «неправильного обучения» данного индивидуума. Последняя гипотеза, по сути, вообще игнорирует роль социального фактора в происхождении и закреплении суеверий. Естественно поэтому перейти теперь к очередной гипотезе, трактующей суеверия как типичный социальный феномен. Происхождение большинства суеверий скрыто в глубоком прошлом. Тем не менее иногда их возникновение удается наблюдать. Так, в 1919 году в Папуа, на Новой Гвинее, среди туземцев вспыхнуло массовое помешательство, получившее название — «болезни Вайлала». Страдавшие ею вели себя, как одержимые, раскачивались из стороны в сторону или застывали в ступоре и произносили непонятные фразы. Их главные проклятья адресовались «нарушителям обычаев» и «белым людям»; в то же время они утверждали, что вскоре (если люди будут вести себя хорошо) на остров прибудут корабли с богатым грузом от «предков» и это позволит местному населению освободиться от власти белых и зажить богато и благополучно. Об этом им якобы сообщили «духи». Болезнь вскоре затихла, а 20 лет спустя об «обещании духов» и прибытии «подарка от предков» уже говорили как о реальном факте. Суеверие сложилось на глазах у наблюдателей. Социолог Уорсли, который исследовал этот и подобные феномены, считает, что их причина коренится во внезапных социальных изменениях, принесенных белыми колонизаторами. Старые ценности рушатся, люди начинают стремиться к новым (прежде всего, к материальной обеспеченности), не знают, как их достичь, и испытывают глубочайший стресс, который выливается в массовую истерию и фантастические поверья, обещающие и достижение новых целей, и восстановление старых порядков одновременно. Он отмечает как показательный факт, что болезнью Вайлала заболевали прежде всего те туземцы, которые чаще и ближе соприкасались с белыми. Другой социолог, Ганс Тох, говоря о таких массовых движениях, которые, как правило, сопровождаются множеством суеверных фантазий («голоса», «откровения», «видения» и т. п.), утверждает: «Чудеса обещают надежду на изменение в ситуации, которая в противном случае могла бы показаться безнадежной и безвыходной, и потому играют роль средства, примиряющего с действительностью и позволяющего выжить». Иными словами, здесь на иной социологический лад говорится примерно то же, что говорил в свое время Юнг: суеверия могут играть положительную общественную роль как психологическое средство выживания в стрессовых ситуациях. Но этим их социальная роль далеко не исчерпывается. В Сомали, например, так называемая «одержимость духами» чаще проявляется среди женщин. Исследователи выявили, что во многих случаях эти «духи» через подчиненных им женщин требуют от мужей покупки определенных вещей или подарков. В некоторых случаях такие женщины действуют даже вполне осознанно, добиваясь желаемой вещи (наряда, хозяйственной утвари и т. п.) расчетливой игрой на суевериях мужей. Суеверие очередной раз выступает здесь как средство преодоления определенной социальной ситуации и достижения желаемой цели. Еще более видна эта их роль в таких повсеместно распространенных убеждениях, как вера в ведьмовство и колдовство. Почти очевидно, что оба эти вида суеверий возникают в результате жизненных неприятностей, несчастливых поворотов фортуны и попыток найти их виновника. Этнограф Эванс-Причард, изучавший эти поверья среди жителей Уганды, показал, что в большинстве случаев «виновником» несчастий объявляется человек, с которым обвиняющий находится в близких отношениях, иными словами — «сосед». В первой части этой статьи мы уже рассказывали, как одинаково неуклонно действовало это правило и в случае негров племени Бвамба, и в случае жителей средневекового итальянского города Медона. В обоих случаях вслед за обвинением вступали в силу давно выработанные обществом ритуалы разоблачения, допроса и наказания «виновных», причем очевидная цель этих ритуалов — возместить ущерб, понесенный (или могущий быть понесенным) членами данного социального коллектива или всем коллективом вообще. На этом основании Эванс-Причард выдвинул предположение, что те поверья «дикарей», которые европейцы часто рассматривают как грубые суеверия, в действительности являются весьма важными для нормального функционирования общества индикаторами социальных конфликтов и напряжений (в простейшем случае — трений между соседями); тем самым соответствующие ритуалы становятся средством, которое позволяет снять эти трения и враждебность. Особое значение имеет при этом тот факт, что все эти ритуалы «освящены традицией», то есть являются общепризнанным и как бы узаконенным способом решения социальных конфликтов, который обязаны принимать все. Таким образом, в конечном счете суеверие (в широком смысле слова) оказывается средством восстановления утраченной социальной гармонии. Мы можем добавить к этому, что в определенном смысле слова индивидуальные суеверия являются таким же средством восстановления утраченной гармонии для отдельной личности, но уже гармонии психологической. Юнг был отчасти прав, напоминая, что «дикари» воспринимают мир в единстве его материальной («реальной») и спиритуальной («иллюзорной») сторон. Более позднее (современное) сознание в этом смысле уже «расколото». Но поскольку «иллюзорное» начало, будь оно родом из глубин подсознательного или навязано традициями окружающей среды, по-прежнему сохраняет свою власть над умом индивида, он переживает это раздвоение как «расколотость мира». Индивид испытывает неосознаваемую потребность в восстановлении утраченной мировой гармонии. И его обращение к суевериям как раз и отвечает такой потребности. Как конкретно выглядит эта «гармония»? Она может, например, выражаться в ощущении своей власти над событиями, в представлении о том, что мир упорядочен, осмыслен и так далее. Общим здесь повсюду является психологическое ощущение человека, что он «в ладу с миром». Но этот «лад» каждый человек в каждое время понимает иначе. Поэтому анализ этой «тоски по утраченной гармонии» неизбежно требует рассмотрения суеверий как отражения способа мышления. В первой части статьи мы уже говорили, что такие известные английские этнографы, как Тэйлор и Фрезер, считали суеверия «ошибками наблюдения», которые свойственны первобытному мышлению. По сути, это означало, что они считали первобытных людей (и современных дикарей) неспособными к последовательному логическому мышлению. Не то чтобы они отказывали первобытному мышлению в рациональности вообще, но они полагали его как бы «недостаточно рациональным». Оспаривая эту гипотезу, знаменитый французский антрополог Люсьен Леви-Брюль выдвинул предположение, что «первобытное мышление» в действительности отличалось от современного не просто количественно, а качественно. По Леви-Брюлю, оно было не столько «недостаточно рациональным», сколько вообще не рациональным, а «мифологическим» или «дологическим». Понять, что это такое, помогли исследования знаменитого швейцарского-психолога Жана Пиаже. Он показал, что элементы «дологического» мышления характерны для всех детей. Главными такими элементами являются неспособность четко отличить себя от внешнего мира и восприятие этого мира только в отношении к себе и своим желаниям. Мир, все предметы и люди в нем воспринимаются как продолжение своего «Я», а внешние события — как реакция на свои ощущения, поступки и желания. Ребенок (и первобытный человек) склонны поэтому наделять вещи «душой» и «сознанием». Гирька, подвешенная на закрученной нитке, вращается, потому что «нитка чувствует, что она закручена, и хочет раскрутиться». Иголка уколола, потому что она «злая». Точно так же ребенок или дикарь склонны думать, что предметы подчиняются их воле и желанию. Кукла приближается и оказывается в руках не потому, что ребенок за ней потянулся (или получил из рук взрослого), а потому, что он этого «захотел». Отсюда уже недалеко до выработки определенной системы «магических» действий, которые «заставляют» предметы выполнять желания ребенка (так называемая «детская магия»). Развивая свои наблюдения, Пиаже предположил, что подобный характер мышления может быть свойствен и взрослым людям, особенно в состоянии крайнего стресса или одержимости каким-либо сильнейшим желанием; в таких ситуациях вполне возможно возвращение взрослого к «детской магии». В первой части статьи мы уже вскользь касались этих вопросов. Теперь мы можем связать сразу несколько высказанных там гипотез о происхождений суеверий в общую картину. Вспомним, что бихевиористы (Скиннер и другие) рассматривали всякое поведение (как животных, так и людей) как результат «обучения», упрочиваемого периодическими «подкреплениями» со стороны внешней среды. Если такое обучение накладывается на особый склад ума (на особое мышление), который заранее в силу своих особенностей предрасположен к суеверному толкованию действительности, и если это обучение получает «подкрепление» извне, например, в виде случайных совпадений желаемого с происходящим, то его результат, т. е. суеверные представления о мире и его законах, будет, разумеется, закрепляться. В этой картине недостает, однако, одного важного звена. Ведь, в конце концов, случайные совпадения происходят-не так уж часто. Во многих случаях суеверное мышление сталкивается с тем, что его магические ритуалы и заклинания не производят желаемого эффекта. Чудесные средства исцеления не излечивают от болезни. Разоблачение ведьмы не устраняет несчастий. Почему бы всем этим воздействиям («отрицательным подкреплениям», или, говоря вслед за Скиннером, «наказаниям» за несоответствие представлений действительности) не привести в конце концов к отказу от суеверий? Почему-то оказывается, однако, что люди готовы удовлетвориться даже самым умеренным числом случайных «положительных» совпадений, игнорируя даже самые очевидные и многочисленные «отрицательные». Причина этого состоит в той глубокой психологической потребности, о которой мы начали говорить выше, рассказывая о метафизике закона Мэрфи. Только с ее учетом можно всерьез говорить о «психологии суеверий». Характер этой потребности очень хорошо описал английский этнограф Хортон, долгое время изучавший особенности мышления африканских племен. Как и все «дикари», эти люди склонны к суеверному мышлению. Когда, например, дерево падает на человека и убивает его, они неизменно объясняют это прежними проступками этого человека, за которые его наказали ведьмы, колдуны или «духи предков». В результате длительных расспросов и анализа Хортон пришел к выводу, что его «подопытные» попросту исключают из своего сознания возможность какого бы то ни было иного объяснения. «Мысль о том, что это просто, случайное совпадение, — пишет он, — отвергается ими начисто, потому что она для них психологически невыносима: она заставила бы их признать, что мир непредсказуем и необъясним, тогда как их мышление (как и наше) стремится к связному и полному объяснению мира и всего в нем происходящего, только на свой, «суеверный», лад». Здесь очень важно замечание о том, что не только «дикарское», но и «наше» мышление стремится, в сущности, к одному и тому же — к достижению успокоительного психологического ощущения, что мир упорядочен, а потому «управляем». Разница, может быть, только в том, что в одном случае эта упорядоченность имеет иллюзорный характер, а «управление» достигается с помощью суеверных формул, заклинаний и ритуалов, а в другом — с помощью рационально-научных средств. Наука оказывается в этом плане всего лишь «суеверием наизнанку»: современный человек полагается на нее точно так же, как первобытный или ребенок — на свою магию. Она играет ту же психологическую роль, позволяя восстановить ощущение гармонии, понятности, объяснимости и предсказуемости мира, которое внутренне необходимо человеку для достижения эмоциональной и психической устойчивости и чувства уверенности в окружающем. Но и у современного человека эта потребность далеко не всегда реализуется через научное объяснение мира. Во-первых, такое объяснение для многих просто слишком сложно; во-вторых, сама наука далеко не все может объяснить (что, в частности, и порождает столь распространившуюся ныне тягу к таким «суррогатам науки», как оккультизм, мистика и т. п., примеры чего мы приводили в начале статьи). Поэтому в повседневной жизни современный человек, подобно дикарю, куда чаще остается один на один со своей психологической потребностью в гармонии и вынужден реализовать эту потребность посредством «дикарских» суеверий. Чтобы убедиться в том, что эти суеверия действительно выполняют такую психологическую роль, достаточно припомнить хотя бы, как останавливают наше внимание всевозможные случайные совпадения в нашей повседневной жизни. Мы испытываем какое-то приятное возбуждение, когда, направляясь на автобусе в театр, замечаем, что номер автобусного билета совпадает, скажем, с номером театрального и оба, — с датой нашего рождения. Источник этого возбуждения, несомненно, коренится в том, что нам кажется, будто мы открыли некую «закономерность» в структуре мира, некую «причинную» зависимость, какой-то загадочный «смысл». Эта тенденция организовывать окружающее в осмысленную схему, находить общий смысл в различных явлениях и испытывать удовлетворение от этого поистине неистребима в человеке. Проведено множество специальных экспериментов, доказывающих наличие такой тенденции. Например, подопытным показывают два фильма, один из которых полон ужасных сцен, а другой представляет собой вполне невинное сочетание абстрактных картинок; тем не менее второй, просмотренный вслед за первым, почему-то тоже производит тягостное впечатление. Людям предъявляют серию ничем не связанных друг с другом изображений — они тотчас начинают искать между ними «скрытую связь». Как подытожил известный психолог Бартлет, «все познавательные действия человека направлены на поиск «смысла», и это объясняется тем, что установление смысла в хаотическом и беспорядочном мире является необходимым для выживания в нем». Коль скоро это так, то всякое отсутствие смысла представляется нашему мышлению лакуной, которую обязательно нужно заполнить. В отличие от науки, которая признает неизбежность таких лакун, наше повседневное мышление ощущает их как угрозу и пытается перепрыгнуть через бессмыслицу с помощью суеверных «объяснений». Это бессознательное действие, и оно продиктовано, повторяем, психологической потребностью уменьшить неуверенность и сомнение в окружающем. Не случайно знаменитый этнограф Малиновский утверждал, что «люди обращаются к магии лишь тогда, когда ощущают, что не могут полностью контролировать окружающие обстоятельства», иными словами — в условиях недостаточного знания, неопределенности и вынужденного риска. В духе этого толкования он предсказывал, что вероятность появления суеверий должна быть значительно выше среди людей, чьи профессии (или условия жизни) характеризуются повышенным риском и неопределенностью, — например, среди моряков, солдат (а также, понятно, дикарей). Как мы уже говорили, такое «перепрыгивание» зачастую осуществляется, с помощью «суррогатов науки». Примером тому может служить астрология. Неоднократно уже упоминавшийся нами Юнг полагал, что астрология действительно отражает какие-то «скрытые закономерности бытия», познание которых помогает заполнить лакуны незнания, не заполненные (или не могущие быть заполненными) обычной наукой. Эти закономерности он называл. «принципом синхронности», который, по его мнению, действует в окружающем мире (мы рассказывали об этом принципе выше в очерке «Метафизика закона Мэрфи»). Для доказательства своей гипотезы Юнг провел даже специальную проверку, которая получила название «астрологического эксперимента». В этом эксперименте сопоставлялись гороскопы 483 супружеских пар. Юнг не получил однозначных результатов, но, по его утверждению, выявил «тенденцию», которая состояла в том, что у счастливых пар вероятность, «подходящих для брака» гороскопов была заметно выше, чем у несчастливых. Увы, когда тот же эксперимент был повторен несколько лет спустя Арно Мюллером на значительно большем числе пар, «статистическая обработка результатов, — по словам исследователя, — не подтвердила ни одного из традиционных астрологических предположений относительно брака». Тем не менее люди и сегодня продолжают читать гороскопы и выискивать в сенсационных разделах газет сообщения о всевозможных «загадочных совпадениях». Не так давно немецкий автор Шольц опубликовал объемистую книгу «Случай и судьба», в которой собрал превеликое множество примеров таких совпадений, от самых расхожих (три выигравших номера в лотерее были 777, 77 и 7, и все они оказались в руках одного и того же человека) до весьма изощренных (во время шторма в Берлине была разрушена мраморная статуя работы скульптора Крауса, а на следующий день сам скульптор умер от инфаркта, и в ту же минуту в его саду упала с пьедестала копия той же статуи). Многие, прочитав эту книгу, наверняка пожмут плечами и спросят: «Ну и что?» Но еще большее число людей, скорее всего, сочтет все эти примеры «неслучайными». Разве случайно, скажут они, что Япония пережила серьезное землетрясение именно 7 декабря 1944 года, как раз в годовщину японского нападения на Пёрл-Харбор? При этом они даже не задумываются над тем, сколько землетрясений происходит в Японии каждый год. И это показывает нам, что суеверия — вовсе не ошибки наблюдения, не проявление «недостаточной рациональности» и не следствие «неправильного обучения». Хотя все эти факторы играют определенную роль в появлении суеверий, они не исчерпывают всех причин их возникновения. В конце концов многие ученые, от Кеплера до Менделеева и Крукса, которых никак нельзя обвинить в недостатке логики, были суеверными, людьми. Увы, за суевериями, как уже сказано, стоит глубинная когнитивная и психологическая потребность человека в объяснимости и гармонии окружающего мира, и до тех пор, пока эта потребность будет сохраняться, будут в том или ином виде сохраняться и суеверия. Люди будут прибегать к своим приватным или общепринятым ритуалам поведения и формам мышления, какими бы «иррациональными» они ни казались с точки зрения науки и здравого смысла. Не зная будущего и страшась его, они будут «на всякий случай» обходить стороной черных кошек и стучать по дереву, — пусть и со смущенной улыбкой. Ибо, как сказал выдающийся этолог Конрад Лоренц, «когда живое существо не знает связи между причиной и следствием, самой правильной стратегией выживания для него является та, которая дает ему уверенность, основанную на прежнем опыте». Конечно, животные, как и люди, способны изменять свое поведение в изменившихся условиях, способны «идти на риск неведомого» — в противном случае не было бы эволюции; но на каждом новом этапе развития их поведение и сознание снова обрастают суевериями и предрассудками. И даже развитие науки не меняет этой ситуации, ибо наука сама порождает новые суеверия — вспомним хотя бы «пирамидологию» или «дианетику», о которых мы уже рассказывали в этой книге. Суеверия могут быть безвредны или даже вредны; это не изменит того факта, что они составляют интегральную часть тех адаптивных механизмов, без которых человечество, скорее всего, не смогло бы выжить. >ГЛАВА 8 ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ На что похожа смерть? Все мы страшимся увидеть ее лицо, но с развитием медицины появляется все больше и больше людей, которые эту встречу пережили. В 1975 году американский врач Раймонд Муди (русские переводчики назвали его Моуди) опубликовал книгу «Жизнь после смерти», которая сразу стала бестселлером. В ней были собраны рассказы людей, побывавших на пороге смерти. Муди не был первым собирателем таких рассказов. Лет за сто до него британское Общество физических исследований занялось изучением предсмертных явлений, а в 1926 году член этого общества Уильям Барретт опубликовал первую небольшую книгу по этому вопросу. «Вернувшиеся с того света» рассказывали, что слышали странную музыку, видели свое тело на смертном одре и разговаривали с давно умершими родичами. Новаторство Муди состояло в том, что он собрал все эти рассказы и создал из них некий обобщенный отчет о самых типичных предсмертных переживаниях, которые испытывало большинство умиравших. Сначала, утверждали они, им слышалось заявление врача, что они скончались. Затем раздавался громкий звук, что-то вроде жужжанья или колокольного звона, и перед глазами появлялся длинный темный туннель, в который устремлялось их «Я». Вскоре они встречали некое «существо, сотканное из света», которое показывало им все события их прежней жизни и помогало дать им оценку. Они испытывали чувства радости, покоя и любви, но в какой-то момент натыкались на непонятный «барьер» и понимали, что им придется вернуться к своему телу и к земной жизни. Вернувшись, они пытались рассказать другим о своих переживаниях, но неизменно натыкались на непонимание. Однако для них самих эти переживания становились стимулом к глубокому духовному перерождению и новому отношению к вопросам жизни и смерти. Поначалу книга Муди вызвала недоверие ученых, но вскоре стали накапливаться подтверждающие факты. Американский кардиолог Шунмэйкер опросил более двух тысяч пациентов и установил, что больше половины из них испытывали подобные переживания. В 1982 году Институт Гэллапа провел опрос, показавший, что каждый седьмой взрослый американец побывал на пороге смерти и каждый двадцатый пережил нечто подобное описанному в книге Муди. Примерно в то же время психолог Кеннет Ринг начал научную обработку таких показаний. Он выделил в предсмертных переживаниях пять основных стадий: состояние покоя, отделение от тела, вхождение в темноту (воспринимаемую как «туннель»), приближение к свету и вхождение в сияющее облако. Две последние стадии удостоверяло меньшинство из побывавших при смерти, откуда следовало, что предсмертные переживания образуют некую закономерную последовательность этапов, происходящих один за другим, в неизменном порядке: одни умиравшие прошли лишь часть этих этапов, другие — все подряд. Ученых заинтересовал также вопрос, насколько связаны эти переживания с типом культуры, иными словами — присущи они только западным людям или другим тоже. Было выяснено (хотя и на малом числе случаев), что характер и последовательность предсмертных переживаний универсальны, однако тип религии, исповедуемой человеком, сильно влияет на интерпретацию увиденного в преддверии смерти. Такие переживания были зафиксированы даже у детей. Но самое интересное состояло в том, что «предсмертные переживания» вовсе не требуют реальной близости человека к смерти: в 1989 году Морзе с сотрудниками обнаружили, что совершенно такие же ощущения испытывают многие люди под воздействием наркотиков, глубокой усталости, а порой — просто ни с того ни с сего. Стоит подчеркнуть, что ощущения эти вполне реальны: людям, их испытавшим, не «казалось», что они влетают в темный туннель, — они и впрямь «ощущали», что в нем находятся; и свое покинутое тело они видели не так, как порой мы видим людей во сне, а совершенно объективно, сверху, во всех деталях! Все эти факты вынудили ученых задуматься: не может ли быть так; что правы поклонники новомодного оккультизма, утверждающие, будто, кроме физического тела, человек обладает еще и телом «астральным», которое освобождается после смерти физического? Вера в существование такого «духовного» (или «астрального») тела обнаружена в пятидесяти различных культурах на самых разных континентах. Но что она означает? Часто утверждают, будто она начисто противоречит науке. Но это не вполне верно. Наука отрицает лишь то, что не проверяемо и не предсказуемо. А наличие или отсутствие «астрального тела» можно попытаться проверить. И такие опыты проводились. В 1978 году Моррис пытался обнаружить «астрал» с помощью физических детекторов. Но хотя он использовал все мыслимые способы такого обнаружения, результаты оказались отрицательными. В 1982 году Сьюзен Блэкмор проводила длительные эксперименты с «медиумами», проверяя их утверждения о «выходе в астрал», — с теми же результатами. Разумеется, всегда можно сказать, что необнаруженное еще не значит несуществующее, но это слабое утешение для серьезных людей. Некоторые пытались объяснить предсмертные переживания как процесс, обратный рождению: и тут, и там — туннель и свет в его конце. Эту теорию особенно пропагандировал американский астроном Карл Саган. Но тогда люди, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, вроде не должны были бы испытывать предсмертных переживаний, а исследования показали, что это не так. Другие ученые предлагали объяснить собранные факты «гипнотической регрессией в прошлые жизни», но это уже граничит с фантазией. Куда более вероятной представляется «теория галлюцинаций». Галлюцинации, возникающие по самым разным причинам, очень часто сопровождаются ощущением входа в туннель (порой — в спираль или в паутину). По мнению Клювера из Чикагского университета, эти ощущения связаны с особой структурой визуального центра мозга. Его сотрудник Коуэн показал, что недостаток кислорода (при смерти) или избыток наркотиков (вроде ЛСД) влечет за собой резкое повышение неконтролируемой активности мозга. По нему начинают пробегать «струи самопроизвольного возбуждения». А в силу особенностей клеточной структуры мозга эти «струи» порождают в визуальном центре зрительные образы типа спирали или туннеля. Эта теория не объясняет, однако, предсмертных «световых» эффектов, поэтому Сьюзен Блэкмор попыталась развить ее дальше, учитывая тот факт, что центр визуального поля представлен в мозгу куда большим числом «зрительных клеток», чем периферия. С помощью компьютерного моделирования она изучила, какие образы должны возникать в такой структуре при ее постепенном самопроизвольном возбуждении, и нашла, что в центре поля зрения обязательно появится разрастающееся светлое пятно, окруженное темными «стенами». Иными словами, «туннель» и «свет» могут быть объяснены возникновением «хаотического шума» в мозгу умирающего человека. Но как объяснить «покидание тела» и «созерцание его сверху» Блэкмор предлагает для этого следующую гипотезу. Часто бывает, что наш мозг получает противоречивые сигналы, которые порождают в нем противоречивые модели реальности. В этом случае мозг выбирает в качестве «истинно реальной» ту, которая представляется ему более устойчивой в сравнении с остальными. В предсмертном состоянии, когда все реальные сигналы ослаблены, наиболее устойчивыми кажутся образы «туннеля» и «света». Но это, лишь начало. Мозг ищет «разумного объяснения» этим образам, он пытается свести их в цельную картину реальности, а для этого начинает сравнивать их с хранящимися в памяти моделями. И тут вступает в силу одна любопытная особенность зрительных моделей, рождающихся в человеческой памяти: очень часто они кажутся увиденными как бы «сверху», с высоты птичьего полета. И тогда мозг «объясняет» свои предсмертные ощущения «выходом из собственного тела», а память услужливо поставляет зрительному центру образ самого этого тела, видимого сверху на смертном одре. Эта гипотеза оказалась поддающейся проверке. Сама Блэкмор и ее коллега, австралийский психолог Ирвин, показали, что люди, которые часто видят свои сны как бы с высоты птичьего полета, в предсмертном состоянии чаще видят «сверху» и свое «покинутое» тело. Но другие исследователи не согласны с объяснением предсмертных переживаний лишь зрительными моделями, подсказанными памятью человека. Эти исследователи утверждают, что люди перед смертью переживают не воспоминания, а реальные ощущения. Американский кардиолог Сабом показал, что потерявшие сознание пациенты были способны более точно описать потом действия врачей, чем пациенты, сохранявшие сознание. Блэкмор возражает на это, что органы чувств у таких пациентов могли воспринимать внешние сигналы и без осознавания. Она развивает свою теорию и дальше. По ее мнению, типичное для предсмертных переживаний «прокручивание» перед глазами «фильма» всей прошлой жизни может быть вызвано все тем же хаотическим возбуждением мозговых клеток. Что же касается ощущений «покоя» и «радости», то, по ее утверждению, некоторые ученые (Сааведра, Гомец, Морзе) недавно показали, что кислородное голодание умирающего мозга высвобождает в нем нейропептиды и другие вещества, способные вызвать именно такие ощущения. Наконец, встречи с умершими и картины «иного мира», о которых часто рассказывают «воскресшие», могут объясняться все тем же эффектом «большей реальности» моделей и образов, предлагаемых памятью умирающего человека, в сравнении с образами и сигналами из реального физического мира. И, конечно, умиравшие не могут выразить обычными словами свой предсмертный опыт. Ведь в основе сознания лежит мысленная модель цельного человеческого «Я». В момент умирания эта модель дробится и рассыпается, ощущение «Я», сопровождавшее человека всю сознательную жизнь, исчезает, и описать это переживание попросту невозможно. Попытки научного объяснения предсмертных переживаний продолжаются. Ученые упорно атакуют эту загадку, предлагая всё новые гипотезы и всё новые способы их проверки. Все же пока ученые не дают уверенного и однозначного ответа. И проблема, поставленная Муди и другими, остается по-прежнему актуальной и нерешенной. Откуда же все-таки берутся загадочные предсмертные переживания — из человеческого мозга или из реального «иного мира»? «Изнутри» или «извне»? Уходим мы «в астрал» или расстаемся с жизнью окончательно и бесповоротно? >ГЛАВА 9 ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЕРЯТ В БОГА? Вопрос, поставленный в заголовке, может показаться в равной степени наивным, бессмысленным и безответным. (Да простится мне святотатство, но мне почему-то пришло на ум любимое выражение моей приятельницы, которая в ответ на вопрос, почему имярек не приезжает в Израиль, сказала: «Почему лошадь не ест вату? Не хочет и не ест».) Действительно, до недавнего времени большинство ученых, занимающихся социальными науками и изучением процессов познания, игнорировали этот вопрос (исключение составляли разве что те немногие психологи, которые преподавали на теологических семинарах). Положение резко изменилось в последнее десятилетие, когда возобновившиеся дебаты о взаимоотношении между наукой и религией выплеснулись в культурное пространство и ученые из разных областей ввязались в споры. Недавно вышедшая в нью-йоркском издательстве книга «Почему Бог никогда не исчезнет» («Why God Won't Go Away?») интересно и по-новому освещает этот вопрос, особенно с точки зрения нейрофизиологии, о чем сообщает читателю подзаголовок: «Наука о мозге и биология веры». Авторы книги — врачи из Пенсильванского университета: Эндрю Ньюберг занимается одновременно радиологией и нейробиологией мозга, Юджин Д'Аквили, ныне покойный, был профессором психиатрии. Книга написана для широкого читателя, но содержит достаточно много нового материала (особенно по нейрофизиологии мистических переживаний) даже для профессиональных ученых. По утверждению авторов, Бог никогда не исчезнет из человеческого сознания, потому что религиозный импульс укоренен в биологии мозга. Сканирование мозга, производимое во время медитации и молитв, показывает поразительно низкую активность в его задней верхней теменной доле. Авторы называют расположенный там пучок нейронов «Областью, Ассоциированной с Ориентацией» (сокращенно — ОАО), потому что главной функцией этих нейронов является ориентировка тела в физическом пространстве. Люди с поражением этой области с трудом находят дорогу даже в окрестностях собственного дома. Когда ОАО находится в состоянии нормальной спокойной активности, человек четко различает границы между собственной личностью и всем окружающим. Когда же ОАО пребывает в пассивном, «спящем» состоянии — в частности, — при глубокой медитации и молитве, — это различение теряется и, следовательно, границы между личностью и миром расплываются. Не это ли происходит с молящимися, которые чувствуют присутствие Бога, или с медитирующими, которые вдруг начинают ощущать свое единение со Вселенной? Что именно влечет людей к церкви, молитве; медитации, священным танцам и другим ритуалам? Хотя рассказы о случаях различных религиозных или мистических переживаний приходится слышать от самых разных людей, у подлинно религиозных личностей эти переживания достигают такой глубины, что определяют собой всю их жизнь. Ньюберг и Д'Аквили решили изучить те специфические ощущения, которые характерны именно для религиозного опыта, но при этом разделяются представителями любой религии. Одно из этих ощущений, чувство «единения со Вселенной», в свое время вдохновляло Эйнштейна. Другое — это чувство благоговения, которое сопровождает мистические переживания и делает их важнее, напряженнее и подлиннее, чем любой опыт повседневной жизни. Для проведения экспериментов исследователи с помощью своих коллег, занимавшихся тибетским буддизмом, отобрали восемь монахов, имевших опыт в медитации и согласившихся на сканирование мозга. Добровольцы приходили в лабораторию по одному, и техник вводил им в руку интравенозную трубку. Затем подопытным предлагалось медитировать, сосредоточиваясь при этом на каком-то единичном образе, обычно — на некотором религиозном символе. Цель эксперимента состояла в том, чтобы зафиксировать момент, когда ощущение человеком себя, или своего «Я», начинает растворяться и он начинает ощущать себя слившимся с мысленно выбранным для медитации образом. Как описывает это Майкл Бейме, один из медитировавших и одновременно участник исследовательской группы, такой переход ощущается как «утрата границы». Как будто бы фильм вашей жизни прервался, и вы вдруг увидели тот пучок света, который проектировал этот фильм на экран. Когда находящийся в состоянии медитации подопытный начинал ощущать появление чувства своей слитности с образом— обычно это происходило примерно через час после начала эксперимента, — ему в вену вводилось радиоактивное вещество (атомы, «помеченные» радиоактивной меткой). В течение нескольких минут эти «меченые атомы» достигали мозга и распределялись по различным его участкам, собираясь в большем количестве там, где ток крови был сильнее, то есть там, где активность мозга была выше. Измеряя после этого сканером концентрацию радиоактивности в разных участках мозга, исследователи получали моментальный снимок мозговой активности в процессе медитации. По окончании эксперимента это распределение активности сравнивалось с ее распределением в состоянии покоя. Исследователи не удивились, обнаружив повышенную активность в тех участках мозга, которые регулируют внимание, что свидетельствовало о глубокой сконцентрированности человека в процессе медитации. Но открытие значительного снижения активности в теменной доле верхней задней части мозга (в той самой ОАО, о которой мы говорили вначале) привело их в сильное волнение. Ведь именно этот участок, как уже сказано, заведует различением между «Я» и всем остальным миром. Грубо говоря, левая половина этого участка управляет тем ощущением («образом») собственного тела, которое свойственно индивидууму, в то время как его правая половина руководит ощущением «контекста», в который этот «образ» погружен, то есть ощущением реального физического пространства и времени, в котором функционирует наше «Я». Ученые предположили, что по мере развития у медитирующего индивидуума чувства слияния, единения с внешним по отношению к нему религиозным образом он, этот индивидуум, постепенно отключает участок ОАО от обычных сигналов, связанных с ощущением своего «време» и «место-положение», которые раньше помогали ему разграничивать образ собственного тела и образ внешнего мира. «Наблюдение за людьми во время медитации показывает, что они попросту отключают свое восприятие внешнего мира. Их больше не беспокоят приходящие извне образы и звуки. Поэтому, возможно, их теменная доля не получает более никаких входных сигналов», — говорит Ньюберг. Лишенный своего нормального «питания» участок ОАО перестает нормально функционировать (что проявляется в снижении его активности), и человек чувствует, как будто граница между ним и всем остальным начинает растворяться и исчезать. А когда исчезает тот пространственный и временной «контекст», в котором обычно находится человек, этого человека, естественно, охватывает чувство бесконечного пространства и вечности. Недавно Ньюберг повторил тот же эксперимент с францисканскими монахинями во время их молитвы. Поскольку молитвы больше основаны на словах, чем на образах, не удивительно, что сканирование показало активизацию тех областей мозга, которые связаны с речью. Куда интереснее, что и в этом случае область ОАО оказалась «отключенной» (т. е. отличалась пониженной против нормы активностью). Это говорит о том, что и молящиеся отключают ту часть мозга, которая отграничивает человека от окружающего мира, и благодаря этому могут достигать чувства «единения с бесконечностью и вечностью». Однако чувство единения со Вселенной — не единственная особенность интенсивного религиозного опыта. Такой опыт несет в себе также большой эмоциональный заряд, сообщающий человеку чувство благоговения и глубокого смысла происходящего. Нейрофизиологи полагают, что появление этого чувства связано с другим участком мозга, отличным от теменной доли, а именно — с т. н. «эмоциональным мозгом», лежащим глубоко внутри височных даль в боковых участках мозга, под его большими полушариями. Этот участок мозга (он составляет часть т. н. «лимбической системы», расположенной на внутренней стороне больших полушарий и регулирующей деятельность внутренних органов, инстинктивное поведение, эмоции, память и т. п.), по мнению некоторых специалистов, возник в самом начале нашей эволюции. Ныне его функцией является наблюдение за нашим жизненным опытом и маркировка особо важных для нас событий и образов — например, облика близкого человека. При такой «маркировке» данное воспоминание как бы помечается неким эмоциональным ярлыком, означающим: «это важно». Ученые считают, что во время интенсивного религиозного переживания «эмоциональный мозг» становится необычно активным, маркируя все переживаемое в этом состоянии как «особо важное». Такая гипотеза могла бы объяснить, почему люди, пережившие такой религиозный опыт, затрудняются объяснить его другим. Ведь у обычных, не столь глубоко религиозных людей активность «эмоционального мозга» даже в состоянии молитвы довольно ограничена, и он вовсе не воспринимает появляющиеся при этом ощущения как «особо важные». Вот как объясняет это различие Джеффри Сейвер, нейролог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Содержание глубокого религиозного переживания — его визуальные и чувственные компоненты — точно те же, что и обычные, каждодневные переживания любого человека. Но височнодольная система «эмоционального мозга» маркирует эти моменты религиозного опыта индивидуума как чрезвычайно важные состояния, сопровождаемые ощущениями большого удовольствия и гармонии. Когда такой опыт пытаются описать другим, удается передать только его содержание и чувство его необычности, но никак не сопровождающие его внутренние ощущения». Имеется много свидетельств, подтверждающих важность «эмоционального мозга» для религиозного опыта. Наиболее известны показания людей, страдающих эпилептическими припадками и рассказывающих о неких «глубоких прозрениях» во время этих припадков. По мнению Сейвера, «это напоминает рассказы людей, переживающих религиозно-мистическое откровение, когда их охватывает такое чувство, будто их «Я» становится прозрачным и сквозь его пустоту (и «пустоту» внешней реальности) они видят «реальность» более высокого порядка». Не случайно, замечает Сейвер, многие эпилептики имеют склонность к мистическим переживаниям. Как известно, Достоевский писал, что во время своих эпилептических припадков он «прикасался к Богу». Список религиозных мистиков, которые, по предположениям, могли быть эпилептиками, включает апостола Павла, Жанну д'Арк, святую Терезу из Авилы и Эммануила Сведенборга, основателя Новой Иерусалимской Церкви в XVIII веке. Нейрохирурги, которым во время операций на открытом мозге доводится стимулировать систему «эмоционального мозга», рассказывают, что их пациенты иногда сообщают об испытываемых ими религиозных ощущениях. А альцхаймеровские больные, для которых зачастую характерна, напротив, утрата религиозного чувства, отличаются тем, что у них уже на ранних стадиях болезни начинает разрушаться эмоциональная сфера. Как утверждает Ньюберг, богатство ощущений, которое привносит в повседневную жизнь резкая активизация «эмоционального мозга», может объяснить, почему все религии придают такое значение ритуалам. Принудительные и стилизованные церемониальные действия вырывают людей из обыденности и помогают «эмоциональному мозгу» маркировать их как значительные. К тем же результатам, кстати, может привести и религиозная музыка, вызывая то ли возбуждение, то ли тихое блаженство. Об этих наблюдениях докладывали японские исследователи еще в, 1997 году. Аналогичный эффект вызывают песнопения и ритуальные движения, а также медитация — иногда люди возбуждаются, иногда успокаиваются, а порой испытывают эти противоположные ощущения одновременно. По мнению Ньюберга, такое сочетание противоположных реакций помогает усилению эмоционального эффекта обрядовых действий. Вдумаемся, что же это все означает? Если религиозное чувство, как утверждают Ньюберг и его коллеги, имеет материальную основу (область ОАО, «эмоциональный мозг» и т. п.), то его, очевидно, можно вызывать в мозгу и искусственно. Выходит, что любого человека можно обратить в религию, даже не прибегая к помощи миссионеров. Увы, это, кажется, действительно так, и тем, кто в это не верит и считает себя «стопроцентно иммунизированным» против всякого религиозного чувства, можно предложить лишь записаться на прием к доктору Майклу Персингеру, нейрологу из университета в ничем не примечательном американском городе Садбери, штат Онтарио, известном лишь никелевыми рудниками. Доктор Персингер утверждает, что «встретить Бога» может чуть ли не каждый — для этого достаточно лишь надеть некий специальный шлем. В течение нескольких лет Персингер использует технику, которую он называет «транскраниальной магнитной стимуляцией», вызывая с ее помощью «сверхъестественные» переживания у самых обычных людей. Действуя методом проб и ошибок с добавкой небольшого количества обоснованных догадок, он обнаружил, что слабое магнитное поле (примерно того же порядка, что и магнитные поля, генерируемые компьютерным экраном), сложным образом вращающееся против часовой стрелки возле височной доли головного мозга, вызывает у четырех из пяти людей ощущение, что рядом с ними в комнате находится некое призрачное существо. Как поступают люди, оказавшись в соседстве с призраком, зависит от их собственных чувств, склонностей и верований. Если они недавно потеряли близкого человека, то могут решить, что этот человек вернулся, чтобы повидаться с ними. (Как тут не вспомнить гениального Лема с его «Солярисом»?) Люди религиозного типа могут идентифицировать этот призрак как Бога. «И все это происходит в лаборатории. Легко себе представить, что произошло бы, если бы такое случилось с человеком ночью, когда он один, в своей кровати, — или в церкви, где имеется столь подходящий и существенный контекст», — говорит ученый. Персингер самолично пробовал надевать свой «чудотворный» магнитный шлем и, по его словам, тоже ощущал «призрачное присутствие», но у него это ощущение было ослаблено, поскольку, он был слишком хорошо осведомлен о происходящем. Не все, однако, согласны с тем, что персингеровские видения можно приравнять к тому, что переживают глубоко религиозные люди. Так, например, представитель главного Лондонского раввина (не самый, надо думать, объективный судья) утверждает, что эксперимент Персингера столь же далек от истинно религиозного переживания, как настроение, созданное с помощью психостимулирующих лекарств, далеко от естественного психического состояния человека. Тем не менее, как бы ни расценивали эксперименты Персингера, они с очевидностью показывают, что мистические переживания состоят не только из того, что мы чувствуем, но также из нашей интерпретации этого ощущения. «Мы подгоняем эти переживания под определенный стереотип, помещаем в отсек с определенным «ярлыком» (например, общение с высшим существом), и тогда наше переживание запоминается именно в таком виде. Такая подгонка производится бессознательно и занимает всего несколько секунд». Тут сказывается и то влияние, которое люди как социальные животные получают, разделяя с другими религиозные ритуалы. По словам Персингера, «религия состоит из трех составляющих, заранее заложенных, запрограммированных в мозгу» (Сейвер называет это в своей книге «нейронными субстратами»). Люди запрограммированы самой природой время от времени переживать ощущения, создающие у них иллюзию различных «видений». Как разумные существа они способны (и склонны) классифицировать эти ощущения, то есть распределять их «по полочкам». Наконец, они нуждаются в общении с себе подобными, то есть в социальных связях и пространственной близости с другими людьми. Все это приготовляет их к переживаниям ощущений религиозного типа. Но содержание, которое вкладывается людьми в эти переживания, не задается мозговыми программами. Не мозг порождает, скажем, религиозную нетерпимость. Но если, к примеру, вы ощущаете «единение с Богом» и при этом верите в необходимость уничтожить всякого, кто не разделяет вашу веру, то это уже является чисто культурным наполнением вашей веры. Именно такое культурное наполнение веры может, как мы видим на примере Бен Ладена и его соратников, превратиться в реальную социальную опасность для других людей. Из изложенного выше следует любопытный и отчасти даже тревожный вывод: по какой-то неизвестной нам — то ли естественной, как скажут скептики, то ли сверхъестественной, как скажут верующие, — причине ваш большой и мощный мозг наделен возможностью испытывать некий эволюционно относительно новый вид переживаний, которые мы называем религиозными. Поскольку никакие другие толкования и выводы из описанных выше экспериментов не являются однозначными, то, как справедливо утверждает Ньюберг, невозможно опровергнуть мнение антирелигиозных скептиков, которые видят в результатах этих экспериментов доказательство «отсутствия Бога» и его «порождения» нашим мозгом. «Однако, с другой стороны, — продолжает Ньюберг, — религиозный человек может сказать, не без логики, что если «мозг может порождать веру», это свидетельствует, что именно Бог вложил ее в этот мозг для некоторой интеракции с человеком. Такое предположение тоже нельзя, опровергнуть. Проблема заключается в том, что все наши переживания в равной степени порождаются мозгом — как ощущения реальности, так и мистические переживания». Фактически, как ни парадоксально это звучит, единственным критерием реальности для нас является то, насколько реальной мы ее ощущаем: «Вы можете видеть сон и в это время чувствовать его реальным, но когда вы проснетесь, он тотчас перестанет быть для вас реальностью. С другой стороны, люди, подверженные мистическим переживаниям, считают их более реальными, чем обычная реальность, и сохраняют это убеждение, даже возвращаясь в обыденную реальность. Из этого круга невозможно найти выход». Эти осторожные формулировки устраивают и верующих людей. В конце концов, можно ведь видеть в шекспировских сонетах просто чешуйки графита, разбросанные по поверхности листа целлюлозы, а можно, будучи человеком определенной культуры, видеть в них произведение великого духа, и это тоже будет правдой. Как показывают описанные эксперименты, религиозное или мистическое переживание — это результат активности определенной группы нейронов, но верно и то, что в рамках той или иной культуры они трансформируются в ту или иную религию, которая наполняется тем или иным культурным содержанием, в свою очередь, подчиняет себе (толкует на свой лад) очередные религиозные или мистические переживания и в конечном счете становится мощной традицией и реальной социальной силой. Поэтому не стоит, наверно, толковать результаты «экспериментальной теологии» как аргумент против существования Бога — верующих это не убедит, а неверующим не нужны аргументы. Во всем, что касается Бога, лучше руководствоваться, думается, правилом, которое сформулировал много лет назад один знакомый мне давний политзаключенный, Человек бывалый и мудрый: «С Богом лучше не связываться». Другой мой знакомый, профессор-физик, тут же обосновал эту мысль научно-теоретически: «Человек в принципе не может постичь Бога, как система низшего порядка сложности не может постичь систему высшего порядка сложности». Что тоже верно, хотя и более туманно. Не хватало только религиозного человека, который то же самое выразил бы на свой, третий лад, напомнив, что «пути Господни неисповедимы»… >ГЛАВА 10 КОСМОЛОГИЯ И КАББАЛА Позволю себе признаться: во всей современной науке самыми интересными областями мне представляются космология с космогонией и молекулярная биология. Это — подлинные горизонты человеческого познания. Мысль человека сталкивается здесь с загадками бесконечно большого и бесконечно малого. Более того, она сталкивается здесь с двумя фундаментальнейшими категориями нашего физического существования — Вселенной и Жизнью. Современная космология развивается в последние годы необычайно бурно. Идет стремительное накопление новых фактов и рождение новых теорий, и обо всем этом стоит рассказать отдельно — это необыкновенно увлекательно. Однако прежде чем устремляться вслед за непрестанно ищущей научной мыслью и рассказывать о новых, все более и более грандиозных и увлекательных космологических гипотезах, стоит, думается, оглядеться и подвести хотя бы краткий итог того, что науке сегодня уже известно. А заодно взглянуть на сложившуюся в нашем представлении картину с неких общих позиций — что все это значит? К чему, в конце концов, идет человеческий разум? Не творит ли он на наших глазах какой-то новый величественный космогонический миф? В современной космогонии время от времени заявляют о себе голоса, утверждающие, что дело обстоит именно так. Некоторые ученые (и среди них такие крупные, как, например Поль, Дэвис, Франк Типлер и Джон Барроу) утверждают, что по мере своего развертывания нынешняя космогоническая картина мира все больше приближается к религиозному толкованию, к постижению некого Высшего Замысла, а проще говоря — к признанию существования Бога. Недавно к этим голосам присоединился еще один. Известный американский физик Джоэль Примак выступил со статьей, в которой заявил, что современная космогония во многом перекликается с еврейской Каббалой. Концепции нашей науки; заявил профессор Примак, все больше перекликаются с концепциями этого древнего мистического учения. Космогония оборачивается неким воспроизведением каббалистического мифа. Дерзновенный Декартов разум, объявляющий своим правом анализировать ВСЁ, не может отворачиваться от необходимости проанализировать и такую возможность. Всё так всё! Если путь познания ведет к идее Бога, то самым антипознавательным было бы прятать голову в песок. Только ведет ли? Что в действительности мы уже знаем о возникновении и строении мира? Мы живем в мире звезд. Эти гигантские огненные шары не разбросаны беспорядочно во Вселенной — они образуют еще более гигантские, скопления, именуемые галактиками. Около 10 процентов видимых галактик собраны в еще более огромные скопления, образующие грандиозные «листы», или гигантские «нити». Эту сложную организацию ученые называют «крупномасштабной структурой» Вселенной. Иными словами, Вселенная не беспорядочна — она имеет структуру. Наша галактика — Млечный путь — входит в состав небольшого скопления, расположенного на окраине грандиозного галактического «листа», простирающегося в сторону созвездия Девы. Если мысленно описать сферу радиусом в десяток миллиардов световых лет (это то расстояние, на которое еще могут заглянуть современные телескопы), то внутри такой сферы окажутся миллионы галактических скоплений, в каждом из которых содержатся тысячи, а то и миллионы галактик, каждая из которых, в свою очередь; состоит из миллиардов звезд. Все эти галактики и их скопления непрерывно удаляются друг от друга — об этом свидетельствует растягивание и «покраснение» испускаемых ими световых волн. Чем дальше от нас галактика, тем быстрее она движется. Процесс разбегания галактик впервые открыл американский астроном Хаббл. Мысленно повернув этот процесс вспять, астрофизики, естественно, пришли к выводу, что в какой-то момент в прошлом все галактики и звезды были очень близки друг к другу, практически сливались в один невообразимо громадный и плотный, чудовищно раскаленный «Пра-Атом». То, что произошло затем, английский физик Фред Хойл насмешливо назвал «большой хлопушкой», или, более уважительно, — Большим Взрывом, по-английски — Big Bang. Теория, выводящая историю Вселенной из такого Бит Бэнга, объясняет наблюдаемый разлет галактик, и даже механизм образования всех наблюдаемых химических элементов. Но она не объясняет всего. В частности, она не объясняет образования галактик и их скоплений. Одной гравитацией, притяжением частиц первичной материи друг к другу, этого не объяснишь. Если первичная материя расширялась, оставаясь однородной, гравитация могла бы только замедлить это расширение. Чтобы образовать сгустки материи, из которых родились звезды, галактики и их скопления, гравитация нуждается в исходной неоднородности — тогда она может крайне медленно, за чудовищное количество миллионолетий, уплотнить эти неоднородности, нарастить на них новые слои материи и образовать массивные тела. Лет тридцать назад, развивая стандартную теорию Биг Бэнга, астрофизик Гут высказал мысль, что на самых ранних стадиях расширения только что родившейся Вселенной это расширение происходило «экспоненциально», то есть с колоссальным ускорением. На этой стадии шар Вселенной раздувался невообразимо быстро: за миллиардные доли секунды он вырос от размеров атома до размеров футбольного мяча. При этом существовавшие внутри «Пра-Атома» микроскопические неоднородности (вызванные квантовыми свойствами материи на микроуровне) были чудовищно «раздуты», стали макроскопическими. Это «раздутие», или, по-английский, inflation, наградило теорию Гута ее названием — «инфляционная теория». Теория Гута объясняет нынешнюю неоднородную структуру Вселенной наличием уже в первичном «Пра-Атоме» исходных неоднородностей, которые в результате стремительного раздувания стали зародышами звезд и галактик. Дальнейшая судьба Вселенной зависит от средней плотности материи в ней. Если эта плотность меньше некоторой критической величины, Вселенная будет расширяться бесконечно; если она больше этой величины, расширение — в отдаленном будущем сменится сжатием. Но сейчас нас интересует не будущее, а прошлое. Можно ли в него заглянуть? Можно ли убедиться, что все происходило именно так, как описывает инфляционная теория? Оказывается, можно. Теория предсказывает, в частности, что гигантская вспышка, сопровождавшая Биг Бэнг, породила излучение, которое до сих пор заполняет Вселенную. Постепенно остывая, это первичное излучение должно сегодня иметь температуру около трех градусов по абсолютной шкале. Это предсказание было подтверждено в 1972 году космическим исследовательским комплексом КОБЕ. Более того — было установлено, что это излучение распределяется в пространстве не вполне однородно: оно обнаруживает крохотные неоднородности, которые, видимо, существовали в момент его испускания. Инфляционная теория достаточно хорошо описывает наблюдаемую структуру Вселенной и объясняет, как эта структура возникла из первичных неоднородностей и как она будет развиваться. В ней недостает только объяснения причин самой инфляции. Но в самое последнее время, буквально в минувшем году, была предложена некая гипотеза, объясняющая и этот факт. Ее автор, астрофизик Андрей Линде из Стэнфорда, утверждает, что инфляция вообще вечна: в «Супервселенной» (совокупности всех возможных Вселенных, подобных нашей) идет непрерывный процесс вздутия и схлопывания своего рода «космических пузырей». Некоторые из них раздуваются до масштабов настоящих Вселенных; другие в силу неблагоприятных начальных условий достигают лишь «детских» размеров; третьи вообще схлопываются сразу — и этот, процесс идет повсеместно и безостановочно, не нуждаясь в «первопричине». Не будем сейчас вдаваться в детали этой грандиозной научной картины мира; не станем обсуждать и те неожиданные трудности, на которые натолкнулась эта глобальная теория в последнее время, — последуем лучше за профессором Примаком и повторим его простой и «наивный» вопрос: что же это все означает? Каков «смысл» этой космогонической картины? Сами термины «значение» и «смысл» немедленно возвращают нас в сферу человеческих представлений. Нет иного «смысла», чем тот, который осознается человеком, и нет иного «значения», чем значение того или иного факта для разных людей. Это МЫ наделяем значением и смыслом «сырые» факты и данные наблюдений, и МЫ же связываем их с другими нашими представлениями в некое общее «объяснение» мира. Самые общие такие представления издавна получили название мифов. У слова этого множество толкований: мифом называют и сами представления, и рассказ о них, и ритуал такого рассказывания (или воспроизведения рассказа в форме обряда или игры). Но в основе всех этих толкований лежит понятие мифа как связного объяснения устройства мира, его важнейших закономерностей. Всякая известная антропологам культура имеет свои мифы, и это не удивительно: человек изначально нуждается в понимании (а стало быть, и в объяснении) окружающего мира — хотя бы для того, чтобы выжить в нем. Еще Платон говорил, что ответом на вопрос «Что это значит?» является миф. Мифы складываются в систему. Есть миф о происхождении человека; есть миф о «приручении» огня или животных; и есть, разумеется, самый первый и исходный миф о происхождении мира, Вселенной, всего сущего, миф космогонический. Он тоже имеется у всех древних народов и первобытных племен. Да и как же ему не быть? Ведь он, можно сказать, основа всего. Наш иудео-христианский миф знаком нам из Библии, из книги Берешит — в нем заодно просматриваются и следы аналогичных мифов других народов Ближнего Востока; из школы мы знаем о космогоническом мифе древних греков; многие, наверное, читали пересказы мифов других племен и народов. Все мифы всегда играли одну и ту же роль — они объясняли данному коллективу и его отдельным членам, как возникла и устроена Вселенная, чем или кем она управляется, по каким правилам существует. И это давало человеку сознание своего места в таком космическом распорядке вещей, придавало осмысленность его крошечной судьбе, устраняло ужас, порождаемый мыслью о случайности и хаотичности существования. Недаром само слово «космос» по-гречески означает «порядок». В этом смысле мифы продолжают складываться и сегодня. Стоит появиться чему-то необъяснимому, как тотчас возникают и «объяснения», связывающие этот феномен, например, с пришельцами из космоса. Человеческий разум, как и природа, не терпит пустоты: он жаждет все заполнить причинными объяснениями. Но именно этим, говорит профессор Примак, занимается и современная космогония. По мнению Примака, она создает современный космогонический миф. От того, что мы назовем его «научным», его характер и культурное назначение нисколько не изменятся: структурно и функционально он аналогичен всем древним космогоническим мифам. И из всех этих древних мифов, продолжает Примак, он ближе всего к еврейской Каббале. Я не стану здесь пересказывать миф Каббалы в соответствии с тем, как его понимает профессор Примак, а попробую изложить его, опираясь на книги выдающих специалистов по религияведению Гершома Шолема и Мирче Элиаде. Итак, Каббала. Дословно название это означает «традиция», то есть знание, передаваемое из поколения в поколение и получаемое (от ивритского слова «лекабель» — «получать») каждым новым поколением из рук предыдущего. Ранние каббалисты считали, что это тайное знание восходит к самому Моисею, а точнее — к Торе, данной Моисею на горе Синай. Тора, по утверждению древних еврейских книг, была «планом Творения», и каббалисты постигали тайны этого плана посредством мистических озарений. Рациональные термины непригодны для передачи мистического опыта; поэтому космогония каббалистов излагается с помощью метафор и аллегорий. В основу этой космогонии положено представление о бесконечном божестве, Эйн-Соф, обладающем десятью важнейшими ипостасями, или «сефирот». Три из них — Кетер («венец Бога»), Хохма («мудрость, или предвечная идея Бога») и Бина («разум Бога») — имеют прямое отношение к сотворению мира. Но прежде чем говорить, как Каббала мыслит себе это сотворение, следует уточнить понятия «сефирот». Наиболее точную их характеристику дал, по-видимому, Гершом Шолем: сефирот — это атрибуты Бога, его «эманации», каждая из которых действует в своей сфере Божественной реальности. Еврейский космогонический миф, то есть рассказ о сотворении мира, проходил много стадий усложнения и достиг высшего своего выражения в произведениях великого мистика XVI века Ицхака Лурия из Цфата, который, в свою очередь, развил и переосмыслил идеи знаменитой древней книги «Зоар» (созданной Моше де Леоном в XII веке). Исходный вопрос, поставленный лурианской Каббалой, звучит очень просто: как мог Эйн-Соф создать нечто, отличное от Себя, если Им было заполнено всё? Ответ на этот вопрос, напротив, был величественно-дерзким: Эйн-Соф, утверждал Лурия, претерпел «цимцум» — что на древнееврейском языке, грубо говоря, означает «сжатие», или «стягивание», а точнее — «удаление от Самого себя». Он как бы покинул некую область, освободив в Себе Самом место — этакое пустое предвечное пространство, предназначенное для будущего творения. В первом акте этого творений Эйн-Соф создал Ничто, Небытие: этот этап очень напоминает то, что в научной космогонии описывается сегодня как сжатие предсуществовавшей Вселенной в исходный «Пра-Атом»; такое сжатие в современных космогонических теориях тоже должно было сопровождаться исчезновением материи, а с нею и пространства-времени. В Каббале способность к совершению такого грандиозного действия как раз и обозначается словом «Кетер» — это величие, венец Бога. На второй стадии в сферу Ничто изливается вторая эманация — Хохма. Она как бы «взрывает» это Ничто и превращает его в Бытие. Согласно «Зоару», такое творение Бытия из Ничто начинается в мистической «предвечной точке» (космогонический «Пра-Атом»?), вокруг которой реализуется весь космогонический процесс. Вот как «Зоар» описывает этот процесс: «Сумрачный пламень из сокрытейшей глубины Эйн-Соф… стал обретать размерность и протяженность, он окрасился разными цветами… В самой середине этого пламени забил источник… он прорвал эфирную ауру, окружающую его (и)…под действием прорыва… засветилась надмировая точка… Она зовется «Решит», то есть начало, первое слово «Творения»». На языке современной космологии мы могли бы назвать эту точку «началом времени» и отождествить ее с началом инфляционной стадии расширения Вселенной. Каббалисты отождествляют эту точку с «Хохмой» — мудростью Бога, ибо, по их мнению, в ней уже изначально заключена вся эта мудрость, весь Божественный Замысел Творения. Иными словами, каббалистический миф на своем языке говорит примерно то же, что утверждает сегодняшний миф научный: будущая структура Вселенной была уже заключена («записана») в структуре «Пра-Атома» (в тех квантовых неоднородностях, из которых возникли «морщинки» и «складки», давшие начало галактикам и их скоплениям). На третьем этапе Творения точка, по утверждениям каббалистов, развивается в «дворец», или «строение» — то, что таилось в точке в свернутом состоянии, теперь развертывается в мироздание. Эманация, движущая этот процесс, есть «Бина», разум Господень, и, как пишет Шолем, «это слово обозначает в Каббале не только разум как таковой, но и то, что «разделяет вещи, дифференцирует их»». И здесь мы снова видим аналогию со второй стадией расширения Вселенной (после инфляции), когда происходит образование ее крупномасштабной структуры. Эти идеи дополняются у Лурии представлением о Божественном свете, который заполнил созданный в этом процессе мир. Так и тянет отождествить этот «первичный свет» с тем космическим «праизлучением», которое было обнаружено в эксперименте КОБЕ. Но, разумеется, у Лурии это совершенно иной свет. Подобно тому, как его «цимцум», добровольное «самоизгнание» Бога, был грандиозной метафорой и аналогией только что произошедшего изгнания евреев из Испании (тем самым это изгнание обретало смысл нового «начала», что пережить уже гораздо легче), так и Первичный Свет в мифе Лурии играл роль «движителя» всего последующего исторического процесса. «Сосуды», предназначенные для этого Света, не выдерживают его гигантского излияния, они разбиваются, и возникает мир «тогу вавогу» (хаоса); обломки сосудов вносят в мир зло, и отныне задача человечества — «починить», «исправить» этот мир, произвести «тиккун хаолам» («починку мира»); возглавить это исправление, по мнению Лурии, предназначено еврейскому народу, а признаком завершения процесса станет явление Мессии. И здесь мы отчетливо видим, что при всей аналогичности двух мифов между ними пролегает и глубочайшее различие. Каббалистический миф был культурным порождением трагического опыта средневекового еврейства, только что изгнанного из Испании, он был своеобразным «ответом», реакцией на этот опыт, дающей силы перенести трагедию и надежду на новое возрождение. Это не наука и не предвосхищение современной науки, что и следует заявить со всей определенностью, ибо находится немало охотников утверждать, будто «всё уже есть в Торе» или «всё уже предугадано в Каббале». Вернемся теперь к профессору Примаку — он как раз об этом различии (и сходстве) давно уже рвется сказать. А рвется он сказать следующее: «Каббала и современная космогония — это две системы метафор, описывающих создание и строение космоса. Эти системы различны: Каббала использует представления о «надмировой точке», «эманации Бога», «предвечном Разуме» и так далее, тогда как космогония говорит о «Пра-Атоме», «инфляционном расширении» и «крупномасштабной структуре Вселенной». Каббала говорит о путях Бога и человека, наука — о путях материи, времени и пространства. Поразительно, однако, что Каббала как метафорическое описание фундаментальных закономерностей мира оказывается намного ближе к метафорам современной космогонии, чем, скажем, к представлениям космогонии Ньютона или даже Эйнштейна. Поэтому современную космогонию можно с достаточным правом назвать научным аналогом каббалистического мифа». Профессор Примак настолько увлекается своей аналогией, что даже пытается, подобно великому Лурии, наметить свой план «исправления» мира: сегодня, говорит он, индустриальное общество переживает период чудовищно быстрого роста («инфляционное расширение» в терминах космогонии); но не бойтесь: наука предсказывает, что эта стадия сменится периодом бесконечного и вполне спокойного расширения (как и во Вселенной). Иными словами, возьмем на вооружение космогонический миф современной науки и будем уверенно править в открытое море будущего, руководствуясь мифом, как компасом. Но мы не последуем за увлеченным американским астрофизиком в это бурное море. Мы останемся на твердой почве фактов: Каббала как «метафорическая космогония» поразительно СРОДНИ космогонии научной, но, конечно, ее НЕ ПРЕДВОСХИЩАЕТ. Чем же тогда объяснить это сродство? Быть может, единой структурой человеческого мозга, которая навязана ему природой и, как следствие, единой структурой человеческого мышления? Не случайно многие специалисты по Каббале указывают, что ее «процесс истечения эманаций» во всех своих стадиях поразительно напоминает последовательные стадии психологического процесса развертывания логического мышления. Но такое объяснение сродства современной космогонии и древней каббалы предполагало бы, что это не мир обладает структурой, а наше мышление навязывает свою (космогоническую или каббалистическую) структуру миру. Переход к такому представлению равносилен переходу от «материалистической» парадигмы сознания к парадигме «идеалистической». Не будем на бегу замахиваться на парадигмы. Лучше остановимся здесь и просто снимем мысленно шляпу — перед автором «Зоара» и автором общей теории относительности, перед Ицхаком Лурией и Альбертом Эйнштейном. Перед величием человеческой мысли… >ЧАСТЬ 2 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ КОРАНА >ГЛАВА 1 МУДРЕЦЫ ПЕСЧАНЫХ ПУСТЫНЬ Некоторое время назад в газете «International Herald Tribune» была опубликована статья американского журналиста Александра Штилле под заглавием «Ученые изучают происхождение Корана». В ней говорилось, что события 11 сентября 2001 года и последовавшие за ними привлекли внимание ученых к фундаментальным основам ислама, запечатленным в Коране. Однако исследование этой книги и истории ее становления оказалось далеко не безопасным занятием. Жестокая расправа (кто не помнит историю Салмана Рушди, коему был вынесен смертный приговор!) грозит всякому, кто усомнится в словах этой книги, которую, согласно мусульманской традиции, сам Аллах продиктовал Магомету через архангела Габриэля. Штилле рассказывает о недавнем исследовании немецкого ученого Кристофа Люксенбурга «Сиро-арамейское прочтение Корана» — оно никак не могло найти издателей. Немецкие издательства страшились опубликовать эту работу, хотя в ней всего лишь утверждалось, что текст Корана на протяжении столетий читался, интерпретировался, а потому и переписывался с определенными ошибками. Не удивительно, сетует газета, что Коран до сих пор не изучен как следует, в отличие, например, от фундаментальных текстов иудаизма. Существуют лишь редкие попытки таких исследований, говорится в заключение статьи, и в качестве примера таковых приводится весьма краткое изложение гипотезы американских ученых Кроне и Кука. Александр Штилле не вполне прав. Конечно, свободно изучать Коран опасно. Но тем не менее смельчаки находятся, и сегодня в отношении истории Корана и самого ислама уже предложено несколько оригинальных и увлекающих воображение научных гипотез. Думается, читателям будет небезынтересно ознакомиться с этими новыми идеями. Известно, что ранний ислам сформировался под сильным влиянием иудаизма, занесенного в Аравию переселившимися сюда в начале новой эры евреями: например, аравийский город Ятриб (он же Медина) населяли целых три еврейские общины, что сыграло не последнюю роль, в решении бежавшего из Мекки Мухаммеда переселиться именно сюда — пророк рассчитывал заключить союз с иудеями. Из иудаизма ислам заимствовал учение о едином Боге и многое другое, причем это заимствование происходило весьма легко, поскольку лежало в русле уже существовавшей издавна традиции, согласно которой арабы, как и евреи, происходят от праотца Авраама («первым арабом» считается Ишмаэль, сын Агари, наложницы Авраама; не случайно один из мифов современного исламского антисемитизма гласит, что Завет был заключен Богом не с евреями, а с арабами, ибо это произошло после рождения Ишмаэля, но до рождения Ицхака). Хорошо известно также, что в дальнейшем Мухаммед решительно повернулся против евреев, и весь Коран пронизан призывами к их истреблению («И скажет куст: о мусульманин, о Абдалла! За мной скрывается еврей — приди и убей его!»). Иногда это объясняется отказом ятрибских евреев принять ислам, но английский историк-арабист Бернард Льюис считает попросту, что «евреи Медины играли роль балансира между двумя враждующими арабскими общинами и поэтому были ненавидимы обеими». Мухаммед, по Льюису, видел свое призвание в объединении арабов, а евреев считал главной помехой такому объединению. Однако ненависть к евреям не утихла и после арабского объединения под знаменем ислама. И чуть ли не первым делом самого Мухаммеда, а потом его преемников стала подготовка похода на Палестину (она была захвачена халифом Омаром в 638–640 годах). Историки до сих пор спорят о военно-стратегических целях этого похода, но именно неясность таких целей заставляет думать, что Мухаммед попросту завещал своим преемникам подсечь самые корни иудаизма, отняв у него «землю праотцев» и превратив ее в «землю ислама». Некоторые историки поэтому полагают, что в основе этой неукротимой ненависти лежало непримиримое, не на жизнь, а на смерть, религиозное соперничество, вроде того, которое породило яростный антисемитизм раннего христианства. Но в эпоху раннего ислама евреи давно уже не представляли собой того сильного конкурента, каким они были в отношении раннего христианства во времена Римской империи. Тут явно скрыта какая-то тайна, разгадка которой требует отказа от устоявшихся представлений и выдвижения альтернативных гипотез. Оказывается, их существует даже несколько. Одна из них предлагает присмотреться к религиозным особенностям раннего ислама. Он действительно заимствовал у иудаизма весьма многое: не только монотеизм и ряд важных деталей вроде запрета на родственные браки, пищевых запретов и т. д., но даже порой такие тонкости, на основании которых некоторые специалисты утверждают, что Мухаммед был знаком с определенными, специфически еврейскими (т. н. «мидрашистскими») толкованиями Торы. Но, кроме того, в исламе есть и христианские элементы. Само по себе это не так уж странно — всякая более поздняя религия складывается на основе заимствований из предшествующих. Странность в том, что и иудейские, и христианские заимствования в исламе, по мнению тех же специалистов, отражают воздействие не вполне ортодоксального иудаизма и не вполне ортодоксального христианства, а, скорее, влияние каких-то сект или даже ересей. Так, изнурительные и долгие мусульманские посты ближе к уставам ранних христианских аскетических монастырей, чем к более позднему византийскому христианству, а апокалиптические описания Страшного суда, который, по Мухаммеду, может наступить «в течение двух мгновений», ближе к представлениям кумранской общины евреев, чем к традиции иерусалимской ортодоксии. В то же время резкие нападки Мухаммеда на ростовщиков и запрет на ростовщичество напоминают определенные черты караимской ереси в иудаизме. Наконец, в раннем исламе с его идеей «цепи пророков», последним из которых является Мухаммед, можно увидеть и черты т. н. гностической ереси: именно такую идею провозглашали гностики-«элказаиты», секта которых сложилась около 100 года н. э. в Сирии, а затем — наследовавшая им и куда более известная секта манихейцев. На основании всех этих наблюдений выдающийся знаток раннего христианства Гарнак выдвинул весьма нетривиальную гипотезу, согласно которой «ислам является переделкой еврейской религии на арабской почве — переделкой, произошедшей после того, как сама еврейская религия была переделана гностическим иудео-христианством». По Гарнаку, учителями Мухаммеда были не еврейские раввины или христианские священники, а иудео-христианские сектанты-гностики. Именно под влиянием гностицизма, считает он, Мухаммед не принял ни иудейского, ни христианского Бога, а провозгласил своего Всевышнего — Аллаха. Но другие ученые считают, что это утверждение Гарнака неубедительно. Аллах — божество из очень древнего арабского пантеона. Среди 360-ти статуй богов и богинь, стоявших в доисламской Каабе, одна была посвящена Аллаху. Мухаммед просто возвысил этого племенного божка до ранга единственного Бога. Кроме того, в исламе нет многих важнейших признаков гностицизма. Исходя из этого, шведский исследователь Тор Андре, оппонент Гарнака, предложил другую альтернативу канонической мусульманской версии происхождения ислама. По его мнению, ранняя проповедь Мухаммеда выдает близкое знакомство с идеями монастырского христианства. Не исключено, говорит Андре, что во время своих торговых скитаний по Южной Аравии и Синайскому полуострову Мухаммед мог побывать в тамошних монастырях, познакомиться с их уставами и подпасть под очарование их сурового, скромного быта. Андре не отрицает, что Мухаммед испытал также влияние еврейской мысли, но считает, что еврейские наслоения играют в исламе вторичную роль. Свое утверждение Андре пытался доказать путем сопоставления ранних и поздних сур Корана, ранней проповеди Мухаммеда и его религиозных реформ в последние годы жизни. Но в гипотезе Андре есть слишком много слабых мест. Достаточно упомянуть (это сделал еврейский историк Гойтейн), что имя Иисуса встречается в Коране всего четыре раза, а имя Моисея — около ста раз. Образ Моисея как первого религиозного учителя в исламской «цепи пророков» буквально пронизывает ранний ислам. На его приоритет в создании монотеизма ссылается и сам Мухаммед: «Ибо до этой книги (Корана. — Р.Н.) была книга Моисея (Тора. — Р.Н.)». Это тем более удивительно, говорит Гойтейн, что слова. Мухаммеда сказаны уже в талмудическую эпоху, когда в самом иудаизме Моисей рассматривался вовсе не как «первый в цепи Пророков», а как «первый в цепи Закона». Кто же это в ту эпоху мог внушить Мухаммеду такое неортодоксальное представление о Моисее и такое уважение к нему? — спрашивает Гойтейн. И отвечает собственной, еще более нетривиальной гипотезой. Он выдвигает смелое предположение, что среди еврейских сект, во множестве возникших в иудаизме на переломе эпох, существовала и неведомая нам секта «Последователей Моисея», или «Бней-Моше». Возможно, она возникла, говорит Гойтейн, как реакция на ортодоксальный иудаизм, как своего рода попытка возврата к «старому учению». Исследования текста Торы уже давно показали, что в иудаизме все время шла подспудная борьба между священниками Храма, пытавшимися «поднять» роль Аарона, прародителя левитов, в ущерб авторитету и значению Моисея. В таком случае секта «Бней-Моше» могла возникнуть в продолжение этих давних споров. С другой стороны, она могла появиться как Противовес возникшим тогда же протохристианским общинам, также отходившим от господствовавшей иудейской ортодоксии, но в противоположную сторону. Как бы то ни было, секта эта, полагает Гойтейн, видимо, бежала из Палестины во время Иудейской войны и последующей разрухи. Но не скрылась, как Кумранская община, на берегах Мертвого моря, а бежала намного дальше — в самую Аравию. Такое предположение подтверждается тем, что первые упоминания о появлении евреев в Аравии датируются именно началом новой эры. Впоследствии, конечно, в Аравию бежали и другие еврейские общины — как из самой Палестины, так и из Византии и Персии. Но это уже, скорее всего, были вполне ортодоксальные иудеи. Поэтому община, «Бней-Моше», рассуждает Гойтейн, должна была оказаться среди них своего рода изгоем. Подобно караимам, община эта признавала, видимо, только «учение Моисея», то есть Тору, но не Талмуд. Но существовало и различие — в то время как караимы признавали только Письменную Тору и отвергали Устный Закон, члены секты «Бней-Моше», скорее всего, признавали только Устную Тору. Не исключено, что за долгие века обособленного существования в Аравии секта могла набраться и других еретических взглядов, в том числе и гностических. Будет только правдоподобным считать, что в поисках союзников и покровителей лидеры секты «Бней-Моше» искали контактов с арабами — и, среди прочего, также с арабскими бродячими пророками, взыскующими новых духовных горизонтов и потому открытыми для прозелитизма. Таинственность, гонимость уединенного еврейского племени, почитаемая им величественная фигура древнего пророка, его религиозное учение, которое «Последователи Моше» противопоставляли более позднему, «испорченному» раввинами иудаизму, — все это могло произвести резкое и неизгладимое впечатление на экзальтированного арабского юношу Мухаммеда и запасть ему в душу так глубоко, что впоследствии отразилось и в его собственной проповеди и религиозном учении. Не на этих ли первых своих духовных учителей, спрашивает Гойтейн, намекал много позже сам Мухаммед в седьмой суре Корана: «Среди последователей Моисея (евреев. — Р.Н.) есть одно племя, которое выше всех в своем следовании Истине и судит в соответствии с ней»? Интереснейшая гипотеза Гойтейна позволяет вполне непринужденно объяснить и последующую резкую вражду Мухаммеда с основными еврейскими общинами Аравии. Ведь то были ортодоксальные общины. Учение секты «Бней-Моше», да еще в обработке арабского пророка, действительно могло показаться этим еврейским ортодоксам «карикатурой на иудаизм». Более того, оно могло показаться им нетерпимой ересью — ведь оно отрицало Письменную Тору. Со своей стороны, Мухаммеду могла показаться крайне узкой и догматичной, а главное — непримиримо враждебной его взглядам их ортодоксально-раввинистическая доктрина. Недаром он объявил ее «порчей Истины», «позднейшим извращением». В таком случае, говорит Гойтейн, преследование пророком мединских евреев следовало бы рассматривать как своего рода «религиозную войну» со всей присущей таким войнам беспощадностью. И тут в развитии этой гипотезы возникает соблазн истолковать и последующее стремление Мухаммеда завоевать Палестину как продолжение все той же «религиозной войны» — вроде состоявшихся много позже крестовых походов во имя «освобождения Гроба Господня» от «неверных». Но ведь в Палестине к тому времени евреев практически уже не было — ни ортодоксальных, ни «последователей Моше». От кого же — или для кого — Мухаммед завещал ее «освободить»?. На этот ключевой для данной темы вопрос ответили новые участники заочного спора вокруг раннего ислама и происхождения Корана. Ими были американские исследователи Патришия Кроне из Института высших исследований в Принстоне и Майкл Кук из Принстонского университета, оба — выходцы из школы ориентальных и африканских исследований в Лондоне. Их гипотеза буквально взорвала все прежние представления о генезисе ислама и его основополагающей книги. То была крайне дерзкая гипотеза. >ГЛАВА 2 ХИДЖРА ПОТОМКОВ АГАРИ Патришия Кроне закончила в свое время лондонскую Школу восточных и африканских исследований, а свою докторскую диссертацию «Агаризм, или Становление исламского мира» защитила в молодом возрасте в 50-е годы. Но произведенный ею в этой диссертации переворот в представлениях об истории ислама был настолько решительным и вызвал такую бурю, что отдельной книгой (в расширенном виде) она вышла только в 1977 году — как уже сказано, в соавторстве с профессором Принстонского университета (и тоже выпускником Школы восточных и африканских исследований) Майклом Куком. Книга вышла в издательстве Кембриджского университета. Престижное издательство не случайно опубликовало диссертацию Кроне — к тому времени бывшая аспирантка вошла в число ведущих ориенталистов мира, стала профессором известного принстонского Института высших исследований и автором целого ряда глубоких и всеми признанных работ по истории раннего ислама. Открывая книгу Кроне и Кука (а ее стоит открыть, это без преувеличений увлекательное, даже захватывающее чтение), мы оказываемся в абсолютно незнакомом мире: меняются не только порядок и иерархия уже знакомых нам событий, но и сам их смысл. Нам как будто рассказывают совершенно другую историю, хотя и с теми же самыми героями. Разумеется, это опять Мухаммед и евреи — кто же еще? Видимо, исламу никуда не деться от евреев. Но мы словно смотрим на них иными глазами. Кроне действительно смотрит на историю «Становления исламского мира» (как называлась ее диссертация) глазами тех свидетелей, показания которых прежде всегда оставались в тени. До нее история раннего ислама изучалась преимущественно со слов самих мусульман, то есть по арабским источникам. Кроне же утверждает, что с таким же успехом можно изучать историю раннего христианства, пользуясь только показаниями Евангелий. Дело в том, что исследования последних лет выявили совершенно неожиданное обстоятельство. Оказывается, все арабские хроники, описывающие эпоху раннего ислама, созданы на самом деле много позже, чем происходили описываемые в них события (та же ситуация, как известно, имеет место во многих книгах еврейской Библии, т. н. ТАНАХа). Что еще более удивительно — в ранних арабских источниках нет никаких указаний на существования самого Корана — в какой бы то ни было форме. Их нет вплоть до конца VII века н. э., когда Мухаммед был давно уже мертв! Как пишет английский историк Джон Вансброу, первые цитаты из Корана (в виде надписей) появляются лишь в 691 году (на стенах иерусалимской «Мечети на скале»), причем эти цитаты явно отличаются от тех же мест в нынешнем тексте Корана, который передается из столетия в столетие. Это означает, что в VII веке Коран еще только складывался. Точно так же установлено, что многое из того, что сегодня называется «ранним исламом», то есть нынешний рассказ о жизни и. поучениях самого Мухаммеда, основано на текстах, которые сложились через сто с лишним, а то и триста лет после смерти самого пророка (аналогичная ситуация, хотя и с несколько меньшим временным разрывом, характерна, как известно, и для христианства). Выходит, вся история становления ислама и Корана, как она описывается в использовавшихся учеными ранних арабских источниках, является в действительности весьма сомнительной. Но в таком случае, говорят Кроне и Кук, следует обратиться к свидетельствам других народов — тех, которые в ту пору окружали арабов. Легко понять, что это означает радикальную смену угла зрения: до сих пор мы смотрели на историю ислама глазами арабов, теперь попробуем взглянуть на нее же глазами их соседей. И тут нас подстерегает неожиданность — картина оказывается радикально иной. Какой же именно? Вот один из таких новых документов, найденных Патришией Кроне. Это отрывок из греческого (византийского) текста «Доктрина Яакова», созданного, по всей видимости, около 630 года в Палестине. Палестинский еврей Авраам сообщает своим единоплеменникам, живущим в Карфагене, поразительную весть: «Лжепророк появился среди сарацинов. Он пророчит приход Избранного (здесь в тексте стоит греческое слово, означающее Мессию), который придет вслед за ним. Я, Авраам, спросил ученого человека: «Рабби, что ты думаешь о пророке, который явился среди сарацинов?» «Он лжепророк, — ответил рабби со вздохом. — Разве пророки приходят с мечом и на колеснице?» Я стал расспрашивать, и те, кто его встречал, сказали: «В нем нет правды, в этом пророке, одно кровопролитие. Ибо он говорит, что держит ключи от Рая, а этого не может быть»». В этом отрывке, говорит Кроне, содержится, во-первых, указание на доктрину «ключей от Рая», которая действительно существовала в доисламской арабской традиции, но с приходом ислама была объявлена еретической; поэтому можно думать, что данный текст был составлен раньше, чем произошло окончательное формирование ислама. Во-вторых, о пророке здесь говорится как о еще живом человеке. В-третьих, и это главное; он изображен как человек, объявляющий себя предшественником Мессии. Иными словами, ядром его учения является еврейский мессианизм в арабском исполнении. Это весьма неожиданно — ведь в Коране нет никаких следов мессианства. Тем не менее сказанное в «Доктрине Яакова» находит подтверждение в другом — и независимом — документе: в еврейском апокалиптическом тексте «Тайна рабби Шимона бар Иохая». Он был написан в середине VII века и содержит следующий рассказ о вторжении арабов в Палестину: «И увидел он приход царей Ишмаэля и возопил: «Мало нам было царей Эдома, так теперь еще и цари Ишмаэля?!» Тогда Метатрон, повелитель воинств, ответил ему и сказал: «Не страшись, ибо Всевышний, да будет Он благословен, избрал у них пророка по воле Своей и привел его покорить землю твою, дабы возродить ее в величии ее». И он спросил: «Как нам знать, что это наше избавление?» И ответил: «Не сказано ли у Исайи: «И увидел всадников на верблюдах…» и так далее? Когда пройдет всадник на верблюде, придет за ним всадник на осле и создаст царство. И будет царство сие избавлением Израиля, ибо подобно оно Спасителю, приходящему на осле»». «Спаситель, приходящий на осле», — конечно, Мессия. Те считаные евреи, которые жили тогда в Палестине, вполне могли видеть в арабских всадниках своих избавителей от византийской власти. Но любопытно, что автор текста включает в традиционное еврейское описание прихода Мессии еще и появление арабского пророка на верблюде в качестве его предшественника. Евреи вряд ли отвели бы «сыну Ишмаэля» такую роль, это могло прийти только из арабских источников. И в них действительно есть тому косвенное подтверждение: калиф Омар именуется там «аль-Фарук», что означает как раз «Избавитель», причем утверждается, что это прозвище дал ему сам Мухаммед. Разумеется, арабы начисто отрицают, будто Омар призван был избавить евреев. Но если Мухаммед (как вроде бы следует из текста «Доктрины Яакова») считал себя предшественником Мессии, то прозвище, которое он дал Омару, этому самому выдающемуся из своих преемников, выглядит весьма знаменательно. Может быть, евреи Палестины (в отличие от христиан) не случайно так тепло встречали Омара? Может быть, есть смысл прислушаться и к армянским источникам того времени, в которых сообщается, что при Омаре правителем Иерусалима был назначен некий — еврей? Если свести все эти рассеянные детали воедино, — говорит Кроне, — то вырисовывается неожиданная картина: вместо привычной ненависти между арабами и евреями, между мусульманами и иудеями возникает впечатление близости одинаковых мессианских чаяний и надежд. Воображение противится этой непривычной картине, но Кроне привлекает на помощь еще один текст — первый армянский документ, в котором упоминается Магомет. Это т. н. «Хроника епископа Себеоса». В ней рассказывается о бегстве группы евреев из захваченного византийцами в 628 году персидского города Эдесса: «И они ушли в пустыню и пришли в Аравию и искали помощи у детей Измаила, объяснив им, что они их родственники по Библии. И хотя многие готовы были признать это родство, евреи не могли убедить большинство, ибо у тех были другие верования. И был в то время измаильтянин по имени Мехмет, купец, и он предстал перед ними как глашатай истины, и научил их путям Авраамова Бога, ибо он хорошо знал Его пути и хорошо знал историю Моисея. И было ему веление объединить их всех под одним человеком и одним законом, который Бог открыл Аврааму. И сказал им: «Господь обещал эту землю Аврааму и его потомству, поэтому пойдем и возьмем эту землю, которую Господь дал нашему отцу Аврааму». И они все собрались и вышли из пустыни, как из Египта, и разделились на двенадцать колен, и впереди каждого колена шла тысяча израильтян, дабы показать им путь в Землю Израиля. И все. евреи по пути присоединялись к ним, и стала у них великая армия, и они послали к греческому императору, и сказали ему, что эта земля принадлежит им по наследству их праотца Авраама». Разумеется, в этом тексте немало преувеличений и анахронизмов, но нарисованная в нем картина арабо-еврейских союзнических отношений неожиданно подтверждается еще одним документом — на сей раз арабским! Он называется «Конституция Медины», и в нем, вопреки каноническим рассказам об истреблении Мухаммедом мединских евреев, говорится, что эти евреи, напротив, вошли в одну общину с мусульманами и были поровну распределены между арабскими племенами, — а ведь именно о таком распределении («тысяча евреев при каждом арабском колене») и говорит «Хроника епископа Себеоса». Причем эта «Конституция Медины» — несомненно, древний документ, ибо более поздние арабские источники настойчиво пытаются убедить, что вражда между евреями и арабами возникла почти сразу после прибытия Мухаммеда в город; тем больше, говорит Кроне, оснований верить более раннему источнику. Попробуем теперь собрать воедино все свидетельства, приведенные Кроне и Куком, — к чему это все ведет, что означает? >ГЛАВА 3 МУСУЛЬМАНЕ В ПОИСКАХ ИСЛАМА Означает это, что еврейские, армянские, христианские и, наконец, арабские источники, впервые введенные в оборот Патришией Кроне, рисуют совершенно новую картину арабо-еврейских отношений во времена деятельности Мухаммеда и становления ислама, нежели та, какую изображают более поздние, религиозно и политически ангажированные исламские источники. Действительно, если собрать воедино все «свидетельства соседей», приведенные Кроне и ее соавтором Куком, то перед нами возникнет довольно стройная и связная, хотя и крайне непривычная схема. Если же еще поверить этой схеме, то окажется следующее. Поначалу главным стремлением первых мусульман было мессианское, «еврейского типа» стремление отвоевать Обетованную землю — для себя и своих сородичей по Аврааму, своих религиозных учителей-евреев, и именно поэтому Мухаммед провозгласил себя «предшественником Мессии» (отведя роль самого Мессии-Избавителя своему преемнику Омару). Евреи, по Кроне, не только приняли эту мессианскую затею с воодушевлением, но, возможно, сами и были ее первыми вдохновителями. Не они ли нашептали Мухаммеду, что он является продолжателем дела Моисея и что ему, как и самому Моисею, «суждено вывести свой народ из пустыни» (только в данном случае не из Синайской, а из Аравийской!) в Землю обетованную, т. е. совершить своеобразный «арабский Исход»? Но если план завоевания Палестины под водительством Мухаммеда действительно был такой вот религиозно-мистической попыткой повторения еврейского Исхода из Египта под водительством Моисея, то нельзя ли найти следы этого в ранних исламских источниках? И Кроне находит эти следы после того, как задается странным на первый взгляд вопросом: как могли называть себя эти первые последователи Мухаммеда? Ну, разумеется, не «новыми евреями», отвечает она, но и, во всяком случае, не «мусульманами», ибо это слово впервые появляется только в упомянутой нами ранее надписи в иерусалимской «Мечети на скале», а эта мечеть была сооружена лишь в 691 году. Зато в греческом папирусе 642 года и в некоторых сирийских источниках того же времени первые последователи Мохаммеда именуются странным словом «магаритаи», или «магараи», соответствием чему в арабском языке является слово «мухаджруг», означающее тех, кто принимал участие в «хиджре». «Хиджра» же обычно переводится как «исход» и, согласно каноническому исламскому толкованию, означает именно исход, или бегство, Мухаммеда с первыми последователями (этими самыми «мухаджрун») из Мекки в Медину. Но «мухаджрун», подмечает Кроне, имеет и еще одно значение: оно переводится также как «агаритяне», то есть потомки Агари, матери Ишмаэля. Любопытно при этом, что более древним является именно это второе значение, ибо ни слово «хиджра», ни сам рассказ о бегстве Мухаммеда из Мекки в Медину не упоминаются в ранних исламских источниках. Как это понять? И тут Кроне выдвигает смелое предположение: может быть, этих упоминаний нет потому, что поначалу никакой «хиджры» на самом деле и не было. А была группа религиозных единомышленников, называвших себя «мухаджрун», или «агаритяне», потомки Агари, которые задумали совершить Исход из Аравийской пустыни в Землю обетованную, завещанную Господом их праотцу-Аврааму, в полном подобии древнему Исходу своих сородичей-евреев из Синайской пустыни в ту же Землю обетованную праотца Авраама (только, как уже сказано, под водительством Моисея, а не Мухаммеда). И лишь много позже составители исламского канона, желая скрыть следы этого Исхода, задним числом придумали легенду, будто Исход агаритян был всего-навсего бегством Мухаммеда и его единомышленников из Мекки в Медину, а чтобы объяснить, почему участники этого «бегства» называли себя «мухаджрун», объявили, что «мухаджрун» — это производное от слова «хиджра», которым было якобы прозвано упомянутое событие, будто бы положившее начало превращению арабов в мусульман. «В этой игре слов, — считает Кроне, — как раз и состояло самое раннее зерно той веры, которая впоследствии превратилась в ислам». По ее мнению, далее с новорожденным «агаризмом» произошло примерно то же, что произошло с ранним христианством, в котором нашелся апостол Павел, круто повернувший новое учение, ранее ютившееся на обочине иудаизма, к другой, намного более широкой аудитории — с известными и судьбоносными историческими последствиями. Агаритяне тоже отвернулись от евреев, и агаризм тоже переименовал себя, став исламом, только мусульмане, в отличие от христиан, принялись расширять число приверженцев ислама не словом, а мечом. Не случайно вторая часть работы Кроне и Кука так и называется: «Агаризм без иудаизма». Вот как, на взгляд авторов, происходило становление ислама. Войдя в заветную Палестину, агаритяне с удивлением обнаружили, что основную часть ее населения составляют не евреи, а христиане, и это побудило их произвести переоценку приоритетов. По утверждению упомянутого епископа Себеоса, вскоре между евреями и арабами вспыхнул первый конфликт: евреи требовали, как й положено, в мессианские времена, тотчас приступить к восстановлению Храма, арабы, вместо этого, начали строить свою «Мечеть на скале». Одновременно они, в точном соответствии с предписаниями «реальной политики», стали сближаться с более многочисленными христианами: уже в 650 году калиф Муавия молился на Голгофе, в Гефсиманском саду, у могилы Девы Марии. Впрочем, так утверждает епископ Себеос, сам христианин, но вот и в письме некого Яакова из Эдессы тоже сообщается, что «агаритяне признают Иисуса подлинным Мессией». Затем появляются данные и о сближении агаритян с палестинскими самаритянами, этими давними конкурентами иудеев в Палестине. Самаритяне, как и христиане, признавали основные принципы «Моисеевой веры», первоначально разделявшиеся также вторгшимися в страну агаритянами, и, стало быть, на этой основе можно было создать более широкий и сильный религиозно-политический союз. И вот этот-то переход от союза с евреями к союзу с христианами и самаритянами имел, по мнению Кроне, решающее значение для агаритян. Мало того, что такой союз освободил их от привязки к «Мессии из дома Давидова», т. е. к еврейскому Мессии (который в Моисеевом Пятикнижии, кстати говоря, не упоминался), — он позволил им наконец создать и собственную национальную религию. «Использовав веру Авраама для утверждения и определения себя, — пишет Кроне, — агаритяне взяли затем на вооружение христианский мессианизм, чтобы подчеркнуть, кем они не являются (евреями. — Р.Н.), и, наконец, заимствовали у самаритян доверие к одному только. Пятикнижию, чтобы выработать собственную религиозную доктрину». Соответственно была переосмыслена и роль Мухаммеда: в религиозном сознании поздних агаритян он стал превращаться из «предшественника Мессии» в последнего в «цепи пророков», начатой Моисеем, т. е. в глашатая новой религии, а затем — возможно, под влиянием все тех же самаритян, он превратился в глашатая совершенно нового Закона, уже не Моисеева, записанного в Пятикнижии, а своего собственного, записанного в Коране (сложившемся, как и Пятикнижие, много позже описанных в нем событий). Тогда-то это новое учение и получило собственное название — ислам. Кроне считает, что и тут проявилось влияние самаритян. Слово «аслама» (восхождение) существовало и в иврите, и в арамейском, и в сирийском языках, но только у самаритян оно приобрело значение «покорность Богу». Это и стало самоназванием новой религии. Так «Исход» агаритян в Палестину и столкновение арабов здесь с самаритянами, христианами и евреями привели к становлению ислама как особой новой религии, которая принялась энергично (и насильственно) привлекать все новых, и новых сторонников. Такова картина складывания раннего ислама и появления Корана, нарисованная Патришией Кроне. При всей своей впечатляющей убедительности и логичности, она тоже не стала последней в ряду гипотез, появившихся на Западе на эту тему. Исследования продолжаются, и гипотезы множатся, но теперь уже — под определенным влиянием работы Кроне. Так, в той же статье Александра Штилле, с которой мы начали наш рассказ, сообщается, как уже упоминалось вначале, о работе немецкого исследователя Люксенбурга «Сиро-арамейское прочтение Корана». Идеи этой работы напрямую примыкают к идеям Патришии Кроне. Люксенбург говорит, что многие трудности понимания Корана связаны с тем, что его рассматривают как чисто арабский текст, тогда как он возник под сильным влиянием арамейского языка, который был в те времена основным для ближневосточных евреев и христиан. Иными словами, поскольку Коран складывался в среде носителей арамейского языка, он не мог не испытать и влияния их религиозных идей в точном соответствии с тем, что утверждает Кроне. В качестве примера такого языкового влияния Люксенбург приводит известное изречение Корана о том, будто на том свете исламских самоубийц ждут девственницы, в тексте — «хур». Исламская традиция утверждает, что это слово якобы является сокращенной формой «хури», что означает «девственницы», и, соответственно, объясняет этот отрывок своим неграмотным слушателям как обещание сексуальных услад в раю, тогда как на самом деле, говорит Люксенбург, это арамейское «белый изюм», и именно так «хур» переводится в одном весьма уважаемом словаре раннего арабского языка. Теперь становится понятно, почему книга Люксенбурга так долго не могла найти издателей даже в Европе — хранители исламской, веры не любят, когда им указывают на сознательное и целенаправленное перетолкование ими священного текста или напоминают, как это сделал в своем романе Салман Рушди, о «запретных сурах». И не только не любят, но и готовы любой ценой подавить такое «кощунство». Даже великого египетского писателя Нагиба Махфуза как-то раз пырнули ножом за то, что одна из его книг кому-то показалась не совсем «правоверной». А человека рангом пониже, палестинского ученого Сулимана Башара, вообще вышвырнули из окна второго этажа — за невинное утверждение, что ислам сформировался постепенно, а не вышел сразу из уст Боговдохновенного пророка. Фанатизм ревнителей Корана сравним разве что с фанатизмом вдохновленных им террористов-самоубийц. Где уж ученым в таких условиях изучать становление ислама и Корана?! Приходится скорее удивляться тому, что хоть что-то в этом направлении все-таки делается. И совсем даже небезынтересное «что-то». Как мы и пытались показать это в нашем очерке. >Часть 3 НЕРАЗГАДАННЫЕ ЗАГАДКИ БИБЛИИ >ГЛАВА 1 ЗАГАДКИ КУМРАНА Недавно на экранах телевидения промелькнуло интервью с Изхаром Хйрщфельдом, профессором Еврейского университета в Иерусалиме. Оно было приурочено к выходу новой книги Хиршфельда, посвященной раскопкам в Кумране и т. н. свиткам Мертвого моря. Книга вышла пока только на иврите, по-английски она еще лишь рекламируется, но объявление о ее предстоящем выходе в свет уже сопровождается в каталоге издательства жирной красной звездочкой и большим восклицательным знаком — единственными на весь длинный перечень других книг по соответствующей теме. «Книга профессора И. Хиршфельда», — говорится в коротенькой аннотации, — «переворачивает все прежние представления историков о Кумране». Пытаться пересказать, не будучи специалистом, «все прежние представления историков о Кумране» было бы, по меньшей мере, самонадеянно. К счастью, это и не требуется. Чтобы понять смысл «переворота в представлениях», о котором возвещает аннотация, достаточно припомнить лишь самые основные факты. Речь идет о том самом Кумране — древнем еврейском поселении вблизи Мертвого моря на полпути между Йерихо и Эйн-Геди, — в пещерах вокруг которого в середине прошлого века были найдены знаменитые рукописи и фрагменты, написанные (частично на иврите, частично на арамейском) в период от II века до н. э. и до I века н. э. и содержащие поистине бесценный материал для понимания иудаизма того времени и зарождавшегося тогда христианства. Они-то и называются «Свитками Мертвого моря», или иногда еще — «Кумранскими рукописями». Понятно, что находка таких материалов не могла не всколыхнуть научный мир, и она его действительно всколыхнула, да так, что волны этого толчка не утихают вплоть до нынешнего дня. Книга профессора Хиршфельда — еще одно тому подтверждение. Другим подтверждением этого могут служить споры, вспыхнувшие вокруг публикации статей израильских археологов Ицхака Магена и Юваля Πелега, в которых они недавно подвели итоги своим 10-летним раскопкам в том же Кумране. Широкому читателю эти «кумранские сенсации» вряд ли известны, и поэтому представляется интересным о них рассказать. История обнаружения, собирания, публикации и анализа свитков Мертвого моря изобилует не только поразительными научными открытиями, но и живописными деталями поистине приключенческого толка. Достаточно было бы припомнить, как впервые и совершенно случайно обнаружил эти свитки арабский пастух, как бедуины продавали их историкам «по сантиметрам», как израильские специалисты через цепочку подставных лиц добывали эти библейские документы на иорданских базарах, как тайком вывозились эти драгоценные документы из Палестины, как распознавались и склеивались уцелевшие кусочки в сплошные тексты… но все это многократно описано в популярных книгах, количество которых тянет уже на приличную библиотеку. Мы же здесь хотим поговорить о другой стороне этой истории: о стороне не столько. научной и даже не столько приключенческой, сколько — скандальной. Даже дважды скандальной. Ибо мало того, что значительная часть собранных с таким трудом и важных для всего тйучного мира свитков и их разрозненных фрагментов долгие десятилетия укрывалась от глаз специалистов-историков, так еще и собранный в Кумране археологический материал до сих пор им во многом недоступен. Как это может быть? — наверняка спросите вы. Попробую объяснить. Первые свитки и фрагменты были собраны в пещерах Мертвого моря в период с 1947 по 1956 годы. Их значение было осознано сразу же после открытия, и еще в 1953 году был создан международный комитет по их изданию. Лет 10 спустя многое было издано в виде семитомной оксфордской серии «Открытия в Иудейской пустыне», но в частных руках оставалось еще несколько тысяч фрагментов, представлявших собой обрывки примерно 100 рукописей, и вот их-то публикация была вдруг по непонятным причинам приостановлена, и доступ к ним был ограничен узким кругом примерно 20 человек. Эти люди долгие годы публиковали отдельные фрагменты, зачастую даже без серьезного анализа. Все призывы прекратить эту недостойную практику и опубликовать весь материал оставались втуне, и непристойная свара ученых вокруг свитков Мертвого моря продолжалась до самого начала 1990-х годов. Затем сторонники общедоступной публикации пошли на решительный, хотя и беспрецедентный шаг. Гершель Шанкс, издатель важнейшего библеистического журнала «Biblical Archeology Review» (BAR), каким-то образом раздобыл фотографии неопубликованных фрагментов и с помощью калифорнийских профессоров Р. Айзенмана и Д. Робинсона самовольно издал их в виде двухтомника «Факсимильное издание свитков Мертвого моря». Тем самым все они стали, наконец, доступными для широкого научного изучения. Дело, однако, этим не закончилось. В свое издание Шанкс включил также некий фрагмент свитков под каталоговым номером 4QMMT, который в свое время был реконструирован профессором Еврейского университета в Иерусалиме Элищей Кимроном. Однако Кимрон не только реконструировал этот текст, но также заполнил, опираясь на свои познания, многочисленные пропуски в нем, проанализировал его и показал, что он проливает новый свет на важнейший вопрос об авторах свитков Мертвого моря и их отношении к священнослужителям тогдашнего (Второго) Иерусалимского храма. Результаты своей работы он изложил в частной, не для публикации, статье, и, когда Шанкс включил ее в свое факсимильное издание, Кимрон обратился в суд, обвинив Шанкса в незаконном использовании результатов его труда. Дело дошло до израильского Верховного суда, и в августе 2000 года этот суд признал права профессора Кимрона на реконструированный документ как на личную интеллектуальную собственность. Тем самым была поставлена последняя точка в затянувшейся научной войне. Как пишет американский ученый Поль Флешер, «война в целом была выиграна правой стороной, а последнее ее сражение было выиграно другой, но тоже правой стороной». И, тем не менее, добавим, она покрыла бесславием все воевавшие стороны. С археологическими находками дело обстояло примерно так же. В 1951 году французский Библеистический институт направил известного в ту пору ученого, доминиканского священника-археолога Ролана де Во, на раскопки в Кумран, но большинство предметов, найденных им на этих раскопках, до сих пор остаются недоступными для свободного научного анализа, их описания не опубликованы, и специалистам приходится полагаться на безапелляционные суждения самого де Во. В результате, важнейший вопрос: что представлял собой древний Кумран? — все еще не имеет однозначного решения. А между тем этот вопрос, как это сразу же стало ясным, тесно связан с вопросом о том, кто был автором Кумранских рукописей (т. е. свитков Мертвого моря), а это, в свою очередь, — с вопросом, каково место этих материалов в истории иудаизма и христианства. Такая вот получается запутанная сама на себя история. Давайте попробуем ее распутать. Начнем с конца: со значения Кумранских рукописей. Уже первые свитки, найденные в пещерах вокруг Кумрана в конце 1940 — начале 1950 годов, удивили историков своим содержанием. Кроме двух копий книги пророка Исайи и некоторых ранее неизвестных версий книги Бытия и книги Псалмов, здесь были также документы ритуального характера, впервые прочитанные группой Барроуза и позднее получившие у специалистов название «Устава Общины». Они, действительно, описывали правила поведения членов некой религиозной общины, причем во многом и принципиально отличавшейся от тогдашней еврейской общины, зато в чем-то предвосхищавшей общину и принципы раннего христианства, как они изложены в т. н. Новом Завете. Известный израильский историк профессор Сукеник первым, еще в 1953 году, высказал предположение, что кумранскую общину составляли ессеи — небольшая секта в тогдашнем иудаизме, известная по описаниям Филона Александрийского и Иосифа Флавия, а также греческого историка Плиния Старшего. Если верить Флавию, община насчитывала не более 4 тысяч человек во всем тогдашнем Израиле, была рассеяна по всей стране и отличалась резко критическим отношением к тогдашним руководителям Храма, подчеркнутым стремлением к почти монашескому аскетизму и чистоте и углубленным интересом к «тайнам Торы». Плиний, в отличие от Флавия, сообщал, что ессеи живут, в основном, на западном берегу Мертвого моря, неподалеку от Эйн-Геди. Кумран находится именно там, где указал Плиний, а рукописи, найденные вокруг него, давали основание думать, что они написаны ессеями. Именно так, опираясь на сведения Флавия и Филона, рассудил проф. Сукеник. Поэтому, двигаясь в рассуждениях еще далее вспять, разумно было предположить, что сам Кумран был тем ессейским духовным и физическим центром, о котором писал Плиний. Неудивительно, что Ролан де Во прибыл на расколки Кумрана с твердым убеждением, что призван раскопать что-то вроде монастыря ессеев. Поэтому он и свои археологические находки, сделанные там, истолковал в том же духе, выпятив те, которые соответствовали этому убеждению, и оставив в тени или вообще сочтя несущественным все остальное. Так, с легкой руки Сукеника, де Во, Игаля Ядина и других авторитетных исследователей утвердилось мнение, что Кумран — это центральное ессейское поселение в древней Палестине, и, соответственно, все Кумранские рукописи — часть библиотеки этого поселения, а так как некоторые кумранские тексты, как уже сказано, содержали подобие раннехристианских идей, то вскоре ессеи были объявлены прямыми предшественниками первых христиан. Эту мысль — в виде гипотезы — впервые высказал уже в 1955 году американский литературовед Эдмунд Вильсон в книге «Свитки Мертвого моря»; позднее она стала почти канонической, и сегодня в Британской энциклопедии можно прочесть, что ««Свитки Мертвого моря» являются частью библиотеки, принадлежавшей еврейской религиозной секте (ессеи), которая существовала в Кумране с середины II века до н. э. и вплоть до 68 г. н. э.» (т. е. до взятия Иерусалима римлянами и разрушения Второго храма). Аналогично, в каталоге выставки «Сокровища Святой земли» в американском Метрополитен-музее было сказано, что Кумран был «центром еврейской секты, где составлялись и использовались эти тексты». И если вы отправитесь сегодня в. Кумран (полчаса езды от Иерусалима), то первое, что вас встретит перед экскурсией по развалинам, — это, короткий вступительный фильм, в ходе которого артисты, наряженные древними евреями (какими их, наверно, представляет себе Голливуд), расскажут, как они пришли в Кумран «в поисках чистой и безгрешной жизни», как создали здесь секту «Яхад», как размышляли здесь «о тайнах Торы», как собственноручно писали свитки, в которых предсказывали последнюю, апокалиптическую «схватку сынов Света с сынами Тьмы», и как один из них, некий Иоанн, пошедший с ессейской проповедью к людям, был казнен царем Иродом (уж не намек ли на Иоанна Крестителя?!). А потом вас проведут по раскопкам. Вокруг низкой квадратной каменной башни (обвалилась, наверно, за века) протянутся перед вами развалины былых помещений и построек: вот акведук, приводивший воду из близлежащего вади, где по весне скатывалась в Мертвое море дождевая вода, вот широкие и глубокие цистерны для ее хранения; вот ступени, ведущие к бассейнам для ритуального очищения, вот крохотные (подсобные?) комнатки, вот огромный Обеденный зал, а вот длинное прямоугольное помещение, возле которого в землю воткнута табличка с надписью «Комната автора» — знаменитая «Комната писцов», или Скрпиториум, как назвал ее де Во, нашедший здесь обломки столов и несколько бронзовых чернильниц, окончательно убедивших его в том, что это и было место сочинения и написания «Кумранских рукописей». Посмотрев фильм и внимательно изучив все надписи на табличках, вы покинете Кумран с тем же твердым убеждением, что и де Во. И всю дорогу назад — всю пустынную, безлюдную дорогу назад — будете, наверно, — увлеченно представлять себе, как в те давние древние времена в этой далекой затерянной глуши — жила группа аскетов и подвижников, посвятивших жизнь созданию новой религии. И вам будет совершенно невдомек, что все услышанное и увиденное вами в Кумране — всего лишь ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ, одно из многочисленных толкований загадок Кумрана — то, которое принято учеными из Музея Израиля и многими другими, но отнюдь не единственное. Это будет вам невдомек по той простой причине, что в фильме и на развалинах от вас заботливо скрыли многочисленные натяжки и прямые противоречия, которыми изобилует это «каноническое» толкование и вокруг которых в кумрановедении еще и сегодня идут ожесточенные споры. Давайте же поговорим об этих спорах и о других толкованиях кумранских находок. * * *В 1997 году Эшель и Кросс нашли за стенами Кумрана остракон (глиняный черепок) с древней надписью. В этой надписи они обнаружили слово «Яхад» — то самое, которое упоминается в некоторых Кумранских рукописях как самоназвание ессейской секты. Эта находка была объявлена (сначала в статье Эшеля и Кросса, а затем в каталоге Музея Израиля в Иерусалиме) «первым доказательством прямой связи между местом и (найденными в нем) рукописями», иначе говоря — подтверждением того, что «данное место (Кумран) действительно служило общинным центром ессейской секты». Находку широко рекламировали газеты Израиля (например, «Гаарец» 18 июля и 15 августа того же года) и западных стран. Черепок, вкупе с другими экспонатами Кумрана, торжественно объехал весь мир и триумфально прибыл на Кумранскую выставку 2001 года в Чикаго. Здесь, однако, его ожидал конфуз, ибо уже за 4 года до того профессор Норман Голб, возглавлявший кафедру еврейской истории и цивилизации имени Давида Розенбергера как раз при Чикагском университете, посвятил знаменитому черепку статью, в которой убедительно показывал, что прочтение надписи на нем, предложенное доктором Эшелем и принятое Музеем Израиля, было совершенно безосновательным. Те из вас, кто знает ивритские буквы, могут сами рассмотреть указанное место в надписи (на рисунке 1 оно отмечено стрелками: справа — на черепке, слева — в транскрипции Эшеля) и убедиться, что четыре последние буквы нижней строки лишь с огромной натяжкой могут быть прочитаны как слово «Яхад». Мы совершенно случайно начали разговор о натяжках и противоречиях в «каноническом» толковании Кумрана с рассказа об остраконе Эшеля Кросса. С таким же успехом его можно было начать, скажем, с рассказа о том, что при раскопках в Кумране было найдено кладбище, на котором были захоронены более тысячи человек, — несколько многовато, не правда ли, для уединенной «монастырской» общины? Еще более странно, что добрая половина этих захоронений принадлежала женщинам, что совсем уж не вписывается в наши представления об аскетической секте, — члены которой, как утверждал Плиний, давали обет безбрачия. Зачем понадобилось целомудренным ессеям такое количество женщин? Или вот, к примеру, другая история — с тридцатью филактериями, или «тфилин», остатки которых были обнаружены (вперемешку с рукописями) в пещерах, окружающих Кумран. В этих двух кожаных коробочках, которые повязывает себе на лоб и левую руку молящийся еврей, находятся написанные на пергаменте молитвы. Любопытно, однако, что в кумранские тфилин были вложены, как оказалось, самые разные молитвы, что опять-таки странно для секты, которая свое единомыслие подчеркивает даже в самоназвании — «Яхад» (что значит «вместе», «заедино»). А чем объяснить наличие в развалинах Кумрана тысяч однотипных глиняных тарелок и кувшинов, как будто изготовленных на продажу или для использования в каком-то большом хозяйстве? Или большую, явно крепостного вида башню? Или отсутствие жилых помещений при наличии гончарных мастерских, печей для литья железа, стойл для животных и т. п.? 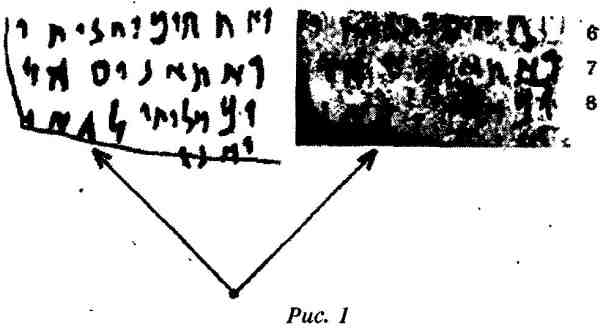
Таких примеров можно привести еще много, и для каждого из них «каноническая» версия вынуждена искать отдельное — зачастую весьма натянутое — объяснение. Женщины? Наверно, рядом с «безбрачными ессеями» в Кумране жили и «ессеи семейные». Много трупов? Возможно, сюда приходили ессеи со всех концов Палестины. Отсутствие жилых помещений? Значит, все насельники Кумрана жили в пещерах вокруг центрального помещения. А рукописи, найденные там? Вероятно, именно там они и изучали Тору. Но почему в пещерах нет никаких останков, никаких следов пребывания людей? Ну, может быть, они жили не в самих пещерах — там они только хранили рукописи и изучали Тору, — а жили, скажем, в шалашах и палатках рядом с Кумраном. А почему в тфилин вложены разные молитвы? Видимо, руководители секты разрешали всем членам общины молиться как кто привык. А зачем столько глиняной посуды? Они из нее ели. И так далее, и тому подобное. Это как раз тот метод объяснения, который по-латински называется «ад хок» (буквально: «к этому»), то есть применительно к данной конкретной потребности, каждая отдельная гипотеза — для объяснения каждой отдельной загадки, вне зависимости от целого. «Целым», которое призваны сохранить все эти частные гипотезы, является лишь один, главный принцип: Кумран — это место пребывания ессейской (протохристианской) общины, которая создала Кумранские рукописи. Этот принцип намертво связывает проблему Кумрана с проблемой свитков Мертвого моря. Между тем, свитки, подобные кумранским, а также отличные от них, но тоже содержащие древние тексты, а также просто документы той давней эпохи (письма, записки, долговые обязательства и т. п.), которых нет в Кумране, были найдены и во многих других местах вокруг Мертвого моря. Это громадное на сегодняшний день палеографическое наследие отражает духовную и бытовую действительность Иудеи на переломе тысячелетий, и представляется, что свитки Мертвого моря следует изучать именно на этом фоне, а не в шорах «протохристианского» подхода. Освобожденная при этом от проблемы свитков проблема Кумрана предстает в совершенно ином свете. Об этом первым заговорил — еще в 1984 году — упомянутый выше профессор Голб. По его меткому наблюдению, тот случайный порядок, в котором одна за другой обнаруживались Кумранские рукописи, сильно повлиял на толкование всей Кумранской проблемы, потому что в числе первых были найдены некоторые свитки «протохристианского» или, во всяком случае, ессейского содержания, и это сразу же склонило исследователей сосредоточиться на ессеях как «главных подозреваемых» в авторстве всех Кумранских рукописей вообще. Однако, по мнению Голба, знаменитые свитки Кумрана имеют не ессейское, а совсем иное происхождение, а сам Кумран никогда не был «монастырем ессеев». Статья Голба положила начало целому ряду новых гипотез, выдвинутых другими учеными для решения загадок Кумрана, и можно, не очень преувеличивая, сказать, что неканонические толкования этих загадок сегодня конкурируют с каноническими практически на равных. Займемся самим Кумраном, отдельно от пресловутых «свитков». По другому меткому замечанию, которое принадлежит археологу Дэйвиду Стаей, на взгляды многих археологов — в особенности, тех, кто. первыми начали раскопки в Кумране, — тоже повлияло некое случайное обстоятельство, а именно то, что во времена этих первых раскопок (как, впрочем, и сейчас) Кумран выглядел глухим, заброшенным уголком пустыни, далеким от всякого жилья и от всех центров цивилизации и потому мог показаться идельным местом для группы людей, которые хотели «уйти от мира» в аскезу, отшельничество и изучение Торы. Однако более поздние археологические исследования в этих местах показали, что в последние века до н. э. — те самые, которыми датируются Кумранские рукописи, — Кумран выглядел совершенно иначе. Результаты этих исследований, подытоженные в книгах Нетцера «Хасмонейские и иродианские дворцы в Йерихо», т. 1 (2001) и Бар-Натана «Хасмонейские и иродианские дворцы в Йерихо», т. 3 (2002), а также в труде Амита, Патрича и Хиршфельда «Акведуки Израиля», рисуют такую картину. Во II в. до н. э. Кумран находился на скрещении торговых и военных путей, всего в 12 километрах (3 часа неспешной ходьбы) от огромного Хасмонейского поместья в Йерихо (Иерихоне), в центре которого возвышался пышный царский дворец. Хасмонеев привели в эти места два дерева, которые приносили царской казне большую прибыль: финиковая пальма и бальзамное дерево. Они широко упоминаются в трудах многих античных авторов. Плоды первого и сок второго пользовались в те времена огромным спросом. Учитывая это, первые хасмонейские цари Шимон (143–134 гг. до н. э.) и Иоханан Гиркан (134–104 гг. до н. э.) начали прокладывать акведуки из устья вади Кельт в район Йерихо, и постепенно огромный участок ранее бесплодной земли к западу от города был превращен в сельскохозяйственные угодья. Одновременно был построен большой жилой комплекс для управляющих поместьем, а также для отдыха царской семьи. Там же были построены гончарные мастерские, о чем свидетельствуют найденные археологами остатки двух обжигательных печей. Однако в районе Йерихо не было достаточного количества дерева, да к тому, же дым печей, надо полагать, был неприятен царским ноздрям, поэтому со временем производство посуды для поместья, а также на продажу (цари, видимо, не брезговали и приторговывать) было перенесено в близлежащий Кумран — там, на побережье Мертвого моря, было много горючего битума. Правда, битум при горении образует клубы едкого дыма, но царского дворца он, конечно, не достигал. Зато здесь, вдобавок к битуму, были большие залежи отличной глины — трехтонные запасы ее археологи недавно вскрыли прямо под главной кумранской цистерной. Можно думать, что именно тогда в Кумран был проведен отдельный акведук. О том, что вода, поступавшая по нему в Кумран, предназначалась не для питья или ритуального омовения, свидетельствуют специальные стоки для грязи и прочих осадков, сделанные в устье акведука, перед самом входом в цистерну. О ремесленном назначении тогдашнего Кумрана говорят и запасы сохранившейся тем посуды — грубо сделанная и плохо обожженная, она зато была идеально приспособлена для упаковки и перевозки, а это составляет два главных требования к массовому производству. Кумран стал, по существу, составной частью йерихонского поместья Хасмонеев, и можно думать, что главную часть его населения составляли тогда рабы и наемные рабочие, ремесленники и земледельцы. Одни жили и работали здесь, другие обслуживали поместье и возвращались в Кумран только на ночлег, в шалаши и землянки. Кумран приглянулся Хасмонеям не случайно. Еще в древности, судя по всему — в VII веке до н. э., здесь высилась небольшая крепостца, защищавшая дороги, шедшие из Иерусалима на Эйн-Геди, к восточным границам Иудейского царства. Царь Иоханан Гиркан построил здесь, над Кумраном, крепость Гирканию. При его сыне, Александре Яннае (103–76 гг. до н. э.) Иудея вела непрерывные войны (большая часть которых была спровоцирована самим царем, стремившимся, в духе отца и деда, к расширению своих владений). Когда царь попытался завоевать Заиорданье, он столкнулся с сопротивлением набатейских царей Ободаса, а затем Аретаса, которые дважды нанесли ему поражения и даже вторглись в Иудею. Это вынудило царя укрепить крепости вдоль Мертвого моря, в том числе и Кумран. Позже положение стало таким критическим, что по приказу Александра Янная царский дворец в Йерихо был засыпан землей, вынутой при рытье оборонительного рва семиметровой глубины, а на вершине образовавшегося в результате искусственного холма был возведен куда более скромный «Укрепленный дворец», на самом деле, — небольшое здание для самого царя и его военоначальников. Любопытно, что по многим признакам — включая угловую квадратную башню — «похороненный» под насыпью прежний дворец Хасмонеев в Йерихо весьма напоминал тот жилой комплекс, что был раскопан в Кумране. Правда, землетрясение, случившееся в этих местах в 31 г. до н. э., сильно повредило кумранский комплекс, а так как впоследствии (уже во времена Ирода и римской оккупации Иудеи, скорее всего, — около IV в. до н. э.) он был отчасти восстановлен, археологи так до сих пор и не знают, куда отнести многие из найденных обломков. Но если основная их часть принадлежала комплексу и до землетрясения, то можно с уверенностью сказать, что он был куда ближе к богатым дворцовым постройкам, нежели к монастырю, да и само сооружение комплекса такого типа едва ли было под силу небольшой группе ессеев, к тому же принципиально отвергавшей роскошь. Видимо, надобность в Кумранской крепости отпала уже под конец правления Александра Янная, потому что уже при нем оборонительный ров в Йерихо был частично засыпан, а после его смерти на холме был построен новый т. н. «Двойной дворец». Надо думать, что угроза с юга вдоль берегов Мертвого моря уменьшилась, стратегическое значение Кумрана тоже сошло на нет и гарнизон оттуда был выведен. В крепости появились новые обитатели, которые принесли с собой новые обычаи захоронения, но характер деятельности этих людей остался прежний: сохранились большие запасы глиняной посуды тех времен, рядом с которыми были обнаружены свертки с тщательно упакованными костями животных, употреблявшихся в пищу. Можно думать, что часть этих людей обслуживала восстановленное йерихонское поместье с его новым, построенным уже при Ироде Великом роскошным дворцом, тогда как другие опять занялись гончарным ремеслом. Судя по количеству костей, постоянное население Кумрана было незначительным: Маген и Пелег считают, что их было не более 25, Хиршфельд оценивает их число в несколько десятков. Что же до назначения странных свертков с костями, то некоторые ученые объясняют его чисто местными особенностями. Люди Кумрана, — говорят они, — не могли жить в пещерах, потому что в те времена жить в пещерах около Мертвого моря было небезопасно — тут бродили гиены и леопарды. Поэтому обитатели Кумрана жили либо в самом, частично восстановленном, комплексе, либо рядом, в шалашах и хижинах; а кости съеденных животных они не выбрасывали, а паковали и уносили куда-то в другое место именно потому, что боялись привлечь этими костями опасных хишников к своим жилищам. Невольно возникает вопрос: если люди не жили в пещерах (и уж подавно не изучали там Тору), то как попали туда пресловутые «свитки»? Некоторые сторонники канонической теории высказывают предположение, что пещеры служили своего рода «книгохранилищами библиотеки кумранских ессеев», но, не говоря уже о странности и крайнем неудобстве такого способа хранения свитков, которые нужны для изучения чуть ли не каждый день, позволительно задать более общий вопрос: а могла ли вообще существовать община «удалившихся от мира» ессеев в таком шумном, грязном, задымленном ремесленном ночлежном поселке, как тогдашний Кумран? Разумеется, не исключено, что какую-то часть обитателей Кумрана составляли отдельные ессеи, но если общее число тамошних жителей никогда не превышало нескольких десятков и большая часть из них была занята гончарным ремеслом, и трудом в йерихонском поместье, то могли ли оставшиеся создать такую огромную библиотеку? А. если нет, то как все-таки эти свитки могли попасть в кумранские пещеры и каково их происхождение? Прежде, чем отвечать на этот «главный» вопрос, закончим разговор о Кумране. Он был снова разрушен в ходе «Первого восстания», т. е. знаменитой Иудейской войны, когда римляне захватили Иерусалим и разрушили Второй Храм. Многие жители бежали тогда из столицы Иудеи, и кое-кто из них пытался найти убежище в Кумране. Преследовавшие их римляне захватили и разрушили поселок. Еще позже, во время т. н. «Второго восстания» (или «восстания Бар-Кохбы»), Кумран нанадолго был превращен повстанцами в укрепленный пункт — и опять разрушен римлянами. После этого он окончательно пришел в запустение — вместе со всей остальной Иудеей. За время своего многовекового существования он пережил ряд трансформаций был крепостью, потом был заброшен, потом снова превратился в крепость, потом стал ремесленным поселком, снова укрепленным пунктом и, наконец, окончательно опустел. Чем же все-таки он был в хасмонейские и иродианские времена, к которым относятся найденные в пещерах вокруг него свитки? Мы уже знаем канонический ответ: ессейским монастырем или, по меньшей мере, центром крупной ессейской общины. Мы уже знаем также, с какими противоречиями сталкивается этот ответ. А что говорят археологи-«еретики»? «Зачинатель ереси», упомянутый выше Норман Голб, с самого начала утверждал, что люди, населявшие Кумран, никогда не принадлежали к секте ессеев или какой-либо другой радикальной еврейской секте (надо заметить, что представление, будто в те времена в иудаизме существовали только три течения: саддукеи, фарисеи и ессеи, — весьма поверхностно; были еще зелоты, терапевты, банаи и некоторые другие). Сам Голб считал, что Кумран всегда был чисто военной крепостью, но, как мы видели, это предположение не согласуется со всей совокупностью новейших археологических данных. Эти данные заставляют, скорее, видеть в Кумране второго-первого веков до н. э. скромное поселение ремесленников и сезонных сельскохозяйственных рабочих. Но с этим не согласуется близкая к дворцовой изощренная сложность кумранского жилого комплекса. В самое последнее время эту путаницу еще более усложнили сенсационные данные раскопок Ицхака Магена и Юваля Пелега, которые в течение 10 лет вели исследования в Кумране. Эти археологи обнаружили в развалинах Кумрана такие дорогие предметы, как драгоценные украшения, остатки явно импортных — дорогих по тем временам — стеклянных сосудов, каменные флаконы для изысканной косметики, пышно украшенные гребни, иными словами — предметы, которым явно не место ни в ессейском монастыре, ни в поселке ремесленников и сезонных рабочих. На этом основании Изхар Хиршфельд выдвинул гипотезу о том, что Кумран был имением богатого еврейского землевладельца, возможно — какого-нибудь вельможи при дворе Хасмонеев. (Эта гипотеза перекликается с давним предположением Донкильса, который считал Кумран загородной виллой иерусалимского богача.) Понятно, что все эти гипотезы исключают ессейскую природу Кумрана, и неудивительно, что сторонники канонической версии встретили их в штыки. Так, американский пастор Рэндалл Прайс из университета в штате Нью-Мексико немедленно предпринял поездку в Кумран, провел там молниеносные, продолжавшиеся всего пять недель раскопки и объявил, что нашел очередное «несомненное доказательство» ессейского характера поселения — кости животных, уложенные таким специальным манером, который может объясняться только правилами какого-то особого религиозного ритуала. Судя по этой поистине отчаянной попытке спасти прежние представления, новые археологические данные уже всерьез угрожают самим основам канонической «кумрано-ессейской» теории. И действительно, недавняя международная конференция археологов, прошедшая в 2002 году в Броуновском университете (США), констатировала, что новые гипотезы практически вытесняют — если еще не вытеснили совсем — прежние представления науки о Кумране. Но если Кумран не был поселением или монастырем ессеев, это возвращает нас к поставленному ранее вопросу: каково же происхождение Кумранских свитков? Какие предположения на сей счет выдвигают противники «кумрано-ессейской» теории? Попробуем рассказать и об этом. * * *Из семи свитков Мертвого моря, первыми попавших в руки исследователей, три представляли собой варианты библейских книг (Исайи и Бытия), а четыре резко выделялись на их фоне своим особым характером. Один из них, «Устав общины» («Серех а-Яхад»), резко противопоставлял членов некой религиозной общины всему остальному человечеству: по изначальному установлению божьему люди делятся на «сынов света» и «сынов тьмы», и в конце времен Господь дарует первым полную победу Над вторыми; пока же члены общины «сынов света» должны подчиняться строгим правилам общежития и следовать возвышенным этическим нормам (которые перечислялись в заключительной части свитка). «Свиток гимнов», содержавший около 35 псалмов, пронизывала мысль об изначальной греховности человека и предопределенности не только его судьбы, но даже его мыслей. Лишь ибранники (слова «Израиль» в тексте нет) удостоены постижения этой великой мудрости Господнего замысла, и лишь у них есть надежда на спасение; собственно, вступление в общину и есть первый шаг к такому спасению и посмертному воскресению. Свиток с текстом, посвященным «Войне сынов света с сынами тьмы», подробно описывал грядущую в конце времен «последнюю» войну, в ходе которой будут уничтожены все враги сынов света — сначала потомки Сима, потом Хама и наконец Яфета. А в свитке, содержавшем комментарий на библейскую книгу пророка Авваккука, провозглашалось, что Господь дал откровение некому «Учителю праведности», и откровение это состоит в том, что конец времен приближается. Имя «Учителя праведности» снова появлялось в другом, приобретенном позднее свитке — т. н. «Дамасском документе», где более подробно излагалась история секты. Согласно документу, она возникла в Иерусалиме через 390 лет после разрушения Первого храма (т. е. в начале II в. до н. э.), незадолго до появления Учителя праведности, он же «единственный учитель» или «учитель единого», или, в некоторых прочтениях, просто «учитель общины», который объединил всех своих последователей в т. н. «Новый Завет». Ему противостоял некий «Проповедник лжи», под влиянием которого Израиль отступил от «Нового Завета» и власть в Храме (уже Втором) узурпировали «неправедные». (Этот эпизод отражает определенную реальность: именно во II в. до н. э. Ионатан Хасмоней, брат Иуды Маккавея, стал первосвященником, узурпировав эту власть у потомков Цадока — первосвященника времен Давида и Соломона; эту власть Хасмонеи удерживали потом около 150 лет подряд.) Поэтому члены секты под руководством «законодателя, излагающего Тору», бежали в «Дамаск» (одни исследователи считают это названием реального Дамаска, куда могли бежать противники Александра Янная, когда он захватил престол Иудеи; другие видят в этом названии метафору пустыни). Там они будут находиться до второго появления Учителя праведности, которое произойдет «в конце дней». Легко понять возбуждение ученых, которым попали в руки эти свитки. Хотя налицо было определенное сходство изложенных в них религиозных идей с идеями гностиков и зороастрийцев (последователей иранского пророка VI в. до н. э. Заратустры), еще большим было их совпадение с этическими и мистическими элементами новозаветного раннего христианства, вплоть до фигуры «Учителя праведности», его вторичного появления в конце времен и спасения тех, кто следует его учению. Вскоре существование неизвестной секты, создавшей эти свитки, было объявлено доказательством исторической реальности Христа и его первых последователей, а когда профессор Элиезер Сукеник выдвинул предположение, что эти свитки созданы ессеями, и де Во, на основании своих раскопок, назвал Кумран местом их создания и центром ессейской общины, представление о том, что ессеи были прямыми предшественниками ранних христиан, а Кумран — важнейшим очагом этого протохристианства, утвердилось окончательно. «Кумрано-ессейская теория» безраздельно господствовала в науке в течение почти 30 лет. Но тем временем обнаруживались и изучались все новые и новые свитки и их фрагменты, и постепенно стало ясно, что материалы «ессейского» происхождения составляют лишь небольшую их часть. Значительная доля собранного исследователями «кумранского архива» представляла собой не столько произведения ессейского характера, сколько документы библейского толка — копии библейских книг (несколько отличные от канонических) или их переводы на арамейский и даже греческий языки, а такжечапокрифы (т. е. книги, не вошедшие в библейский канон) и псевдоэпиграфы (книги, авторство которых приписывается тем или иным упоминаемым в Библии лицам — например, «Завещание Нафтали» или «Речения Моисея» и т. п.). Общая картина стала исподволь меняться — совокупность кумранских рукописей все больше выглядела как «библейская библиотека» самого широкого профиля с изрядным вкраплением «ессейских» материалов, но никак не как чисто «ессейские» творения. В целом, эта библиотека проливала новый свет на историю иудаизма — стало очевидно, какое большое, пестрое и противоречивое множество библейских прочтений, трактовок и версий существовало в тогдашней еврейской среде, какие разноречивые идеи, концепции, мысли сталкивались в еврейском коллективном уме, какие основные течения «вываривались» в этом бурлящем духовном котле. Первым, кто высказал сомнения в чисто ессейском характере Кумранских рукописей, был уже неоднократно упоминавшийся Норман Голб. Исходя из определенных палеоэпиграфических соображений, он заявил, что в написании свитков, найденных в пещерах вокруг Кумрана, участвовало не менее 150-ти писцов — число, намного превышающее все, что могло существовать в рамках кумранской общины. Надо сказать, что вопрос о «писцах Кумрана» тоже оказался довольно запутанным и противоречивым. Представление о том, что найденные в пещерах свитки писались в Кумране, возникло после того, как де Во и сопровождавший его Хардинг нашли в одном из раскопанных ими помещений Кумрана вделанный в пол глиняный кувшин, похожий на те, в котором в пещерах хранились рукописи, а в другом помещении — обломки деревянных столов и целых пять чернильниц. Все это и было объявлено ими доказательством того, что свитки Мертвого моря писались в этом втором помещении (которое с легкой руки первоисследователей получило название «комнаты писцов» или «скрипториума»), а затем помещались в глиняные кувшины и относились в пещеры для хранения. Поскольку пол в помещении с кувшином датировался первым веком нашей эры, т. е. временем, близким к временам т. е. Иудейской войны, или «Первого Восстания», то и рукописи были первоначально датированы, первым веком н. э. Дополнительным подтверждением этой датировки были найденные де Во и Хардингом в том же помещении старинные монеты. Однако последующие раскопки — как в самом Кумране, так и в соседних местах, в частности — в Йерихо, поставили под сомнение все эти выводы де Во. Пресловутый пол в первом помещении оказался настланным на более древний, засыпанный в конце I в. до н. э. и затем расчищенный. Найденный там кувшин оказался относящимся к этим более древним временам, поскольку совершенно аналогичный кувшин, твердо датируемый концом I в. до н. э., был найден Рахелью Бар-Натан в развалинах Йерихо. Другие кувшины, найденные де Во, хотя и относятся к I в. н. э., но, по признанию самого де Во, не предназначались специально для хранения свитков и потому не могут свидетельствовать, что свитки писались именно в I в. н. э., а не раньше. Из пресловутых пяти чернильниц (именно это необычное количество чернильниц в одном месте когда-то и заставило де Во заговорить о специальной «комнате писцов» в Кумране), три. оказались, как выявил более поздний анализ, принадлежащими к III в. н. э., то есть ко временам, когда никакая кумранская община, даже если она когда-то была, теперь наверняка уже не существовала. И, наоборот, монеты, найденные де Во и Хардингом, оказались более древними, относящимися не к I в. н. э., а к I в. до н. э. На то же более раннее время указывают данные палеографического анализа кумранских рукописей (например, Ада Вардени доказала, что в кумранских текстах нет того способа написания букв — специфического полукурсива, — который был характерен для I в. н. э.), а также радиоуглеродного метода их датировки. Любопытно, что хотя все эти факты стали со временем известны де Во, он ни разу не упомянул их в своих выступлениях и статьях последующих лет. Данные его собственных раскопок, как мы уже говорили, до сих пор не опубликованы до конца, и трудно понять, почему он так упорно датировал все свои находки именно I в. до н. э., несмотря на все противоречия этой датировки с новейшими данными. Возможно, то была ошибка, возможно, какую-то роль сыграл тот факт, что I в. н. э. очень хорошо знаком историкам — это век, подробно описанный Исофом Флавием и другими тогдашними авторами, тогда как I–II в. до н. э. — это «темные века» иудейской истории. Но не исключено также, что датировка Кумранских рукописей I в. н. э. была продиктована подсознательным стремлением доказать историчность Иисуса Христа: уж очень хорошо ложился «Учитель праведности» на его образ. Как бы то ни было, Грег Дудна, который суммировал все эти споры в своей обзорной статье «Передатировка кумранских свитков» (2004), в конце статьи заключает, что все имеющиеся сегодня данные приводят к решительному выводу: кумранские свитки были написаны не позднее конца I в. н. э., т. е. почти за столетие до Иудейской войны. Несколько более точную дату предлагает Майкл Вайз, проделавший специальный анализ скрытых намеков в тексте этих свитков. В результате своего анализа Вайз обнаружил, что 6 таких намеков относятся к людям и событиям, существовавшим или имевшим место во II в. до н. э., 26 — к людям и событиям I в. до н. э., и нет ни одного, который относился бы ко времени позднее 37 года до н. э. На этом основании Вайз заключает, что «почти 90 % всех «ессейских» рукописей Кумрана были написаны (или переписаны) в I в. до н. э., причем 52 % из них — в десятилетие между 45-м и 35-м годами до н. э». Потом это занятие буквально обрывается. Несомненно, тут таится какая-то загадка, требующая разрешения. Одно из возможных решений этой загадки предложил Стивен Пфанн, один из главных дешифровщиков кумранских свитков. Он выдвинул предположение, что ессеи жили в Кумране (и, по его мнению, писали там свои рукописи) лишь до землетрясения и пожара 31 года до н. э. Потом они перешли в Иерусалим по приглашению царя Ирода и, возможно, снова вернулись в Курман с началом Иудейской войны. В промежутке же, соглашается Пфанн, там могли временно жить ремесленники и сезонные рабочие, а, может, даже и вельможи. Этим, по Пфанну, объясняется противоречивость кумранских археологических данных. Пфанн, как видно из его гипотезы, упорно хочет сохранить авторство кумранских рукописей за ессеями. Но Дудна в своем обзоре приходит к несколько иным выводам. «Не вступая в противоречие со всеми имеющимися сегодня данными, — пишет он, — можно думать, что главная или, во всяком случае, значительная часть этих текстов была импортирована в Кумран, то есть доставлена извне, тогда как некоторые, действительно, могли быть составлены на месте… Что касается их обнаружения в пещерах, то тут могут быть три объяснения. То могло быть постоянное хранилище, вроде т. н. «генизы», откуда свитки и не планировалось изымать, — они просто складывались там, потому что это были священные тексты, которые у евреев, даже устарев или придя в негодность, не уничтожаются, а хранятся в особом помещении. Либо же это было своего рода действующее книгохранилище, которым пользовались до тех пор, пока война или другое бедствие не нарушили прежний порядок жизни и заставили его забросить. Либо же, наконец, свитки могли спрятать там во время той же войны, а спрятавшие их люди уже не смогли за ними вернуться, потому что были убиты или депортированы. А, возможно, что каждое из этих объяснений приложимо к различным пещерам». И далее Дудна, подобно Вайзу, указывает на еще одну загадку Кумрана: «Любопытная деталь, — говорит он, — состоит-в том, что в одних пещерах, более далеких от самого Кумрана, свитки были найдены в кувшинах, а в других, более близких — разбросанными как бы наспех. Но при этом во всех пещерах были свитки самого разного рода и разных дат. Как это истолковать? Не знаю и не думаю, что кто-либо из кумрановедов может предложить ответ». Мысль о том, что большинство свитков было доставлено в Кумран извне, для сохранения во время опасности, приобретает в последние годы все больше сторонников. А поскольку в этом случае авторами свитков не обязательно должны были быть ессеи Кумрана, то такое авторство приписывается самым разных группам, существовавшим в тогдашней Иудее, — ведь принести свитки в Кумран могли откуда угодно. Так, Баумгартен и Шиффман предложили гипотезу, согласно которой основная часть т. н. кумранских свитков была, в действительности, написана не ессеями, а саддукеями (влиятельной при Хасмонеях религиозной группой, тесно связанной со жречеством Иерусалимского храма и крупными землевладельцами) или группой «радикальных цадокитов», идейно родственной этому течению тогдашнего иудаизма. В пользу этой гипотезы говорит, во-первых, само название «саддукеи» (современная наука возводит его к первосвященнику Цадоку, к которому возводит себя и секта из «Дамасского документа»), а, во-вторых, содержащееся в свитках (и характерное как раз для саддукеев) ригористическое требование исполнения всех мельчайших предписаний религиозного закона. Однако социальное положение саддукеев во времена Второго. Храма, отрицание ими воскресения из мертвых и ряд других важных деталей саддукейской доктрины явно не совпадают с перечисленными выше религиозными идеями собственно ессейских документов Кумрана, и потому гипотеза Баумгартена-Шиффмана представляется кумрановедам не очень убедительной. Самое радикальное объяснение загадки кумранских свитков предложил все тот же Норман Голб. Это объяснение постепенно приобретает все больше сторонников. Сегодня в его пользу высказываются многие авторитетные археологи и историки, занимающиеся Кумраном, в том числе упоминавшиеся нами Изхар Хиршфельд и Ицхак Маген. По Голбу, свитки Мертвого моря вообще не имеют отношения к Кумрану, независимо от того, существовала там какая-то сектантская (ессейская?) община или нет. Широкий спектр этих документов, отражающих самые разные течения и подходы в тогдашнем иудаизме, может быть объяснен, — утверждает Голб, — только предположением, что все они первоначально принадлежали либо Храмовой библиотеке, либо, еще скорее, самым разным группам и отдельным людям. В таком случае, они могли оказаться в пещерах по самой простой причине: владельцы спрятали их там, когда бежали из Иерусалима от римлян, в конце «Первого восстания». Эту же мысль повторяет Ицхак Маген: «Они (свитки) могли быть принесены сюда кем угодно, включая беженцев, спасавшихся от римлян. Некоторые из них уносили с собой драгоценные свитки, но позже, перейдя Иудейские холмы и оказавшись перед необходимостью пробираться по берегу моря, не захотели нести их с собой и решили спрятать. Таким образом, это не сектантские писания, ессейские, саддукейские или храмовые, это — литература иудаизма в целом, литература иудаизма времен Второго Храма. Она принадлежит всему еврейскому народу». Развивая эту «гипотезу бегства», Норман Голб недавно опубликовал статью «Маленькие тексты, большие вопросы» (2002), в которой предложил детальную возможную картину такого бегства, довольно убедительно обосновывающую его рассуждения о происхождении кумранских свитков. В книге Иосифа Флавия, — напоминает Голб в своей статье, — говорится, что евреи, бежавшие из захваченного римлянами в 70-м году н. э. Иерусалима, направлялись по двум основным путям — на юг и на восток. Голб считает, что целью первого потока, который шел через Бейтлехем (Вифлеем), Иродион и вади Эйн-Геди, была Масада, тогда как второй поток беженцев, шедший на восток, двигался в сторону другой горной крепости — Макерус, на восточном берегу Мертвого моря, в Транс-Иордании, построенной во времена наибольшего распространения Хасмонейского царства. Этот поток мог разветвиться — одни люди обогнули Мертвое море по суще, с севера, тогда как другие перешли его вброд или вплавь в ближайшем удобном месте. На карте, которую Голб прилагает к своей статье, этим «ближайшим удобным местом» (после Йерихо) оказывается именно Кумран. И потому именно здесь, готовясь продолжить путь по воде, беглецы расставались с драгоценной ношей, захваченной из Иерусалима, — каждый со своими свитками, которые он не хотел оставить на осквернение римлянам. Отсюда и такое необычное скопление этих свитков в Кумранских пещерах. Некоторая часть беглецов продолжила свой путь к Макерусу, другие остались в Кумране. Эти последние вскоре погибли от рук римлян, пришедших по их следам и разрушивших кумранскую крепость. В свое время погибли и те, кто надеялся укрыться в Макерусе, как впоследствии погибли и защитники Масады. А свитки — что ж, свитки остались. Вот они, вы можете увидеть их в Храме Книги при иерусалимском Музее Израиля. Будете смотреть — вспомните тех, кто шел в толпе людей по темным гористым тропам, пробираясь к Мертвому морю, то и дело оглядываясь на пылающий Иерусалим и сжимая под рубахой спасенные от огня и позора будущие кумранские свитки. Впрочем, если предпочитаете — представьте себе склонившихся над рукописями неведомых писцов-ессеев. Ученые ведь все еще спорят. >ГЛАВА 2 БИБЛЕЙСКИЕ КОДЫ >1. ЗАГАДКА В последнее время возникло и распространилось массовое, почти повальное увлечение так называемыми «библейскими кодами» или «кодами Торы» (Торой в еврейской традиции называют первые пять книг Библии, и именно в этих пяти книгах обычно находят упомянутые «коды»). Строго говоря, это не совсем уж новое увлечение — отдельные энтузиасты давно занимались поиском таких кодов, но широкая публика заинтересовалась ими сравнительно недавно, когда стали распространяться слухи о работах двух израильских ученых, Рипса и Вицтума, будто бы математически доказавших, что, в тексте Торы скрыт некий второй, зашифрованный специальным кодом текст, относящийся к событиям и людям более позднего времени. Несколько позже, в 1997 году, появилась книга американского журналиста Майкла Дроснина «Коды Торы», которая еще больше разожгла этот интерес сенсационным сообщением о том, что автор еще в 1995 году обнаружил зашифрованное в Торе предсказание об убийстве израильского премьера Рабина (которое безуспешно пытался предотвратить), а также многие другие предсказания и пророчества, касающиеся нашего недавнего прошлого и недалекого будущего. Книга Дроснина и другие, ей подобные, последовавшие за ней, породили многочисленные слухи и толки о «загадочных библейских кодах», но во всех этих разговорах по-прежнему остается, к сожалению, куда больше приблизительности и сенсационности, нежели точного знания, и поэтому стоит рассказать об этих пресловутых кодах точней и подробней. Прежде всего, о чем вообще речь, что это такое — библейский код или код Торы? Начнем с простого примера. Откроем Тору на самой первой странице (это книга «Берешит», по-русски «Бытие») и отыщем первую в тексте букву «тав» (здесь и дальше нам придется говорить о еврейских буквах, которыми написана Тора, и, соответственно, о еврейских словах, составляющих содержащиеся в ней «коды»). Отсчитаем от нее еще 49 букв, и 50-й окажется «вав». Повторим это действие еще два раза: следующая 50-я буква (после 49 пропусков) будет «рэйш», а последняя 50-я (опять после 49 пропусков) — «хэй». Результатом такого «чтения с равными пропусками» будет цепочка букв: «тав-вав-рэйш-хэй» (см. рис. 1). В еврейском прочтении она складывается в слово «т-о-р-а». Это выглядит поразительным: ведь в тексте самой Торы слова «тора» нет, а в результате «чтения с пропусками» оно появилось — в виде такой вот цепочки равноотстоящих букв. 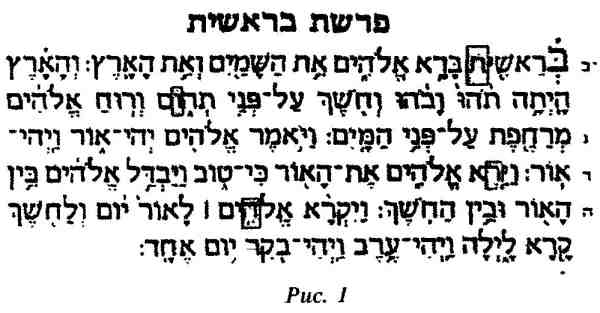
С помощью чтения с равными пропусками (той или иной величины) можно найти в тексте Торы превеликое множество других таких же «скрытых», как бы зашифрованных в ней буквенных цепочек, которые складываются в осмысленные слова. Не будем пока задаваться вопросом, кто мог их туда встроить, кто этот искусный шифровальщик, который спрятал внутри видимого текста второй, невидимый. Для начала продолжим наше знакомство с этим удивительным новым миром слов, открывающихся в Торе при чтении с равными пропусками. Это и есть мир «библейских кодов», ибо словом «код» в данном случае как раз и называется каждая такая цепочка-слово, обнаруженная в тексте Торы при чтении с равными буквенными пропусками. Мир кодов Торы поистине неисчерпаем в своем разнообразии. Вот еще один пример. Если открыть вторую книгу Торы «Шмот», или «Исход», найти первую в ее тексте букву «тав» и снова повторить процесс чтения с пропуском 49 букв три раза, мы опять получим буквенную цепочку «т-о-р-а». В третьей книге Торы это слово таким способом найти не удастся, зато в четвертой оно обнаружится снова — но при условии, что мы начнем с последней в тексте буквы «тав» и будем собирать буквенную цепочку с помощью пропуска 49 букв, идя в обратном порядке. (Такое чтение в обратном порядке называют чтением с отрицательным интервалом.) Но это не все. В последней книге Торы «Дварим» («Второзаконие») такая же цепочка «т-о-р-а» (с отрицательным интервалом) может быть обнаружена тоже, но при чтении с интервалом уже не (-49), а (-48). Какая-то загадочная и почти идеальная симметрия. Остановимся на минуту. Если вдуматься, все это не очень понятно. Каким образом слово «тора», которого нет в Торе, вдруг оказалось написанным прямо в ее тексте, буква под буквой? Казалось бы, если оно зашифровано в Торе в виде цепочки букв с равными пропусками между ними, то и должно выглядеть как цепочка с пропусками, не так ли? Это, несомненно, так, но при составлении данного рисунка был использован особый прием, которым очень часто пользуются и при изображении других подобных цепочек. Прием этот следующий. Вообразим себе, что весь текст Торы записан в виде единой гигантской строки — этакой «буквенной нити» длиной в 304 805 букв (это как раз число букв во всей Торе). Будем теперь мысленно наматывать эту буквенную нить на некий воображаемый цилиндр, как в действительности наматывают на барабан свиток самой Торы. При этом цилиндр возьмем такой, чтобы один оборот нити составлял ровно 50 букв. Если мы закрепим начало нити в первой букве «тав», то после первого оборота точно под ней окажется 50-я от нее буква, а это, как мы уже знаем, будет буква «вав». После второго оборота под ними окажется «рэйш» (ведь он является 50-м после «вава»), а после третьего — «хэй» (50-я после «рэйш»). Таким образом, цепочка «тав-вав-рэйш-хэй» («т-о-р-а»), в которой собраны те буквы нити, что разделены пропуском 49, превратится в буквенный столбик. Понятно, что обратная цепочка превратится при таком наматывании в столбик, идущий не сверху вниз, а, наоборот, снизу вверх. Эти удивительные цепочки бусинок-букв, нанизанных с равными интервалами друг от друга и образующих слово «т-о-р-а», впервые обнаружил чешский раввин XX века Михаэль Вейсмандель (умер в 1949-м). Но и он не был первооткрывателем библейских кодов. Из старых книг известно, что уже рабейну Бехайе, еврейский мудрец, живший в XIII веке, долго искал в Торе — и нашел! — цепочку букв «бейт-хэй-рэйш-далет», образующих важнейшее в еврейском летосчислении слово (аббревиатуру) «бахарад»{2} (с 42-буквенным пропуском между буквами). Интересовался буквенными цепочками в Торе и другой знаменитый еврейский мудрец — Виленский Гаон рав Элиягу Залман (1720–1797). Он нашел цепочку не менее замечательную, чем та, что открылась раву Вейманделю: Если открыть книгу «Шмот» (где речь идет главным образом о нашем великом учителе Моше, или Моисее), найти там главу 11-ю, стих 9-й, отыскать первую букву «мэм» и начать собирать цепочку, пропуская все те же 49 букв, то последней (через четыре таких пропуска) окажется буква «хэй» в главе 12-й стих 13-й, а пять найденных таким образом букв сложатся в цепочку «м-и-ш-н-э». Вернувшись немного назад, к главе 12-й, стиху 11-му, найдя там второй «тав» и три раза повторив процесс чтения с пропуском 49, мы получим четыре другие буквы, складывающиеся в цепочку «т-о-р-а», а, взяв оба слова вместе, увидим цепочку «м-и-ш-н-э т-о-р-а», а это есть ни что иное, как название главного труда другого знаменитого Моше — рава Моше бен Маймона, или Рамбама (о нем говорили, что «от первого Моше до второго Моше не было мудреца, равного Моше»){3}. В наше время у этих первых исследователей библейских кодов появились продолжатели, в основном из числа верующих ученых. Следуя традиции, они тоже ищут в тексте Торы зашифрованные с помощью равных пропусков цепочки букв, складывающиеся в какие-то важные для еврейской веры или истории слова. Вот два примера таких цепочек, найденных энтузиастами поиска библейских кодов, израильскими математиками, профессорами Майкельсоном и Рипсом. (Они найдены с помощью компьютера, поэтому воспроизвести здесь процесс этого поиска нам не удастся.) Первая из этих цепочек: «алеф-хэй-рэйш-нун» («A-h<a>-p-<o>-н») обнаружена в тексте книги «Ваикра» («Левит»), где речь идет в основном о правилах богослужения и много раз упоминается имя первосвященника Аарона, брата Моше. То была даже не одна, а целых 25 одинаковых по буквам цепочек, хотя и с разными интервалами каждая. Иначе говоря, в тексте, посвященном Аарону, было обнаружено 25 «скрытых» имен того же Аарона, зашифрованных в виде цепочек «алеф-хэй-рэйш-нуи» с равным (но каждый раз иным) пропуском между всеми четырьмя буквами. Другие 25 цепочек Рипс и Майкельсон нашли в тексте книги «Берешит», в главах 2-й и 3-й, посвященных, в частности, описанию Райского сада. В этом описании сказано: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Но названы в тексте, однако, лишь два — дерево жизни и дерево познания добра и зла; все остальные почему-то остались безымянными. Рипс и Майкельсон предположили, что названия остальных деревьев «скрыты» в том же участке текста в зашифрованном виде, т. е. в виде цепочек равноотстоящих букв. Выписав 25 названий (трех- и четырехбуквенных) из книги «Фауна и флора Торы», вышедшей из-под пера крупнейшего израильского специалиста по растительности библейской Палестины, профессора Йегуды Феликса, оба математика с помощью компьютера произвели в упомянутом участке текста поиск буквенных цепочек, складывающихся в эти названия, и нашли все 25. Два последних примера позволяют заметить одну любопытную особенность: буквенные цепочки, образующие слова, связанные общим смыслом или общим содержанием, обнаруживаются поблизости друг от друга. Все скрытые имена Аарона были найдены в тексте, относящемся к Аарону, и названия 25 деревьев из книги о флоре Торы были найдены в том небольшом участке Торы, где речь идет о деревьях райского сада. (Кстати, оба слова — «мишнэ» и «тора», — образующие название книги Рамбама, тоже были найдены рядом друг с другом и с акронимом «Рамбам».) Такая близость связанных слов свойственна, вообще говоря, только осмысленному тексту. Например, в каком-нибудь рассказе о катастрофе мы могли бы ожидать близости таких слов, как «нацисты», «евреи», «уничтожение» и т. п. Возникает мысль: может быть, и зашифрованные в Торе (в виде буквенных цепочек) слова, связанные общим смыслом, потому обнаруживаются по соседству, что тоже принадлежат какому-то осмысленному тексту — только тексту скрытому, зашифрованному с помощью библейского кода? Сначала эта догадка была подтверждена чисто качественно. Одно такое подтверждение показано на рис. 2. Здесь изображен буквенный столбик, образующий слово «а-ха-нука»{4}. Этот столбик образовался из линейной цепочки букв «h <а>-.х-<а>-н-у-к-h<а>» («хэй-хет-нун-вав-каф-хэй»), разделенных неким интервалом из «икс» пропущенных букв, после ее «намотки» на воображаемый цилиндр, длина окружности которого равна «икс», — потому-то эти буквы и оказались точно друг под другом. Неподалеку от нее мы видим другую цепочку букв, образующую слово «х-а-ш-м-о-н-а-й», явно связанное по смыслу с «ханукой»{5}. 
Иными словами, и здесь связанные по смыслу слова оказались по соседству. Другой пример того же рода нашел израильский физик Вицтум. Он отыскал в тексте книги «Берешит» цепочку букв, разделенных равными пропусками и образующих слово «бэАушвиц» («в Освенциме»). Поскольку таких цепочек (с разными интервалами в каждой) в тексте оказалось много, была выбрана та, в которой интервал (т. е. число пропускаемых при чтении букв) было минимальным. Затем в компьютер была введена программа поиска цепочек равноотстоящих букв (уже не обязательно с минимальными пропусками), образующих названия тех небольших нацистских лагерей-сателлитов, которые находились поблизости от Освенцима и административно подчинялись ему (список этих названий был взят из статьи специалиста по данному вопросу, д-ра Краковского из Мемориального института «Яд ва-Шем»). Оказалось, что все указанные цепочки действительно существуют, причем находятся (если произвести «намотку текста на барабан») на том же небольшом участке текста, где находится и столбик «бэАушвиц». Однако самое впечатляющее доказательство существования в Торе скрытых кодов и близости друг к другу тех из них, которые близки также и по смыслу, нашли Рипс и Вицтум в своей совместной работе, которая была опубликована в 1994 году в журнале «Статистические науки». В самых общих чертах эта работа выглядела следующим образом. Авторы выбрали из «Энциклопедии великих людей Израиля» достаточно короткие (5–8 букв) имена или наименования (т. е. сокращенные прозвища, вроде Рамбам, Нахманид, Радак и т. п.) нескольких десятков раввинов IX–XVIII веков, а также даты их рождения или смерти. Последние были превращены в слова (с помощью приемов т. н. гематрии, которая обозначает каждое число определенным сочетанием ивритских букв (таких слов получалось по несколько, поскольку любую дату можно записать в нескольких формах, вроде «шени бэ-нисан», «шени шель нисан» и т. д.), а затем из этих имен и дат были составлены словесные пары типа: «имя раввина А — дата раввина А», «имя раввина В — дата раввина В» — и так далее. Поскольку имен и дат (в словесном написании) у каждого раввина имелось несколько, брались все их возможные сочетания, и в результате число пар получилось намного больше, чем число самих раввинов, — порядка нескольких сот. После этого компьютеру было задано найти в тексте книги «Берешит» цепочки букв с равными (и минимальными!) пропусками, образующие слова каждой пары, и — по особой формуле, разработанной Рипсом, — определить «расстояние» между ними. Результат оказался поистине впечатляющим: мало того, что были обнаружены цепочки почти для половины заданных слов, но во многих парах расстояния между составляющими их словами (т. е. именами и датами для одного и того же раввина) оказались весьма близкими. Но этот результат был еще чисто качественным. Чтобы получить математически строгое доказательство своей исходной гипотезы (о существовании в тексте Торы второго, скрытого, но тоже осмысленного текста), авторы усложнили эксперимент. В дополнение к набору «правильных» словесных пар («А — А», «В — В» и т. п.) они создали путем перемешивания всех дат и имен еще 999 999 наборов «неправильных» пар (типа «А — В», «В — С» и т. п.) и подсчитали среднее расстояние между словами пар в каждом из миллиона наборов. Результат оказался совершенно поразительным: среднее расстояние для единственно, «правильного» набора (где пары состояли из имен и дат одного и того же раввина) оказалось четвертым по малости из миллиона! Два года спустя Рипс и Вицтум представили Израильской Академии наук свою новую работу того же рода — и с аналогичным результатом. На сей раз в качестве объектов исследования вместо имен раввинов были взяты названия 70 народов, перечисленные в рассказе о праотце Ноахе («Берешит, гл. 10) — Хуш, Мицраим, Кнаан, Магог, Ассури т. д. Каждому имени был поставлен в соответствие какой-то «атрибут», вроде словосочетания «народ Куша», «язык Магога», «страна Ассур» и т. п., и тем самым был создан единственно «правильный» набор многочисленных — «правильных» словесных пар, а затем путем перемешивания имен и атрибутов еще 9 999 999 наборов «неправильных» пар. После измерения среднего расстояния между словами в каждом наборе оказалось, что «правильный» набор и в этом случае занял четвертое по малости место — уже из десяти миллионов! Найденные Рипсом и Вицтумом математические доказательства реальности кодов и осмысленной близости их «правильных» сочетаний возбудили и вдохновили многих других «кодоискателей», в том числе американского журналиста Майкла Дроснина. Подробно расспросив Рипса о его работах, Дроснин решил самостоятельно заняться поиском библейских кодов, но не столько религиозных, сколько жгуче современных, и стал гонять компьютер в поисках буквенных цепочек, образующих имена знаменитых людей современности — Кеннеди, Клинтона, Садата, Рабина и так далее. Обнаружив в Торе все нужные ему цепочки, он сделал смелый новый шаг, до которого не додумался никто из его предшественников, включая Вицтума и Рипса. Он сообразил, что при переходе от буквенной цепочки к «столбику», т. е. при «наматывании» длинной нити текста Торы на воображаемый барабан, слова этого текста, расположенные вдоль нити, не теряют связности друг с другом: они ложатся на барабан в той же последовательности, в какой находятся в тексте. Оказавшиеся друг под другом буквы цепочки, образующие — по вертикали — какое-то слово (например, «и-ц-х-а-к-р-а-б-и-н»), одновременно являются буквами каких-то слов Торы, расположенных по горизонтали. Вместо того чтобы искать с помощью компьютера какие-то другие буквенные цепочки, образующие слова, связанные со словом «Ицхак Рабин» (имя и фамилия израильского премьера, убитого фанатичным противником мирных соглашений Израиля с палестинцами), Дроснин решил просто воспользоваться готовыми словами Торы, пересекающими столбик «Р-а-б-и-н» или проходящими по соседству с ним. В конкретном случае цепочки-столбика — «и-ц-х-а-к-р-а-б-и-н» — он обнаружил очень многозначительные слова в строчке, проходящей через букву «ц» («цадик»); на иврите это были слова: «роцеах ашерирцах», или «убийца, который убьет» (см. рис. 3). Вместе со словами «Ицхак Рабин» они давали предсказание: «Убийца, (который) убьет Ицхака Рабина». Израильские власти, к которым Дроснин обратился со своим «предостережением», не обратили на него особого внимания (тем более что и без того знали, что Рабин является весьма вероятной мишенью экстремистов). Но когда Рабин был действительно убит, сенсация Дроснина стала от этого только драматичней. Впервые в истории было обнаружено зашифрованное в глубочайшем прошлом предсказание об убийстве видного современного политика, притом предсказание, зашифрованное не в каком-нибудь туманном стихотворении Нострадамуса, а в самой Торе, да к тому же еще обнаруженное средствами самой современной науки, и это предсказание сбылось! Но мало того — пользуясь тем же методом, Дроснину удалось обнаружить в тексте Торы также предсказания предстоящей атомной бомбардировки Израиля, взрыва автобуса в Иерусалиме, мощного землетрясения в Лос-Анджелесе и других апокалиптических событий. В предисловии к своей книге «Коды Торы», рассказывая об этих предсказаниях и подтверждая их достоверность ссылками на работы Рипса и Вицтума, Дроснин писал: «Эта книга представляет собой первый полный отчет о научном открытии двух израильских математиков, которое может изменить мир… В течение трех тысяч лет библейские коды оставались скрытыми от людей. Теперь они вскрыты компьютером — и могут открыть наше будущее. Библейский код может предостеречь мир о беспрецедентной опасности, возможно — подлинном Апокалипсисе, ядерной мировой войне. В любом случае он заставляет нас признать… что мы не одни. И ставит перед всеми нами вопрос — описывает этот код неизбежное будущее или лишь веер возможных будущих, выбор из которых — в наших руках?» 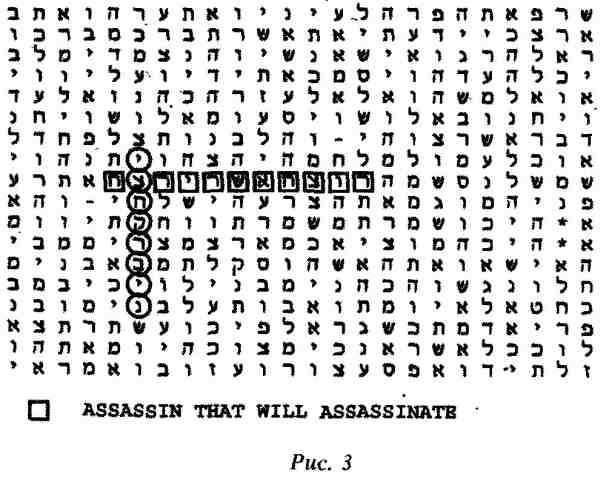
Книга Дроснина была переведена на десятки языков и породила десятки подражаний (Дж. Сцтиновер — «Взламывая библейский код», X. Линдсей — «Код Апокалипсиса», К. Суарес — «Шифр Творения, или код Кабалы», Д. Вошбэрн — «Наука и математика обнаруживают отпечатки Господних пальцев» и т. п.). Именно эти книги, вкупе с тотчас выброшенными на рынок общедоступными компьютерными программами для самостоятельного поиска «библейских пророчеств», и вызвали к жизни то повальное увлечение этими поисками, о котором мы упоминали вначале. В результате древняя, высокая и мудрая игра утонченных еврейских комментаторов со священным текстом Книги внезапно превратилась в массовое развлечение, т. е. в самый пошлый вид профанации (чего стоит, например, реклама типа: «Библейские коды помогают правильно вкладывать капитал!» — или карикатура, на которой муж, заглядывая в Тору, говорит жене: «Знаешь, кто к нам сегодня-придет к обеду?»). Это заставило многих верующих людей в ужасе содрогнуться. И даже такие энтузиасты «кодов» как Рипс, Майкельсон и Вицтум решительно отмежевались от подобного рода гаданий, превращающих священную Книгу в подобие сонника или китайской «Книги перемен». С другой стороны, это же побудило многих других ученых, специалистов по статистике, комбинаторике, а также библеистике, внимательней присмотреться ко всем этим исканиям кодов в тексте Торы, чтобы попытаться отделить в них, как говорится, зерна от плевел. Последуем за ними в этих попытках и начнем с самого простого — с простейших буквенных цепочек, найденных рабейну Бехайе и другими первооткрывателями. Итак, что в действительности обнаружил рабейну Бехайе? Ответ математики (комбинаторики и теории вероятностей) гласит: чисто случайное событие. В любом достаточно длинном тексте (а текст Торы, как я уже говорил, содержит 304 805 букв) вероятность найти четырех-, пяти- или даже восьмибуквенное сочетание, когда буквы разделены равными интервалами, а само оно образует некое осмысленное слово, непредставимо велика. И, действительно, специальная компьютерная проверка показала, что в Торе существует более 234 000 (двухсот тридцати четырех тысяч!) цепочек «бейт-хэй-рэиш-да-лет», так интересовавших рабейну Бехайе (разумеется, все они имеют разные интервалы между буквами, в том числе и отрицательные). То же самое, понятно, относится ко всем цепочкам «т-о-р-а», найденным равом Вейсманделем, равно как и к цепочке «м-и-ш-н-э-т-о-р-а», найденной. Виленским Гаоном. Таким образом, законы случайных событий позволяют найти в любом достаточно длинном тексте практически любое желаемое слово или группу желаемых слов, и порой даже в большом числе, если только не ограничиваться каким-либо одним заданным интервалом между буквами в их цепочках, т. е. при достаточной свободе поиска. Поэтому неудивительно, что «кодоискатели» так часто находят слова «ханука», «менора», «хашмонай» и т. п., равно как и 25 «райских деревьев» или 25 «скрытых имен Аарона». В этом смысле названия нацистских лагерей вблизи Освенцима ничем не отличаются от названий деревьев или людей. Но было бы неправильно думать, будто все дело в том, что буквенные цепочки для тех, других и третьих обнаруживаются в Торе потому, что имеют касательство к евреям: с тем же успехом там можно обнаружить имена знаменитых футболистов Бразилии или названия витаминов и имена их первооткрывателей. (Некоторые буквенные цепочки не обнаруживаются даже среди трехсот с лишним тысяч букв Торы, но и это тоже дело случая.) Гораздо интереснее разобраться в том, почему связанные близким смыслом буквенные цепочки («ханука — хашмонай») оказываются и «топографически» ближе друг к другу. Это обычно поражает воображение еще больше, чем само обнаружение той или иной буквенной цепочки. Но в действительности и это оказывается всего лишь следствием достаточной свободы выбора — либо интервала между буквами цепочки, либо тех или иных исходных данных, либо еще каких-то параметров эксперимента. В каждом конкретном «удивительном» случае в конце концов обнаруживается та или иная свобода манипулирования условиями эксперимента, в каждом случае — своя. При разборе каждого отдельного «чуда» Библии, библейских кодов приходится всякий раз искать, какая именно свобода выбора данных помогла экспериментатору в этом конкретном случае. Вернемся, например, к рис. 2. Мы отметили там странное написание слова «ханука» — с определенным артиклем. Оказывается, в данном случае весь секрет скрыт именно в этой крохотной частичке «хэй». Авторы, нашедшие пару цепочек «ханука-хашмонай» (каждая с минимальным интервалом), хотели показать их близость друг к другу. Но при «намотке» нити букв Торы на цилиндр с длиной окружности, равной минимальному интервалу для цепочки «ханука», цепочка «хашмонай» оказывалась очень далеко. Тогда они поставили компьютеру другую задачу: найти любую минимальную цепочку, образующую слово, близкое по смыслу к слову «ханука» и топографически соседнее с цепочкой «хашмонай». Компьютер нашел одну-единственную такую цепочку: «а-ханука». Обычно зрители, пораженные близостью кодов, даже не замечают эту маленькую странность, в которой специалист сразу же распознает примету того, что результат был насильственно подогнан под желаемый. Чудеса группировки кодов для райских деревьев или лагерей-спутников Освенцима имеют несколько другое, но столь же простое объяснение — предварительное варьирование исходных слов и отбор наиболее эффектных вариантов. Профессор Феликс, автор «Фауны и флоры Торы», проанализировав названия, взятые из его книги Майкельсоном и Рипсом, отметил девять изменений в написании названий деревьев сравнительно со своим научным текстом, а математики, изучавшие статистическую сторону эксперимента, показали, что, варьируя таким способом те или иные названия, можно найти нужные цепочки как раз в нужном месте и, наоборот, — строго следуя списку проф. Феликса, нельзя обнаружить в нужном месте многие из цепочек. Точно так же, варьируя названия нацистских лагерей-сателлитов Освенцима (т. е. беря одни лагеря, а не другие), выбирая из разных книг разное их написание и т. п., можно искусственно «загнать» цепочки для тех или иных названий в один и тот же участок текста, как это получилось у Вицтума. Свобода такого варьирования обеспечивается тем, что книг и статей об этих лагерях-спутниках Освенцима имеется довольно много, списки лагерей в них различны, написания тоже, так что можно перепробовать множество различных комбинаций, пока не отыщется такая, в которой побольше нужных буквенных цепочек окажутся близко друг к другу. В данном случае главную трудность составлял тот факт, что самая многочисленная и тесная группа цепочек-названий лагерей никак не ложилась на нужный участок текста, где располагалась минимальная цепочка для слов «шель Аушвиц» («при Освенциме»), «им Аушвиц» («вместе с Освенцимом») и даже просто «Аушвиц», и автору пришлось примириться с единственным найденным: «бэ Аушвиц», что означает совершенно несуразное в данном контексте «в Аушвице». Однако потрясенные читатели и здесь не замечают этой небольшой несуразности. Но самая простая и веселая наука — это объяснять, как получаются «библейские предсказания» Дроснина. Такого рода предсказаний в его книге превеликое множество — как относящихся к уже произошедшим событиям (убийство братьев Кеннеди, Садата и т. п.), так и к предстоящим — например, пророчества о возможном землетрясении в Лос-Анджелесе или о взрыве автобуса в Иерусалиме. Как же они конструируются? Вернемся к рис. 3. Отметим в нем две (намеренно пропущенные ранее) любопытные детали. Во-первых, на иврите фраза «убийца, который убьет Ицхака Рабина» звучит как «роцеах ашер ирцах эт Ицхак Рабин», тогда как «найденное» Дросниным сочетание: «ицхакрабин — роцеах ашер ирцах» означает скорее: «Ицхак Рабин — убийца, который убьет». Во-вторых, если всмотреться в рисунок, можно увидеть, что фраза Торы вовсе не кончается на «ирцах», а имеет еще три слова — «бэ ло дэа», что означает «без знания» («без намерения»), иными словами — нечаянно: убийца, который убьет нечаянно, непреднамеренно. Дроснин просто оборвал фразу на нужном ему месте и показал миллионам читателей, не знающим иврита, оборванный английский перевод: «Assassin that will assassinate» («Убийца, который убьет»). Многочисленность «найденных» Дросниным «пророчеств» объясняется попросту тем, что текст Торы изобилует словами «огонь», «эпидемия», «наказание», «катастрофа», «разрушение» и т. п., которые очень легко сопрячь с буквенными цепочками, образующими подходящие слова или имена, создав устрашающее пророчество. Там же, где это не удается, Дроснин, не задумываясь, прибегает к такому же препарировавнию текста Торы, как в случае с Рабином. Так, желая «предсказать» будущий взрыв автобуса в Иерусалиме, он использовал кусок фразы из текста Торы, обнаруженный рядом с цепочкой «о-т-о-б-у-с» и звучавший как «ашер им-шхем» («что около Шхема»); на иврите это записано буквами «алеф-шин-рэйш айн-мэм-шин-куф-мэм», что позволило Дроснину разделить эти буквы на совершенно иные слова: «алеф-шин», которое он истолковал как «эш» («огонь»), и «рэйш-айн-мэм», истолкованное им как °раам» («гром, большой шум»). Остальное было отброшено за ненадобностью, как в «предсказании о Рабине», после чего было уже нетрудно объяснить читателям, что «огонь» и «большой шум» — это и есть «террористический взрыв». В тех же случаях, когда и такое «предсказание» не сбывалось, Дроснина спасали предусмотрительно вставленные в предисловие к книге слова о «веере возможных будущих»: так, провалившись с предсказанием атомной бомбардировки Израиля в 1996 году, он тут же перенес его на 2004 год… Таким образом, все описанные (и сотни не описанных) выше качественных экспериментов по отысканию библейских «кодов» и «предсказаний» в действительности не имеют никакого отношения ни к кодам, ни к предсказаниям, ибо цепочки равноотстоящих слов, рассеянные во всех местах достаточно длинного текста и в самых изумительных сочетаниях, — это не чья-то шифровка, а такая же игра случайных (т. е. природных) закономерностей, как образование изумительных ледяных узоров на зимнем окне. А свобода выбора условий поиска помогает проявить эти узоры в любом желаемом месте и увидеть их в любом, самом неожиданном ракурсе. Но в «кодах Торы» есть еще более важная особенность — они не имеют никакого отношения и к самой Торе. Доказательством этого могут служить две грозди буквенных цепочек, найденных исследователями, которые проверяли результаты Рипса-Вицтума и Дроснина: одна гроздь состоит из огромного множества чрезвычайно близко расположенных буквенных цепочек, целиком относящихся к празднику Ханука; а вторая — из столь же большого числа цепочек, «предсказывающих» гибель принцессы Дианы. Обе эти эффектные грозди «библейских кодов» (сознательно подогнанные авторами-математиками по описанным выше общим правилам подгонки «кодов») более всего интересны тем, что обнаружены не в тексте Библии: первая из них найдена в отрывке ивритского перевода «Войны и мира» (той же длины, что книга «Берешит»), вторая — в такой же длины отрывке из английского текста «Моби Дика»! Тут, однако, возникает самый тяжелый вопрос: если все эти «коды Торы» — и не коды, и не Торы, то что же в таком случае означают описанные выше — уже не качественные, а строго количественные — результаты математических экспериментов Вицтума — Рипса? Если они верны, то должны быть, как представляется, верны и результаты всех других «кодоискателей»? А если нет, то в чем их ошибка? >2. РАЗГАДКА Напомню подробности работы Вицтума и Рипса. В 1994 году они опубликовали в солидном научном журнале «Статистические науки» статью о результатах проведенного ими математического исследования, подтвердившего гипотезу о наличии в тексте Торы второго, «скрытого», текста, зашифрованного там методом равных буквенных пропусков, а два года спустя доложили Израильской Академии наук результаты второго, аналогичного эксперимента, давшего те же результаты. Первый эксперимент Вицтума — Рипса получил название «эксперимента с раввинами», потому что объектом исследования были цепочки равноотстоящих букв (т. е. те самые «библейские коды», о которых говорилось выше), образующие имена известных еврейских раввинов IX–XVIII веков; второй эксперимент (точнее — самый интересный из экспериментов второй серии) был назван «экспериментом с народами», потому что в нем объектом исследования были названия «народов» из книги «Берешит» («Бытие»). В предыдущей главе я бегло описал оба этих эксперимента. В самом общем виде эксперимент с раввинами состоял в следующем. Рипс и Вицтум выбрали из «Энциклопедии великих людей Израиля» достаточно короткие (5–8 букв) имена или наименования{6} нескольких десятков раввинов IX–XVIII веков, а также даты их рождения и смерти. Последние были превращены в слова (с помощью приемов т. н. гематрии, которая обозначает каждое число определенным сочетанием ивритских букв, а затем из этих имен и дат были составлены словесные пары типа «имя А — дата А», «имя В — дата В» и так далее. Поскольку имен и дат (в словесном написании) у каждого раввина, как уже сказано, могло быть несколько, а брались все возможные сочетания, то и пар получилось намного больше, чем самих раввинов, — порядка нескольких сотен. После этого компьютеру было задано найти в тексте книги «Берешит» цепочки букв с равными (и минимальными!) пропусками, образующие слова каждой пары, и определить «расстояние» между ними (по разработанной Рипсом формуле). Результат оказался поистине впечатляющим: мало того, что были обнаружены цепочки почти для половины заданных слов, но во многих парах расстояния между составляющими их словами оказались весьма близкими. Но этот результат был еще чисто качественным. Чтобы получить математически строгое доказательство своей исходной гипотезы, авторы (по настоянию референта, профессора П. Диакониса) усложнили эксперимент: в дополнение к набору «правильных» словесных пар («А — А», «В — В» и т. п.) они создали путем перемешивания всех дат и имен еще 999 999 наборов «неправильных» пар (типа «А — В», «А — Г», «В — С» и т. п.) и подсчитали среднее расстояние между словами пар в каждом из миллиона наборов. Результат оказался совершенно поразительным: среднее расстояние для единственного «правильного» набора оказалось четвертым по малости из миллиона! Иными словами, буквенные цепочки для имен раввинов оказались почему-то ближе к цепочкам букв, образующих их собственные даты жизни, чем к тем цепочкам букв, которые образуют даты, не связанные с ними по смыслу. Это означало, что эти буквенные цепочки (коды) образуются и распределяются в Библии не случайно, а в соответствии со смыслом образуемых ими слов, словно кто-то сознательно расположил все буквы Торы в определенном порядке. Это было первое научное свидетельство в пользу неслучайности и осмысленности библейских кодов. Как уже сказано, два года спустя Рипс и Вицтум представили Израильской Академии наук свою новую работу, в которой в качестве объектов исследования вместо имен раввинов были взяты названия 70 народов, перечисленные в рассказе о праотце Ноахе (кн. «Берешит», гл. 10) — Хуш, Мицраим, Кнаан, Магог, Ассур и т. д. Каждому имени был поставлен в соответствие какой-то «атрибут», вроде словосочетания «народ Куша», «язык Магога», «страна Ассура» и т. п., и тем самым был создан единственно «правильный» набор многочисленных, «правильных» словесных пар, а затем путем перемешивания их составляющих — еще 9 999 999 наборов «неправильных» пар. После измерения среднего расстояния между словами в каждом наборе оказалось, что «правильный» набор и в этом случае занял четвертое по малости место — уже из десяти миллионов! Эти результаты произвели такое сильное впечатление, что долгое время никто не решался ни оспаривать, ни проверять их повторно. Однако появление и бешеная популярность рассмотренной выше книги Дроснина «Коды Торы», в которой автор, широко ссылался именно на авторитет профессора И. Рипса и полученные им «математические доказательства существования библейских кодов», побудили, наконец, многих математиков заняться детальным анализом и т. н. библейских кодов вообще, и результатов Вицтума — Рипса в частности. Как уже говорилось ранее, анализ качественных экспериментов с библейскими кодами (типа поиска названий «райских деревьев», «лагерей-сателлитов Освенцима» или «предсказания об убийстве Рабина») привел ученых к выводу, что во всех этих случаях имела место значительная свобода выбора исходных данных для поиска и манипулирования этими данными. Эта свобода выбора — при условии наличия в тексте большого множества совершенно случайных буквенных цепочек, образующих осмысленные слова, — создавала возможность предварительного подбора именно таких исходных данных, которые позволяли получить желаемый результат в наиболее эффектном и убедительном виде (например, найти все 25 названий «райских деревьев» в участке текста, посвященном описанию Рая, или все названия лагерей-сателлитов Освенцима вблизи буквенной цепочки, образующей название этого главного лагеря смерти). Отличие одного такого эксперимента от другого состояло лишь в том, в чем конкретно заключалась упомянутая свобода выбора в том или ином случае, как она была использована при поиске и каким именно образом повлияла на конечный результат. Уловив эту кардинальную особенность всех экспериментов, в которых обнаруживаются «впечатляющие» библейские коды и их группы, критики-специалисты по-новому сформулировали тот вопрос, который был задан выше по поводу экспериментов Вицтума — Рипса. Они сформулировали его следующим образом: можно ли сказать, что методика экспериментов Вицтума — Рипса полностью исключает ту возможность произвольного (пусть и незлонамеренного) манипулирования исходными данными, которая отягощает все другие эксперименты с библейскими «кодами»? Детальная проверка «чистоты» указанных экспериментов, была произведена в 1997–1998 годах многими учеными в разных странах, в том числе авторитетнейшим специалистом с мировым именем, профессором математики и теоретической физики Калифорнийского технологического института Барри Саймоном (кстати, ортодоксальным верующим евреем), профессором статистики университета штата Новый Южный Уэльс (Австралия) Майклом Асофером, профессором физических наук Корнельского университета в США Перси Диаконисом, профессором математики Лондонского университета Е. Б. Дэвисом и другими. Особенно много сделала в этой области международная группа математиков под руководством члена Австралийской Академии наук, специалиста по комбинаторике. и компьютерным наукам, профессора Брендана Мак-Кэя (кроме него в группу входили также Дрор Бен-Натан, Алекс Гиндис и Арье Левитин). Чтобы понять содержание и результаты этой проверки, необходимо вслед за специалистами разобраться в том, как шла подготовка исходных данных в работе Вицтума и Рипса. Для того, чтобы эта работа удовлетворяла требованиям статистической науки, авторы должны были заранее, до начала эксперимента, сформулировать исходную гипотезу, а также заранее условиться обо всех деталях и процедуре проведения эксперимента, в частности — о том, как будут выбираться исходные данные. Это требование, основное в каждом статистическом эксперименте, называется требованием априорности. Его необходимость очевидна: если не оговорить заранее все эти условия, то всегда останется возможность в любой момент изменить исходные данные любым желаемым образом. Выяснилось, однако, что выбор исходных данных (имен и дат жизни раввинов) в эксперименте Вицтума — Рипса оставлял большую свободу варьирования. Дело в том, что, как мы уже говорили, традиция (как письменная, так и устная) сохранила для каждого знаменитого раввина не одно, а целый ряд наименований и аббревиатур, в некоторых случаях 5–6 для одного человека, и экспериментаторы могут, вообще говоря, выбрать те из них, которые обеспечат наилучший результат. Но, помимо этой сложности, есть и другие, аналогичные. Нет, например, однозначных критериев, каких раввинов считать более знаменитыми, а каких — менее. Не существует однозначности и в вопросе написания различных имен и наименований. Справочники и энциклопедии сохранили не все даты рождения и смерти: иногда есть либо одна, либо другая дата, а порой нет и обеих. Перевод дат в словесное написание тоже представляет собой неоднозначную задачу, ибо принятых способов написания дат тоже существует несколько, иногда до 8–9 вариантов{7}. Давая пояснения по методике своей работы, Вицтум и Рипс утверждали, что выполнили требование априорности, поскольку скрупулезно следовали указаниям специалиста, руководителя отделения библиографии и библиотековедения университета Бар-Илан профессора Хавлина, который, по их словам, заранее проделал для них однозначный и научно обоснованный отбор самых употребительных вариантов имен, наименований и дат, а также их написания (правда, датами занимался другой специалист, ныне покойный профессор Урбах). Однако пристальный анализ процесса этого отбора показал, что критерии проф. Хавлина были далеки как от научных, так и от однозначных и оставляли авторам большие возможности предварительного подбора наилучших исходных данных для эксперимента. Имена и даты почему-то выбирались из «Энциклопедии знаменитых людей Израиля» под редакцией Маргалиота, хотя существует множество других аналогичных энциклопедий и справочников. Критерием «знаменитости» было почему-то выбрано определенное количество колонок энциклопедического текста, посвященного данному раввину: те, у кого было меньше трех таких колонок, считались недостаточно знаменитыми. Проверка показала, что если бы авторы последовали совету другого специалиста и воспользовались другими энциклопедиями или другими критериями «знаменитости», результаты эксперимента оказались бы отнюдь не такими впечатляющими. Но самой большой удачей эксперимента оказался специфический выбор конкретных наименований и дат из множества предоставлявшихся возможностей. У раввинских наименований есть своя долгая и запутанная история. Одни родились и укоренились в разговорном языке, другие возникли и употреблялись только на письме; они рождались в разное время и в разных странах, поэтому имели разное произношение и написание и так далее; единственное, что их объединяет, — это заведомое отсутствие какого бы то ни было общепринятого, научно обоснованного и однозначного критерия для предпочтения одних наименований другим. В отсутствие такого критерия профессор Хавлин предложил свой собственный, состоявший из множества произвольно постулированных правил отбора. Однако уже несколько лет спустя, поясняя свои критерии коллегам-специалистам, Хавлин и сам не мог припомнить некоторые из этих правил и потому не мог объяснить, почему он отбросил одни наименования в пользу других. Он говорил, что руководствовался тем, какие наименования употреблялись в т. н. «Респонсах» (ответах, посылавшихся раввинами в различные еврейские общины), но оказалось, к примеру, что написание «Оппенхейм», выбранное им для одного из раввинов, содержится в «Респонсах» лишь дважды, тогда как написание «Оппенхейем» содержится в тех же «Респонсах» более 30 раз, включая несколько «Респонсов», где оно появляется как личная подпись рава Оппенхейема. Почему же для эксперимента было принято именно «Оппенхейм»? А ведь даже изменение одной буквы, как показала проверка, резко влияет на результат эксперимента. Выбери авторы случайно не «Оппенхейм», а «Оппенхейем», и результат оказался бы иным. И таких примеров можно привести много. Так, общепринятое наименование рава Йосефа Каро: «Бейт-Йуд» — было отброшено как «непроизносимое» (поскольку одно из «правил Хавлина» предписывало руководствоваться в отборе наименований только устной традицией, что, впрочем, не мешало в некоторых случаях почему-то отдавать предпочтение письменной). Между тем именно «Бейт-Йуд» является самым употребительным наименованием рава Каро — по заглавию его главного труда «Бейт-Йосеф», как уже говорилось. В добавление ко всему, даже эти двусмысленные критерии соблюдались авторами вслед за Хавлиным далеко не жестко: то и дело вводились новые правила для тех или иных конкретных случаев; выбор одного наименования обосновывался тем, что оно «более благозвучно», другого — тем, что оно «более удобопроизносимо», а третьего — тем, что «таков более правильный перевод с немецкого». Неслучайно полностью выведенный из себя этим произволом один из критиков, профессор кафедры ТАНАХа университета Бар-Илан Менахем Коэн вынужден был в конце концов крайне резко заявить: «Все эти критерии представляются лишенными всякой научной основы, поскольку, во-первых, являются абсолютно произвольными и в каждом пункте могут быть заменены совершенно другими, не менее, а возможно, и более удачными, а во-вторых, не выдержаны последовательно даже самим автором…» А уже упоминавшийся выше профессор Барри Саймон язвительно заметил, что составленный Хавлином и принятый на вооружение Вицтумом и Рипсом исходный список «настолько произволен, что его не может воспроизвести не только какой-либо другой исследователь, но даже сам составитель». Как оказалось, то же самое можно сказать и о списке дат. Все это означает, что набор исходных данных не был априорным: повсюду оставалось множество возможностей различного выбора, и в каждом случае авторы выбирали одну из них, руководствуясь весьма сомнительными, с научной точки зрения, критериями, — но в конечном итоге совокупность всех этих удачных выборов привела, как ни странно, к наилучшему результату. Как уже было сказано выше, соблюдение априорности означает, что исходные условия выбраны еще до эксперимента и заданы так однозначно, что это полностью исключает возможность менять их в ходе расчетов, чтобы улучшить результат. Отсутствие априорности, естественно, означает обратное. Разумеется, если результат не очень зависит от исходных данных, отсутствие априорности не так существенно. Но, к сожалению, в случае эксперимента Вицтума — Рипса дело обстоит прямо противоположным образом. Как показала группа Б. Мак-Кэя, особенности методики в эксперименте Вицтума — Рипса таковы, что общий результат крайне чувствителен даже к изменению одного-единственного имени или одной какой-то даты. Действительно, как обнаружилось при воспроизведении эксперимента Вицтума — Рипса с другими исходными данными, приводимые авторами средние цифры скрывают за собой крайне пестрый разброс индивидуальных данных. Так, в «правильном» наборе имен и дат фигурируют 4 пары вида «Рамбам — дата Рамбама». Таких пар четыре, потому что имеются два возможных написания даты рождения и два возможных написания даты смерти Рамбама. Если последовательно заменить в этих парах правильные «рамбамовские», даты на даты других раввинов, беря эти «неправильные» даты во всех их возможных написаниях, получится еще 926 пар. Так вот, расстояние между именем Рамбама и датой его рождения (в одном написании) оказывается всего лишь 332-м по малости среди всех 930 пар; расстояние между именем Рамбама и датой его рождения во втором написании — 696-м, расстояние между именем Рамбама и датой его смерти в первом написании — 686-м, а расстояние между именем Рамбама и датой его смерти во втором написании — 890-м, т. е. является чуть ли не самым большим из всех расстояний. Такие же большие расстояния характерны и для многих других «правильных» пар. Каким же образом среднее расстояние для всего набора «правильных» пар в целом оказалось четвертым по малости? Анализ группы Мак-Кэя показал, что положение спасает небольшое число специфических «имен» и «дат»: будучи выбранными в определенном написании (а критерии отбора, принятые в эксперименте, как мы уже видели, вполне позволяют такую свободу выбора), они оказываются расположенными необычайно близко, и это делает среднее «расстояние» достаточно малым. Это и означает, что метод чувствителен к выбору исходных данных: стоит слегка изменить выбранное написание, как среднее расстояние между именами и датами для «правильного» набора, рассчитанное по методу Вицтума — Рипса, сразу откатывается далеко в середину миллиона других расстояний, характеризующих наборы совершенно бессмысленных и случайных сочетаний имен и дат. Группа Мак-Кэя произвела своеобразный «проверочный эксперимент». Исследователям было известно, что после того, как Рипс и Вицтум нашли свой нетривиальный результат в тексте книги «Верещит», они решили проверить, каким будет среднее расстояние для «правильного» набора имен и дат знаменитых раввинов в переводе на иврит романа «Война и мир», и нашли, что там оно очень велико. Поэтому Мак-Кэй предложил взять другой список раввинов, составленный по методике Вицтума — Рипса (т. е. с той же свободой выбора исходных данных), но с небольшими изменениями (научную обоснованность которых подтвердили специалисты по иудаике), и посмотреть, какие результаты он даст в тексте тех же двух книг — книги «Берешит» и «Войны и мира». Эти результаты оказались прямо противоположны результатам Вицтума — Рипса: список группы Мак-Кэя занял одно из почетных первых мест среди 10 миллионов всевозможных списков имен и дат в ивритском тексте «Войны и мира»., но откатился на весьма далекое место, т. е. выглядел как вполне случайный в тексте книги «Берешит». Разумеется, это не означает, будто «Война и мир» провидит истину относительно правильных имен и дат будущих раввинов лучше, чем Тора. Вопрос — кто лучше провидит истину, тем более будущую? — вообще не относится к ведомству науки, это вопрос, веры. С научной точки зрения, результат эксперимента Мак-Кэя означает только, что в условиях подобной свободы выбора исходных данных оба эксперимента не дают — и в принципе не могут дать — однозначных результатов. Достаточно еще раз изменить данные (в пределах той свободы, которую оставили себе Вицтум и Рипс), и «правильный» список окажется правильным даже в тексте «Моби Дика» (напомню, что Мак-Кэй и Саймон уже показали, что, располагая достаточной свободой манипулирования, можно найти в «Моби Дике» даже «предсказание» гибели принцессы Дианы). Эта оценка эксперимента Вицтума — Рипса нисколько не меняется и от того, что они провели второй «проверочный» эксперимент с дополнительным списком 32 раввинов, критерии для составления которого были определены заранее, т. е. как будто бы были вполне априорными. Дело в том, что в качестве этих критериев были выбраны все те же «правила Хавлина», оставлявшие экспериментаторам ту же свободу выбора одних имен, дат и их написаний и произвольного отбрасывания других имен, дат и их написаний, что и в основном эксперименте. Иначе говоря, второй список был просто продолжением первого. А это значит, что и его априорность была иллюзорной. Как уже говорилось, через два года после экспериментов, описанных в статье в «Статистических науках», Вицтум доложил в Израильской Академии наук свою с Рипсом новую работу, содержавшую, среди прочих, т. н. эксперимент с народами. Методика этого эксперимента в целом повторяла методику предыдущей работы. Из текста Торы (книга «Берешит», глава 10, рассказ о праотце Ноахе) были взяты 70 названий различных народов (вроде Хуш, Мицраим, Кнаан, Магог, Ассур и так далее), и каждое йз них было спаровано с его «атрибутом» — фразой типа «народ Мицраима» или «язык Хуша», или «страна Ассура», или «люди Кнаана» и т. п., причем в обоснование того или иного выбора конкретного «атрибута» при том или ином названии народа приводилась ссылка на комментарии Виленского Гаона. Снова были составлены один «правильный» и множество «неправильных» наборов таких пар («правильная пара» — это «Хуш — народ Хуша»; «неправильная»: «Хуш — народ Мицраима»), причем «неправильных» на этот раз был миллиард без одного, снова были найдены буквенные цепочки для всех них (на этот раз все с интервалом плюс или минус 1), снова (по формуле Рипса) были измерены расстояния и найдены средние. Как уже говорилось, среднее расстояние в «правильных» («А — атрибут А») оказалось четвертым по малости и в этом невероятном по массовости забеге. Группа Мак-Кэя произвела анализ и этого эксперимента. Оказалось, что и в нем степень свободы выбора данных была оставлена очень высокой — за счет небольшого изменения указаний Виленского Гаона. Так, комментарий Гаона вообще не содержит фраз типа «народ Куша» и пользуется только сочетанием «имя Куша», тогда как Рипс и Вицтум использовали именно первое сочетание. Между тем, если проделать тот же эксперимент с парами строго «гаоновского» типа: «Куш — имя Куша», то средняя близость в парах «правильного» списка окажется ничуть не лучше, чем близость в парах всех прочих, «бессмысленных» наборов; зато, поменяв слово «имя» на слово «народ», можно тотчас добиться огромного улучшения результата. Точно так же слегка изменен по сравнению с комментарием Гаона атрибут «язык Куша» — Гаон пользуется несколько иным словом. Когда исследователи провели расчет того, какие результаты дают все возможные атрибуты (как выбранные Вицтумом и Рипсом, так и другие, типа «характер Куша», «вождь Мицраима», «армия Магога», поддержанные комментариями Рамбана-Нахманида), то оказалось; что в сводной таблице результаты для всех прочих атрибутов распределены в целом случайным образом, но три из четырех атрибутов, использованных Вицтумом и Рипсом, занимают в ней первые места. Иными словами, если они выбраны случайно, то выбор случайно оказался невероятно удачным. Эта странная «систематическая случайность», естественно, породила у проверявших эти эксперименты математиков подозрение, не подбирали ли авторы предварительно именно те варианты написания имени или атрибута, которые давали наилучший результат, а уже затем демонстрировали этот результат. Намеки такого рода особенно резко высказываются членами группы Мак-Кэя. Мне лично представляется, однако, что все эти намеки критиков на возможность «подгонки результата» не вполне корректны. Дело в том, что даже если такой предварительный перебор вариантов и осуществлялся, он является «подгонкой» только с точки зрения статистической науки, т. е. не позволяет считать полученный результат научным доказательством; но этот перебор не является подгонкой с точки зрения верующих людей, каковыми являются Вицтум и Рипс. Верующий человек всегда может сказать, что, перебирая, он искал тот единственный вариант написания имени раввина или атрибута народа, который был использован Автором Книги, чтобы «закодированно» записать в ней будущее. А почему Автор захотел для этого закодировать имя рава Оппенхейема в виде цепочки «О-п-п-е-н-х-е-й-м», а не «О-п-п-е-н-х-е-й-е-м», не нам судить: пути Всевышнего неисповедимы. По этому поводу еще один критик гипотезы Вицтума — Рипса, уже упоминавшийся профессор Асофер, пишет: «Можно, разумеется, сказать, что Всевышний написал Тору и закодировал в ней информацию о будущем таким способом, каким Ему заблагорассудилось, но такой подход тотчас лишает нас возможности подсчитывать вероятности по законам статистики, ибо мы не знаем — и не можем узнать, — соблюдал ли и Всевышний те же законы». Мне кажется, что дело обстоит даже хуже: введя в науку гипотезу о всемогущем и всеведущем Авторе, мы вообще теряем возможность задавать вопросы. Например, на вопрос, почему «правильный» набор имен или атрибутов занял только четвертое, а не первое место, которое, казалось бы, должен был занять единственно «правильный» набор, или почему для подсчета расстояний принята громоздкая формула Рипса, которая требует нескольких миллионов (!) операций для вычисления расстояния между каждыми двумя буквенными цепочками (но зато, как показал детальный и независимый анализ Асофера и Саймона, в сотни раз улучшает результат эксперимента с раввинами), а не более простая формула, предложенная Диаконисом (расстояние между двумя буквенными цепочками равно числу пропущенных букв между центральными буквами этих цепочек), — всегда можно дать ответ: потому, что это Всевышний, по Своему неисповедимому желанию, предопределил этому набору именно четвертое, а не какое-либо иное место, причем именно при подсчете по формуле Рипса, а не по более простой. Не будем поэтому препираться: наука не может и не должна решать вопрос о существовании или не существовании Автора. Но она может решить вопрос о научной доказательности результатов Вицтума — Рипса, и самыми трудными для опровержения мне лично представляются как раз не доказательства Саймона, Асофера или Мак-Кэя, а соображения текстологов-библеистов — например, уже упоминавшегося профессора Менахема Коэна из университета Бар-Илан или профессора Джеффри Тигэя из Пенсильванского университета (США). Если формулировать предельно кратко, то их соображения таковы. Суть всех проверок группы Мак-Кэя и других специалистов, говорят Коэн и Тигэй, сводится к выводу, что результаты Вицтума — Рипса весьма чувствительны к малейшим изменениям в написании тех или иных буквенных цепочек для имен и дат жизни раввинов или атрибутов народов: эти результаты сразу изменяются от замечательных (свидетельствующих о наличии Автора) к совершенно рядовым (свидетельствующим об их чисто случайном характере). Но поскольку такие же изменения в цепочках могут быть произведены не только с помощью специального подбора исходных данных, но и просто путем случайной перестановки каких-нибудь нескольких букв текста Торы, то, стало быть, результаты Вицтума — Рипса зависят также от точности этого текста. Понятно, что содержать истинное знание о будущем может только истинный, ни на йоту не искаженный текст Торы. А это значит, что и результаты Вицтума — Рипса должны быть замечательны не вообще в книге «Берешит», а только в истинном, ни на йоту не измененном тексте этой книги. Между тем Вицтум и Рипс получили свои замечательные результаты именно на искаженном тексте, и потому утверждения о какой-то особой «значимости» этих результатов (как якобы освященных особым Авторитетом источника) абсолютно несостоятельны. Дело в том, разъясняют специалисты-библиеведы, что никакого истинного текста Торы попросту не существует. Напротив, есть множество доказательств, что текст, которым пользовались Вицтум и Рипс, равно как и все остальные существующие ныне тексты Торы, во многом отличается от того, которым пользовались во времена Второго Храма, не говоря уже о более ранних временах. Некоторые места в существующих текстах отличаются и от соответствующих цитат из Торы, приводимых составителями Талмуда (а точность таких талмудических цитат в сравнении с дошедшими до нас текстами Торы гарантируется тем, что на этих цитатах основаны некоторые галахические постановления), и от соответствующих мест в отрывках Торы, найденных в кумранских свитках. Эти разночтения затрагивают также книгу «Берешит», с которой работают Вицтум и Рипс. А поскольку буквенные цепочки, образующие имена и даты жизни раввинов или названия и атрибуты народов, разбросаны буквально по всей книге, они не могут не испытать влияния этих разночтений. Поэтому результат, полученный Вицтумом и Рипсом, даже если бы он был научно достоверен, был бы весьма странен с точки зрения верующего человека: он означал бы, что только в измененном, по сравнению с древним, тексте Торы содержится правильное предсказание имен и дат жизни будущих раввинов. За неимением места я не могу достаточно подробно изложить интереснейшие аргументы Коэна и Тигэя. Но если у Вицтума и Рипса нет сегодня убедительного ответа на эти сокрушительные соображения, то им остается либо найти такой ответ, либо признать свои результаты не относящимися к вопросу об Авторстве. Я не одинок в этом заключении; примерно то же написали недавно в своем коллективном письме 50 видных математиков мира. Высказав, резко отрицательное мнение о научной достоверности экспериментов Вицтума — Рипса («Мы… изучили представленные доказательства существования «кодов» в Торе и нашли их совершенно неубедительными»), они далее пишут: «Некоторые из подписавшихся под этим письмом верят в Божественное происхождение Торы. Мы не видим никакого противоречия между этой верой и высказанным выше мнением». Иными словами, результаты Вицтума — Рипса не имеют никакого отношения к вопросу о существовании или не существовании Всевышнего. По утверждению Барри Саймона, профессоры Каждан и Ауман, некогда рекомендовавшие статью Вицтума — Рипса к публикации в «Статистических науках», тоже выразили готовность присоединиться к этому коллективному письму. >ГЛАВА 3 КТО НАПИСАЛ ТОРУ Еврейская традиция утверждает, что все пять книг Торы были получены Моисеем на горе Синай от Господа Бога. Однако эти книги (а также весь библейский текст в целом) содержат столь большое число противоречий, разночтений и несогласований, что становится попросту невозможным приписать их авторство одному автору, даже божественному. Кто же тогда создал Библию? Попробуем рассказать, последовательно и связно, как отвечает на этот вопрос современная наука. Оговоримся, однако, сразу: речь пойдет не о привычной в христианском мире Библии, состоящей из двух частей — Ветхого и Нового Заветов, но о той только великой книге, которую христиане называют «Ветхим (т. е. Старым) Заветом», а евреи называют ТАНАХом (Тора, или «Закон», Невиим, или «Пророки» и Ктувим, или «Писания»). «Библией» (или «Книгами») ее впервые назвали эллинизированные евреи диаспоры в начале новой эры (прямо переводя на греческий раннееврейское название «а-сфарим», предшествовавшее слову «ТАНАХ»). Под этим названием она и вошла в европейскую культуру. Роль Библии в этой культуре огромна. По существу, она заложила ее нравственные и социальные основы. Неслучайно европейскую цивилизацию называют иудеохристианской. А поскольку европейская цивилизация оказала столь же огромное влияние на историю мира, то Библия стала книгой поистине мирового значения. Из нее выросло христианство. Из нее вырос ислам. Библия до сих пор остается самой читаемой книгой в мире и неизменно занимает первое место в списках бестселлеров. Но отношение к ней различных людей далеко не одинаково. Одни понимают ее буквально, другие аллегорически, третьи историко-культурно или нравственно. Одни считают ее Боговдохновленной, другие видят в ней человеческое творение. Одни живут по ее законам, другие изучают ее методами науки. Впрочем, последнее противопоставление не означает противоречия. Научное изучение Библии не направлено на подрыв веры. Оно не имеет целью доказательство существования или не существования Бога. Оно не нацелено на разжигание конфликта между религией и наукой или между верующими и неверующими людьми. Разумеется, как среди верующих, так и среди неверующих есть зашоренные люди, готовые крикливо навязывать другим свои крайние религиозные или атеистические взгляды. Спорить с такими людьми бесполезно. Они сами своими неумными нападками провоцируют и разжигают тот конфликт, против которого на словах выступают. У всякого серьезного верующего или атеиста знакомство с историей научного изучения Библии и достигнутыми на этом пути результатами вызывает лишь еще большее уважение к этой великой Книге. Оно углубляет понимание ее исторических и нравственных уроков. Оно является источником житейской мудрости и жизненной стойкости. Неслучайно у истоков научного изучения Библии стояли верующие люди, в том числе и евреи; да и сегодня многие, едва ли не большинство исследователей Библии являются представителями религиозных кругов. Эти занятия столь же мало подрывают их веру, сколь увлеченные и эффективные занятия наукой вообще — веру тех тысяч и тысяч современных ученых, которые остаются глубоко религиозными людьми. Со своей стороны, ни один серьезный ученый-атеист никогда не опускался до вульгарного «ниспровержения» великих религиозных идей, пронизывавших и определявших всю человеческую историю. Скорее наоборот: все они несли в душе и вдохновлялись своим, экзистенциальным эквивалентом таких идей. Будем надеяться, что все сказанное выше сразу же очертит наш подход к намеченной теме, и приступим к ней без дальнейших отлагательств. Научное изучение Библии (или, как его еще условно называют, «библейская критика») представляет собой, по существу, попытку ответить на один-единственный вопрос: кто написал Библию? В этом плане перед нами не что иное, как научный детектив, столь часто встречающийся в любых рассказах о науке. Как и всякий детектив, он начинается с загадок. Люди, внимательно читавшие Библию, не могли не заметить, что в ней встречаются многочисленные противоречия. Так, в рассказе о Сотворении Мира один раз (Бытие 1:20–27; здесь и в дальнейшем мы будем цитировать русский перевод, сверяя его с ивритским текстом; читатель, при желании, может произвести эту сверку и сам) говорится, что Бог сначала создал всех пресмыкающихся, животных и птиц, а затем человека — мужчину и женщину; а несколько ниже (Бытие 2:7; 2:18–22) утверждается, что Он сначала создал мужчину, затем всех животных и птиц и лишь после этого женщину. В рассказе о Потопе сначала говорится (Бытие 6:19), что Господь повелел Ною ввести в ковчег по паре из всех животных, а потом (Бытие 7:2–3) сообщается, что «чистых» (то есть пригодных для жертвы) животных и птиц велено взять по семи. И даже о самом Себе Господь (если считать Его первовдохновителем библейского текста) говорит на удивление противоречиво: в книге «Берешит» (Бытие 4:26) Он сообщает, что Его имя начали призывать (то есть произносить) уже в древнейшие времена, после рождения Адамова внука; а в книге «Шмот» (Исход 6:3) рассказывает Моисею, что это же Свое имя Он не открыл даже Аврааму, Ицхаку и Яакову. Таких примеров можно привести множества Верующие люди, читавшие эту книгу на протяжении столетий, не могли не задумываться над ними. Традиция учила их, что первые пять книг ТАНАХа, или Тора, были написаны Моисеем. Но читавшие не могли не видеть противоречий между этим утверждением и самим текстом. В тексте упоминаются многие события, о которых Моисей знать не мог. Рассказывается, например, о смерти Моисея. Говорится, что Моисей был самым скромным человеком на Земле. Трудно думать, что самый скромный человек на Земле станет говорить о себе, что он самый скромный человек на Земле. И так далее. Все это порождало законные недоумения. Мы знаем, что такие недоумения высказывались очень часто, — хотя бы потому, что уже в III в. н. э. христианский богослов Ориген написал специальный трактат, направленный против тех, кто сомневался в моисеевом авторстве. Он предложил разъяснения некоторых противоречий. Аналогичные разъяснения предлагали раввины. Они утверждали, что противоречия являются мнимыми и могут быть сняты с помощью дополнительных комментариев и интерпретаций. В частности, упоминание событий, о которых Моисей якобы не мог знать, объясняется тем, что Моисей был пророк, а текст Торы вдохновлен Богом. В подобных интерпретациях особенно были искусны великие еврейские комментаторы Раши и Нахманид. (Много позже Бабель с любовной иронией спародировал этот метод интерпретации в одном из своих «Одесских рассказов»: «Ночью… — читал Арье-Лейб. — Что говорит нам Раши? Раши говорит нам: ночью — это ночью и днем».) Были, однако, люди, которых не удовлетворяли такие способы решения загадок библейского текста. Принимая в целом авторство Моисея, они высказывали предположения, что в отдельных местах моисеев текст мог быть дополнен теми или иными фразами, вставленными более поздними переписчиками. Первым из известных нам людей такого рода был еврейский врач Ицхак Ибн Яхуш, живший в XI веке при дворе одного из мусульманских правителей Испании. Он обратил внимание на то, что в книге Бытия (36:31–39) перечисляются цари Эдома, жившие намного позже смерти Моисея. Неизвестно, почему его смутило именно это противоречие, но он высказал мысль, что данный перечень является более поздней вставкой. За это он был назван «Ицхаком-путаником». Назвал его так Авраам Ибн Эзра, испанский раввин XII века. Он даже добавил, что книга Ибн Яхуша «заслуживает сожжения». Но тот же Ибн Эзра в своих собственных сочинениях намекнул, что в ТАНАХе имеются фразы, которые никак не могли принадлежать Моисею: упоминания о Моисее в третьем лице; описание мест, где он никогда не бывал, и событий, которые случились после его смерти, и так далее. Ибн Эзра, однако, был осторожнее Ибн Яхуша. Он просто написал: «Тот, кто понимает, будет хранить молчание». В XIV веке ученый из Дамаска Бонфилс впервые высказал вслух дерзкое предположение, призванное разъяснить все упомянутые загадки: «Они являются свидетельством того, что эти фразы вписаны в Тору позже и не Моисеем; скорее их вписал какой-то более поздний пророк». В XV веке епископ Тостатус, развивая эту мысль, предположил, что этим более поздним автором был Йегошуа Бин-Нун, преемник Моисея и первый еврейский завоеватель Ханаана. Но столетием позже немецкий ученый Карлштадт обратил внимание на то, что описание моисеевой смерти излагается точно в том же стиле и тем же языком, что и весь остальной текст. А это делало затруднительным приписать «добавки» кому-либо другому. Его современник, фламандский католик Андреас ван Маес, и два иезуита, Перейра и Бонфрер, попытались преодолеть эту трудность, выдвинув гипотезу, что Моисею принадлежал только исходный текст Торы, но до нас дошел текст, слегка измененный какими-то более поздними «редакторами», которые своими вставками и. исправлениями пытались сделать его более понятным читателям. Книги этих авторов были немедленно запрещены католической цензурой. На третьем этапе этой истории — в XVII веке — английский философ Томас Гоббс выдвинул еще более радикальное предположение: основная часть текста Торы вообще не принадлежит Моисею. Гоббс собрал множество аргументов в пользу этого своего тезиса и изложил их в специальной книге, которая получила широкую известность среди читателей. Одновременно аналогичный тезис выдвинул и французский протестант Перьер. Ему повезло меньше, чем Гоббсу, — его книга была конфискована и сожжена, а сам он был арестован и купил свободу только ценой отречения от своих слов и перехода в католицизм. Но вскоре к мнению Гоббса и Перьера присоединился также Спиноза, Мало того, что он систематизировал все противоречия, найденные в библейском тексте его предшественниками, — он добавил к ним новые наблюдения. Он, например, обратил внимание на фразу (Второзаконие 34:10): «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей», — которая явно была написана кем-то, жившим через много лет или даже столетий после Моисея. Как известно, Спиноза был отлучен от иудаизма, а его книги были осуждены не только еврейскими раввинами, но также католиками и протестантами. Однако все эти преследования не могли, конечно, остановить пытливую мысль, и уже вскоре после осуждения трудов Спинозы французский католический священник Ришар Симон выступил со своей версией происхождения Торы — самой радикальной из всех, предлагавшихся до тех пор. Спиноза был первым, кто показал, что логические и композиционные несообразности в Торе представляют собой не изолированные, худо-бедно объяснимые противоречия, а систематическую особенность всего текста. На этом основании он предположил, что текст этот принадлежит не Моисею, а более поздним авторам, которые имели в своем распоряжении несколько старинных источников. Эта идея получила дальнейшее развитие у трех авторов следующего века — немецкого священника Виттера, французского врача Астрюка и немецкого историка Эйхгорна. Их книги сосредотачивались главным образом на анализе так называемых библейских дублетов. Под таким названием среди специалистов известны те места Торы, которые рассказываются в ней дважды. Таких эпизодов особенно много в ее первых книгах. Процесс Сотворения мира, история Потопа, заключение Богом завета с Авраамом, объяснение имени Ицхака, объявление Авраамом своей жены Сары сестрой, путешествие Яакова в Месопотамию, откровение Яакову. возле Бейт-Эля и изменение его имени На Исраэль, эпизод высекания Моисеем воды из скалы — все это и многое другое излагается в Торе в двух версиях, детали которых зачастую противоречат друг другу. Богословы — раввины и священники — не могли пройти мимо этих противоречий. Поэтому они объявили их мнимыми. Две версии дублета, разъясняли они, не противоречат, а дополняют друг друга. Тем самым они преподносят верующему более глубокий урок. Исследователи Библии не были удовлетворены этими разъяснениями. Они обратили внимание на странную закономерность. В большинстве дублетов различия между составляющими их версиями весьма устойчивы. Говоря о Боге, одна версия всегда использует слово «Элогим», другая всегда пользуется обозначением «Ягве». Вспомним, например, рассказ о Потопе. В шестой главе книги Бытия (Берешит) пятый стих открывается словами: «И увидел Ягве…», шестой: «И раскаялся Ягве…», седьмой: «И сказал Ягве…», восьмой заканчивается словами: «Перед очами Ягве». Но в стихе девятом уже говорится, что «…Ной ходил перед Элогим». Этот стих открывает длинный ряд других, до самого конца главы, в которых Бог именуется исключительно словом «Элогим». В них подробно излагается, какой ковчег «Элогим» повелел Ною построить и каких тварей в него взять: «…от всякой плоти по паре». После чего «сделал Ной все, как повелел ему Элогим». Однако следующая глава немедленно открывается повторением: «И сказал Ягве (!) Ною… всякого скота чистого (т. е. пригодного для жертвы. — Р.Н.) возьми по семи (!) пар…» Этот повтор продолжается вплоть до пятого стиха, где снова говорится, что «…сделал Ной все, что Ягве повелел ему», — после чего начинается отрывок, в котором Бог опять начинает именоваться словом «Элогим». Такие отрывки, повторяющие друг друга в разных выражениях и с разным наименованием Бога, чередуются вплоть до конца рассказа. Примем как гипотезу, что история Потопа — это искусная комбинация двух различных рассказов. Продолжается ли каждый из них также и в последующем тексте? Оказывается, да. Если продолжить сопоставление дублетов, то нетрудно заметить, что почти все они содержат те же две версии, четко различающиеся наименованиями Бога. И вот что интересно: если собрать по порядку все те куски текста, в которых Бог именуется «Ягве», то образуется вполне связный рассказ, повествующий о событиях от Сотворения мира до Исхода из Египта. А если собрать все куски, в которых Бог именуется «Элогим», получится другой связный рассказ, повествующий о тех же (!) событиях — от Сотворения мира до Исхода из Египта, — но уже по-своему, со своей стилистикой и своими особыми приметами. Эти различия не сводятся только к разным наименованиям Бога. Оба рассказа отличаются и другими устойчивыми разночтениями. В одном коренные жители Ханаана всегда называются аморитами, в другом — хананеянами. Один всегда именует пустыню, в которой евреи скитались после исхода из Египта, Хоревской, другой — Синайской. В одном имя моисеева тестя — Итро, в другом — Ховав. И так далее. Заслуга Виттера, Астрюка и Эйхгорна состояла в том, что они первыми заметили этот удивительный факт. Независимо друг от друга они выдвинули гипотезу, что по крайней мере первые две книги Пятикнижия являются контаминацией двух разных древних источников. В соответствии с разным наименованием Бога в этих источниках первый из них получил название «Ягвист», а второй — «Элогист». Для краткости их часто обозначают первыми буквами соответствующих слов — J и E. Их различие состоит не только в разных наименованиях Бога и других деталях. Как уже сказано, они отличаются и чисто литературно. «Ягвист» намного более талантливый писатель, чем «Элогист». Вот как характеризует его современный историк Драйвер: «Ягвист рассказывает свою историю, удивительно точно взвешивая необходимое количество деталей; его рассказ никогда не бывает затянут и всегда держит читателя в напряжении до самого конца. Он пишет легко, без усилий, избегая вычурных красот. Элогист, рассказывающий, по существу, те же истории, обнаруживает куда меньшую литературную искушенность». Вы можете сами оценить справедливость этой характеристики, перечитав, например, рассказ «Ягвиста» о сотворении мира и человека. Он начинается со второй половины четвертого стиха 5-й главы книги Бытия («В то время, когда Ягве создал небо и землю…») и кончается 25-м стихом той же главы («И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились»). Совершенно иначе, суше и пространней, повествует о том же вся 1-я глава той же книги и три первых стиха главы 2-й. Забавно, что на переходе между этими двумя рассказами обнаруживается своеобразная «связка», призванная как-то замаскировать повтор (начало четвертого стиха: «Вот происхождения неба и земли, при сотворении их»). Она явно принадлежит тому человеку, который «сшивал» оба повествования воедино. Современные специалисты условно называют его. «редактором» (хотя в этой роли могли, конечно, выступать несколько людей). «Редактор» был, несомненно, выдающимся специалистом своего дела — его сшивки и вставки с первого взгляда почти незаметны, их обнаружение требует кропотливой работы. Занимаясь ею, исследователи библейского текста вскоре обнаружили еще одну странную особенность. Выделив рассказ E, они обнаружили, что внутри него имеются свои дублеты! Текст «Элогиста» оказался, в свою очередь, распадающимся на два различных текста! «Редактор» (или редакторы) явно дополнили рассказ E вставками из какого-то третьего источника. Этот неизвестный источник был выявлен, прежде всего, по его особому содержанию. Хотя автор этого источника тоже именует Бога неизменным словом «Элогим», но его текст отличается от текста «Элогиста» резко повышенным интересом к наставлениям, заповедям, религиозным предписаниям и деталям священнической службы. Эти вопросы он излагает с большой подробностью и какой-то поистине «канцелярской» сухостью. Создается впечатление, что этот автор был священником-левитом. Исследователи, обнаружившие этот третий источник, назвали его поэтому «Жреческим», сокращенно P — от английского слова Priest. Последующий анализ показал, что «Жрецу» принадлежит весьма значительная часть, что раньше считалось принадлежащим «Элогисту», а в сумме, по всем четырем первым книгам Торы, — самый большой объем их текста, превосходящий источники J и собственно E, вместе взятые. Особенно велика доля P в третьей и четвертой книгах — «Ваикра» (в славянском переводе Библии — Левит) и Бэмидбар (Числа). Но источник P обширно представлен также и в первых двух книгах — Бытие и Исход. Здесь ему принадлежат прежде всего генеалогии Адама, Ноя, Авраама и так далее. Эти генеалогии «Жрец» неизменно начинает излюбленным оборотом: «Эле толдот…» («Вот родословие…»). У него есть и другие излюбленные словосочетания и целые фразы. Он, например, предпочитает пользоваться словом «ани» («я») вместо «анохи», которым пользуется источник E. Если «Элогист» называет Месопотамию Арам-Нагараим, то Жрец именует ее Паддан-Арам. Ему же принадлежит знаменитое «пру урву» («плодитесь и размножайтесь»). Тот рассказ о сотворении мира и человека, который занимает всю первую и три начальных стиха второй главы книги Бытия, тоже взят из источника P (а не E, как думали раньше). Это довольно суховатый рассказ, в котором Бог сначала создает животных, а потом людей — мужчину и женщину одновременно. У «Ягвиста» это излагается куда ярче и увлекательней: сначала Бог создает Адама, потом решает, что «нехорошо человеку быть одному», и пытается дать ему «помощника, соответственного ему», создает для этого животных, видит, что «для человека не нашлось помощника, подобного ему», и только тогда решает создать Еву из адамова ребра. «Редактор» почему-то предпочел в данном случае просто изложить оба рассказа по отдельности, соединив их лишь упомянутой выше короткой связкой. В других случаях он обычно «прослаивает» один рассказ кусками второго или третьего. Замечательный пример этого редакторского искусства дает история Потопа. Эта история изложена в книге Бытия, от пятого стиха 6-й главы до двадцать второго стиха 8-й. Она скомбинирована из двух источников. Мы приведем ее здесь частично. Текст одного источника будет приведен без всяких помет, текст другого будет дан в отдельных абзацах и отмечен скобками. Итак: «И увидел Ягве, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Ягве, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем. И сказал Ягве: истреблю с лица Земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Ягве. (Вот родословие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем: Ной ходил перед Элогим. Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Йафета. Но земля растлилась перед лицем Элогим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Элогим на землю… и сказал Элогим Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег… и введи также в ковчег из всякого скота… по паре… И сделал Ной все; как повелел ему Элогим, так он и сделал.) И сказал Ягве Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя Я увидел праведным предо Мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи пар… а из скота нечистого по две… Ной сделал все, что Ягве повелел ему. (Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю.) И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов их в ковчег от вод потопа. (И из птиц чистых и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся на земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Элогим повелел Ною.) Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. (В шестисотый год жизни ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день, разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей). (В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Йафет, сыновья Ноевы, и жена ноева, и три жены сынов его с ними… и все звери земли по роду их… И затворил Элогим за ним ковчег.) И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей… (…Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней.)» Думается, что и приведенного отрывка достаточно, чтобы сложить из двух его версий два отчетливо разных рассказа, каждый со своими подробностями, своими стилевыми особенностями и даже своей хронологией Потопа. Как читатель уже, наверное, догадался, первый рассказ принадлежит «Ягвисту», второй — «Жрецу». Эти два источника чередуются в книге Бытия и дальше. Собственно «Элогист» впервые появляется в ней только начиная с 20-й главы. Но сложности библейского текста не исчерпываются одним лишь наличием и взаимным проникновением этих трех источников. В середине XIX века немецкий ученый де Ветте опубликовал работу, в которой излагалась еще более революционная гипотеза. Детально изучив текстовые и лингвистические особенности пятой книги Торы, «Дварим» (в славянской Библии — Второзаконие), он пришел к выводу, что она резко отличается от первых четырех. В ней почти нет следов трех древнейших источников — J, E и Р, если не считать нескольких фраз в последних главах. Она написана совершенно иным языком. Ее лексика специфична. Ее автор пользуется иными излюбленными оборотами и повторяющимися фразами. Он заново рассказывает многие эпизоды, уже рассказанные в первых четырех книгах. С другой стороны, он во многом противоречит этим книгам. Даже некоторые формулировки Десяти Заповедей у него иные. Де Ветте выдвинул гипотезу, что Второзаконие представляет собой совершенно отдельный — четвертый — источник Торы. Он обозначил его буквой D (от Deuteronomion — названия книги в греческой Библии, что и означает «Второзаконие»). Итак, у Торы оказался не один автор, а целых четыре! Ее первые четыре книги представляют собой переплетение рассказов трех авторов — «Ягвиста» (J), «Элогиста» (Е) и «Жреца» (Р). Ее последняя книга — Дварим, или Второзаконие — написана четвертым автором (который условно обозначается буквой D). Все эти источники были объединены и связаны друг с другом неким «редактором» или несколькими редакторами, жившими намного позднее. Это утверждение, конечно, не является абсолютной истиной. Это всего лишь научная гипотеза. Но она основывается на множестве конкретных фактов и объясняет многие особенности текста ТАНАХа. Для того, чтобы её опровергнуть, нужно предложить другую гипотезу, которая согласовывалась бы с теми же фактами, но давала им другое объяснение. Пока что такую альтернативу не предложил никто. Исследователи, выступающие против «гипотезы четырех источников» (например, Кассуто или Кауфман), оспаривают ее отдельные положения, но не сам факт наличия в Торе нескольких различных рассказов. Однако гипотеза четырех источников далеко не исчерпывает всех проблем происхождения Торы. Она не отвечает на важнейший вопрос: кто был автором каждого из этих источников и когда они были написаны. Подчеркнем это слово — «написаны». Многие величайшие произведения древности имеют устную предысторию. Древнегреческие мифы столетиями передавались из уст в уста, прежде чем были записаны Гесиодом и Овидием. Та же судьба была и у поэмы о Гильгамеше. Можно думать, что рассказы «Ягвиста», «Элогиста» и «Жреца», составившие первые четыре книги Торы, тоже восходили к более древней устной традиции. Сказания о Сотворении мира, первых людях, Потопе, деяниях Праотцев и Исходе из Египта могли передаваться из одного поколения в другое, пока наконец «Ягвист», «Элогист» и «Жрец» не сложили из них связные рассказы — каждый по-своему, но все — об одном и том же. Попытки обнаружить эти древнейшие слои составляют важнейшую часть поисков современных исследователей. На этом пути достигнуты интересные результаты. Многие исследователи, например, склоняются сегодня к мысли, что некоторые элементы этой древней устной традиции могли действительно восходить к Моисею. Одним из таких элементов был, по всей видимости, перечень Десяти Заповедей. Мы поговорим об этих новейших изысканиях позднее. Сейчас нас интересует авторство и время создания Пятикнижия в том виде, в котором оно до нас дошло. Первыми к этому вопросу подступились немецкие исследователи XIX века Граф и Ватке. Граф пытался ответить на него, исходя из логических и хронологических особенностей библейского текста. Если какой-то из источников рассказывает о более поздних событиях, то он, очевидно, создан позже. Ему удалось найти ряд таких «ориентиров». Это позволило ему предложить возможную датировку всех четырех источников. По Графу, самыми древними были E и J; несколько более молодым — D; а самым поздним — P. Ватке, в отличие от Графа, датировал те же источники на основании их религиозных особенностей. Он исходил из представления, что иудаизм развивался от обожествления сил природы в сторону «духовно-этической» религии, а затем превратился в «священнический культ». Отыскав в каждом источнике приметы той или иной стадии такой эволюции, он пришел к выводу, что первыми возникли источники E и J, затем — D и последним — P. Эти работы были обобщены и продолжены крупнейшим библиеведом XIX века Юлиусом Вельхаузеном. В своих «Пролегоменах к истории Израиля» Вельхаузен свел воедино все найденные предшественниками доказательства гипотезы четырех источников и предложил собственный, более детальный и конкретный вариант их датировки. Он выдвинул предположение, что источники J и E сложились в эпоху, непосредственно предшествовавшую царствованию Саула и Давида; D был создан во времена царя Йошиягу, то есть незадолго до разрушения Первого храма; а P — уже после возвращения евреев из Вавилонского плена. Это предположение Вельхаузен подкрепил огромным множеством аргументов, учитывавших всю совокупность тогдашних знаний об истории древних евреев и эволюции их религии. Столь мощное обоснование позволило его теории продержаться несколько десятилетий, вплоть до середины XX века. Но сегодня она представляется во многом устарелой. Новые археологические и исторические данные привели к появлению более детальных и убедительных гипотез. Они реконструируют историю становления Торы, исходя из современных представлений о том мире, в котором она возникла. Эти представления помогают понять, когда и как это происходило. Сказанное означает, что для того, чтобы ответить на вопрос, кто написал ТАНАХ, нужно, прежде всего, отчетливо представить себе мир, его породивший. Попробуем воссоздать этот мир! Конечно, мы не будем пытаться воскресить здесь всю древнееврейскую историю. Ограничимся лишь теми фактами, которые необходимы для нашей цели. После смерти Моисея евреи, руководимые Йегошуа бин-Нуном, вторглись с востока в Ханаан и расселились здесь среди местных племен, отвоевав себе холмистое плоскогорье, тянувшееся с севера на юг, через Шхем и Хеврон. На западе их соседями были владевшие побережьем филистимляне и, чуть севернее, финикийцы; на севере их земли граничили с Сирией, на юге — с Эдомом. Весь этот регион в целом был зажат между двумя тогдашними сверхдержавами — Ассирией и Египтом. Евреи того времени жили в деревнях и небольших городах, занимаясь в основном земледелием и скотоводством, частично — ремеслом и торговлей. Они разделялись на 12 племен, или колен, каждое из которых владело собственной небольшой территорией. Тринадцатым было колено Леви, не имевшее собственного земельного надела, — его члены жили в городах других колен и, по традиции, составляли группу жрецов (или священников). Каждое колено имело собственных лидеров, которые в ту пору именовались «судьями». Во времена военной опасности они часто становились военачальниками своего колена. Кроме священников и судей (часто в одном лице), заметную роль в тогдашнем еврейском обществе играли еще и пророки («невиим»), вещавшие от имени Бога евреев. Этим Богом был Ягве. В некоторых отношениях он напоминал богов соседних с евреями ханаанейских племен. Эти племена были языческими. Пантеон их богов возглавлял Эль — верховный владыка, божество мужского пола. Эль не отождествлялся с какой-либо природной силой — он восседал во главе совета богов и объявлял их решения. Ягве тоже не отождествлялся с природными силами; но он не был и главой божественного пантеона. Его принципиальное отличие состояло в том, что Он был Один и представлял собой скорее Бога истории, которая, по убеждению евреев, развертывалась в соответствии с Его намерениями. Эпоха Судей завершилась во времена Самуила (Шмуэля). Самуил был одновременно судьей, священником и пророком. Он жил в городе Шило, который был тогда главным религиозным центром всех еврейских колен. Здесь хранилась так называемая «Скиния Завета», где находился Ковчег, внутри которого, как утверждала традиция, находились моисеевы скрижали с высеченными на них Десятью Заповедями. Религиозные церемонии в Шило отправляли священники, которые возводили свою родословную к самому Моисею. Во времена Самуила еврейские колена подверглись сильнейшему натиску филистимлян. Отразить этот натиск можно было только объединенными усилиями, и Самуил, уступая «воле народа», провозгласил полководца Саула первым общеизраильским царем. Так эпоха Судей сменилась эпохой Царей. Но израильская монархия не была абсолютной. Власть царя ограничивалась и уравновешивалась авторитетом священников и пророков. Царь нуждался в их поддержке и одобрении, поскольку религия в ту пору не была отделена от государственной власти. Она вообще не была отделена от всей жизни — в тогдашнем иврите еще не было даже особого слова для «религии». Авторитет Самуила был так велик, что когда Саул нарушил его предписания, пророк низложил его от имени Господа и помазал на царство Давида. А Саул вскоре пал в битве с филистимлянами. В отличие от Саула, принадлежавшего к колену Биньямина, Давид был родом из колена Йегуды. Это самое южное из израильских колен владело самой большой территорией, а воцарение Давида еще более усилило его роль. Давид понимал, что это может восстановить против него северные колена. Он не хотел также раздражать священников Шило во главе с Самуилом, которые оказали ему поддержку в борьбе с Саулом. Поэтому он предпринял ряд искусных шагов для упрочения единства своего царства. Он перенес свою столицу из Хеврона, который был главным городом колена Йегуды, в завоеванный у ханаанейского племени иевуситов Иерусалим. Этот город не принадлежал ни одному из колен, и его возвышение не могло никого обидеть. Сюда же он перенес и Ковчег Завета. Вторым шагом Давида было назначение сразу двух главных священников — одного с юга, другого — с севера. Представителем Йегуды был главный священник Хеврона Цадок; интересы северных колен представлял один из жрецов Шило — Авиатар. Заметим, что первосвященники Хеврона вели свою родословную не от Моисея, как жрецы Шило, а от Аарона, его брата. Назначение двух первосвященников было не только данью двум частям Давидова царства, северной и южной, но и своего рода религиозным компромиссом между двумя древними священническими традициями — Моисеевой и Аароновой. Наконец, Давид создал постоянную профессиональную армию, которая подчинялась только ему и делала его независимым от военачальников отдельных колен. С помощью этой армии он добился значительных военных успехов — завоевал Эдом, Моав, Аммон, часть Сирии и подчинил своей гегемонии Филистию. В результате он создал империю, простиравшуюся от Нила до Евфрата. Давид стал родоначальником одной из самых долговечных в истории династий. Евреи настолько привыкли к царям «из рода Давидова», что впоследствии приписали это происхождение даже мессии (а христиане — Христу). Давид вообще занимает особое место в еврейской истории, сравнимое разве что с местом Моисея. ТАНАХ отводит ему почти такой же объем текста. Судя по этому тексту, Давид был действительно выдающейся личностью — замечательным полководцем, мудрым государственным деятелем, талантливым певцом, музыкантом и стихотворцем. Выдающейся личностью был и его преемник Соломон. Но между ними была одна существенная разница. В то время как Давид делал все для объединения своего царства, Соломон посеял семена его распада. Именно этот распад, как считают современные исследователи, как раз. и стал толчком к созданию первых библейских книг. Сейчас мы поймем, кто именно, когда и почему их создал. Длительное правление Соломона (965–928 гг. до н. э.) стало кульминационным пунктом в истории единого древнееврейского государства. Оно оставило глубокий след не только в еврейской памяти. Арабский фольклор тоже до сих пор хранит многочисленные легенды и предания о великом «царе Сулеймане ибн Дауде» (мир с ними обоими!). Но в это же время были заложены предпосылки для распада государства евреев. Этот распад, по мнению современных исследователей, как раз и подготовил почву для возникновения первых книг ТАНАХа. Поэтому поговорим сначала об истории этого времени. Важнейший вклад в изучение политической истории Соломонова царства внес американский библиевед (тогда еще выпускник Гарвардского университета) Барух Гальперин. Его работа была продолжена другим американским еврейским исследователем — Ричардом Фридманом. Результаты их работы, основанные на тщательном изучении библейских источников, а также исторических и археологических материалов, позволяют восстановить детальную картину интересующих нас событий. Мы выберем из них лишь самые необходимые. Соломон продолжил политику централизации монархии, начатую его отцом Давидом. Еще до восшествия на престол ему пришлось выдержать борьбу с одним из старших сыновей Давида Адонией, которого поддерживал первосвященник из Шило Авиатар. На стороне Соломона в этой борьбе был второй Давидов первосвященник — Цадок из Хеврона. Победив Адонию, Соломон изгнал Авиатара из столицы. Вместе с Авиатаром впали в немилость и все другие священники из северных областей царства, которые возводили свою родословную к Моисею. Главной опорой Соломона стали священники из колена Йегуды, потомки Аарона, во главе с Цадоком. Этот передел священнической власти оказал важное влияние на последующие события. Еще более важным шагом на пути к централизации власти было строительство Иерусалимского Храма. Соломон построил его с помощью финикийского царя Хирама. За это он отдал ему двадцать городов в Галилее, то есть северных областей царства. Утрата галилейских городов нанесла еще один удар по интересам северных колен. Еще более серьезным ударом стала для них проведенная Соломоном административная реформа. Вместо древнего деления страны на уделы двенадцати колен Соломон ввел разделение на 12 новых округов, границы которых не совпадали с традиционными уделами. Каждый из этих округов насчитывал около 50–60 тысяч человек и был обложен своей податью, предназначенной на покрытие расходов по строительству Храма. Распределение этих податей было неравномерным: самыми тяжелыми были поборы с северных округов. Кроме того, Соломон впервые ввел систему постоянных налогов или «мисим». Как подсчитал историк Олбрайт, каждый округ в среднем должен был сдавать в царскую казну почти 10 тонн зерна, 900 быков и 3000 овец в год. Но опять-таки, послабления были сделаны для округов, населенных коленами Йегуды и Биньямина, а главная тяжесть налогов легла на северные колена. Эта несправедливость вызвала глухое брожение на севере царства. Свидетельством этого недовольства может служить следующий показательный факт: когда, после смерти Соломона, в северных округах вспыхнуло восстание, первым царским чиновником, которого убили восставшие, был сборщик «мисим». Стоит отметить и другой важный факт: глашатаем восстания был пророк Ахия а-Шилони, представитель униженного царем священничества из Шило. Восстание началось после того, как преемник Соломона Рехаваам отказался отменить повинности, возложенные его отцом на северные колена. Во главе восставших встал Йороваам из колена Эфраима. Как свидетельствует 3-я книга Царств (12:16), восставшие выдвинули лозунг «Нет нам доли в сыне Ишая (то есть у Давида. — Р.Н.) По шатрам своим, Израиль!» Результатом восстания было отпадение десяти северных колен от царства Давида — Соломона и образование ими особого, северного — Израильского — царства, на власть в котором Ахия помазал Йороваама. Власть Рехаваама оказалась ограниченной наделами колен Иуды и Биньямина, которые с этого времени стали называться Иудейским царством. Израиль был многолюднее Иудеи, но его население не было однородным: значительную его часть составляли ханаанские племена. Их религия была языческой, пантеон их богов — Элогим возглавлял Баал, сын Илу, родоначальника Элогим, и под влиянием хананеян поклонение Баалу, а также другие языческие обряды широко распространились также среди еврейского населения Израильского царства — куда шире, чем в Иудее, где монотеистическая вера в Ягве не имела таких примесей язычества. Эта политическая и религиозная неоднородность Израиля создавала неустойчивое положение, и Йороваам поспешил укрепить свою власть — как среди евреев, так и среди хананеян. Он провозгласил столицей царства город Шхем (во многом еще ханаанейский) и стал утверждать собственный вариант иудаизма, в котором традиционный для евреев культ Ягве сочетался с некоторыми чертами ханаанейских Элогим. Для этого Йороваам создал новые религиозные центры, установил новые даты праздников, назначил новых священников и ввел новые религиозные символы. Эта своеобразная, «израильская» версия общееврейской религии вводилась им, в частности, еще и для того, чтобы подданные его не должны были отправляться на праздники в Иерусалимский Храм — в царство Рехаваама. Новые религиозные центры были продуманно построены на северной и южной границах царства — в еврейском городе Дан и в ханаанейском (судя по названию) городе Бейт-Эль. Дата праздника Суккот была перенесена на месяц позже, чем в Иудее (что, кстати, опять же соответствовало древней северной традиции). И если в Иерусалимском Храме подножьем для незримо присутствующего в «святая святых» Ягве служили два позолоченных херувима (в виде четвероногих животных с человеческой головой и птичьими крыльями), то в храмах Бейт-Эля и Дана Господь незримо опирался на двух отлитых из золота молодых быков («тельцов»). Заметим, что это был также жест в сторону ханаанейских подданных Йороваама — их Эль-Баал обычно изображался в виде молодого бычка. Создавая для себя опору в виде новой религиозной знати, Йороваам руководствовался принципом «политических назначений» — он отобрал новых священников из лично преданных ему людей, а не из левитов Шило, считавших себя потомками Моисея. Эти левиты, из среды которых вышли такие люди, как Самуил, Авиатар и Ахия, помазавший Йороваама на царство, могли ожидать награды за свои заслуги перед Израилем; оттесненные в сторону новыми «назначенцами» царя, они, несомненно, ощутили себя жестоко ущемленными. Запомним и эту деталь — она нам вскоре пригодится. Пока же заключим: несмотря на все усилия Йороваама его царство осталось нестабильным. Ни одна из царских династий Израиля не продержалась дольше двух-трех поколений. Да и само Израильское царство просуществовало не более 200 лет. В 722 году до новой эры оно было разгромлено и покорено Ассирией. 23 тысячи человек были уведены в плен; остальные рассеялись; многие бежали в соседнюю Иудею. 10 северных колен прекратили свое существование. Иудейское царство продержалось еще свыше ста лет, непрерывно управлямое потомками Давида. Но в 586 году до н. э. пало и оно — на сей раз под натиском вавилонян. А теперь вернемся к созданию ТАНАХа. Сквозь первые четыре книги Торы (мы уже об этом говорили) струятся, то переплетаясь, то расходясь, два повествовательных потока — два рассказа, выдающие свои отличия многочисленными повторами, противоречиями и разночтениями. Они рассказывают об одних и тех же событиях: Сотворении Мира, первом Человеке и его сыновьях, о поколении Ноя и Потопе, о Праотцах и египетском рабстве, о Моисее, Исходе из рабства и даровании Торы — и это свидетельствует о наличии в их основе общей древней традиции, принадлежащей одному народу. Но каждый рассказ повествует об этих событиях несколько иначе, и эти различия оказываются устойчивыми сквозными приметами, позволяющими отделить один рассказ от другого. Главным таким различием обычно считают наименование Бога. Так, в одном лишь рассказе о сотворении мира одна версия 35 раз называет Бога словом «Элогим» — и ни разу не употребляет слово «Ягве»; другая 11 раз употребляет для этого слова «Ягве Господь» — и ни разу не прибегает к слову «Элогим». На этом основании эти рассказы приписываются двум разным авторам — «Элогисту» (Т) и «Ягвисту» (J). Но само по себе это обстоятельство еще не является решающим — современный израильский автор вполне мог бы в одних местах своей хроники нынешних событий называть премьера «Нетаниягу», а в других — «Биби». Однако две упомянутые версии Торы имеют и множество других отличий, не менее, а может быть, даже более показательных. В том же рассказе о Сотворении Мира одна версия перечисляет такой порядок создания живых существ: растения; животные; человек (мужчина и женщина), тогда как вторая утверждает, что порядок был иной: человек (мужчина); растения; животные; человек (женщина). Одна версия утверждает, что Ной взял в ковчег по паре всех живых существ, а другая говорит, что «чистых» существ было взято по семь пар. Одна версия различает между «чистыми» и «нечистыми» (непригодными для жертвы) животными; другая такого различия не проводит. Одна рассказывает, что Ной отправил на поиск суши ворона, другая называет голубя. В одной потоп продолжается год, в другой 40 дней и ночей. (Дж. Фрезер в своей книге «Фольклор в Ветхом Завете» уточняет, что в «Ягвистской» версии потоп продолжается 61 день, так как после прекращения ливней Ной проводит в ковчеге еще три недели, пока «земля не обсохла»; в версии же «Элогиста» рассказ о потопе, обработанный более поздним «Жрецом», утверждает, что наводнение и обсыхание суши длились 12 лунных месяцев и еще 10 дней, то есть в сумме 364 дня, что и составляет почти полный солнечный год; это многозначительное прибавление к лунному году 10 дней для получения солнечного свидетельствует, что во времена «Жреца» древние евреи уже научились исправлять ошибку лунного календаря, наблюдая за Солнцем.) Этот перечень можно было бы продолжать еще долго. Но главное уже очевидно. Оба рассказа не только различны, но и целостны в своем различии: каждый из них представляет собой не только обособленное, но и полное повествование, со своим наименованием и своей концепцией Бога, своими деталями, своим порядком событий и своей хронологией. В то же время, как уже сказано, оба они, вне всякого сомнения, принадлежат одному народу, древняя традиция которого сохранила общие воспоминания, общие легенды и сказания, общий тип религии и общий характер Закона. Таким образом, перед нами не столько два совершенно различных рассказа, сколько именно две версии единого национального эпоса. Напрашивается гипотеза, что они были созданы в двух частях одной и той же страны, населенной одним и тем же народом, сохранившим общую традицию, но разделенным обстоятельствами жизни и потому создавшим две версии одной и той же религии. И мы знаем, что в истории еврейского народа действительно был такой период, когда его земля была разделена на два царства, в каждом из которых создавалась и пестовалась своя, особая версия общенациональной религии, и если в одном из этих царств, Иудейском, строго сохранялся культ Ягве, централизованный в его столичном храме, то в другом, Израильском, этот культ был «разбавлен» заимствованиями из ханаанейского, язычески-антропоморфного культа Элогим. Поэтому наша гипотеза (разумеется, не наша собственная: она была впервые робко высказана уже первыми библиеведами, а впоследствии развита и обоснована современными исследователями), в сущности, сводится к предположению, что рассказ Ягвиста (или источник J) был создан в южном, или Иудейском, царстве, а рассказ Элогиста (или источник Т) — в северном, Израильском; объединение же этих версий в единый канонический текст Торы произошло, по всей видимости, в те времена, когда на территории древней Эрец-Исраэль оставалось уже только одно из этих царств (как известно, то была Иудея), то есть в период между завоеванием Израиля ассирийцами и захватом Иудеи вавилонянами. Сейчас мы увидим, что текст Торы подтверждает эту историческую гипотезу. Более того, текст этот дает возможность уточнить и время своего создания. В чем же состоят эти текстуальные подтверждения? Первым из них является различие некоторых географических особенностей. В рассказах «Ягвиста» праотец Авраам неизменно связывается с Хевроном. Хеврон был главным городом колена Йегуды, столицей Давида до завоевания Иерусалима, родиной первого главного священника Иудейского царства Цадока. Заключая завет с Авраамом, Бог (в данном случае Ягве) обещает его потомкам «землю от реки Египетской… до реки Евфрат» — а это именно те границы, до которых раздвинул свои владения Давид, основатель правящей династии Иудейского царства. Зато рассказ о том, как Некто (то ли сам Бог, то ли его ангел) боролся с праотцом Яаковом, благословил его и дал имя «Израиль», мы находим только у «Элогиста», как и должно быть, если этот источник родом из Израильского царства. В этом же источнике говорится, что «нарек Яаков имя месту тому: Пну-Эль, ибо, говорил он, я видел Элогим лицом к лицу» (Бытие 32:30); а Пну-Эль — это город, построенный Йероваамом в Израиле. Оба источника рассказывают о городе Шхеме (который Йороваам сделал столицей Израиля). При этом «Элогист» излагает историю его приобретения евреями следующим образом (Бытие 33:18–20): «Яаков, возвратившись из Месопотамии… пришел в город Шхем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, да котором раскинул шатер свой, у сынов Хамора, отца Шхемова, за сто монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Элогим». Напротив, «Ягвист» (рассказ которого начинается уже в следующем стихе) излагает ту же историю куда драматичнее и жестче (Бытие 34:1–31): «Шхем, сын Хамора, обесчестил дочь Яакова Дину и предложил жениться на ней, а сыны Яакова потребовали от него и всех шхемцев совершить обрезание и, воспользовавшись их недомоганием после операции, перебили их всех до единого и таким образом захватили этот город силой». Заметим, что инициаторами побоища были Шимон и Леви. Это тотчас отражается в еще одной — и принципиально важной для нас — особенности рассказа «Ягвиста». Речь идет о т. н. «пророческом благословении» Яакова своим сыновьям и внукам. Как известно, после завоевания Ханаана евреи расселились в нем двенадцатью коленами. Каждое из них выводило свою родословную от одного из потомков праотца Яакова. В рассказах Торы о рождении этих потомков, как правило, произносится благодарность Богу. В рассказе «Ягвиста» эта благодарность адресуется Ягве, в рассказе «Элогиста» — Элогим. Эпизоды Торы, в которых таким «адресатом» является Элогим, рассказывают о рождении Дана, Нафтали, Гада, Ашера, Иссахара, Звулона, Биньямина, Менаше и Эфраима (двое последних — сыновья Иосифа). Иными словами, вся группа «Элогим» называет имена лишь тех колен, которые составляли Израильское царство. Напротив, в рассказах, где воздается благодарность Ягве, говорится только о рождении Реувена, Шимона, Леви и Йегуды. Трое первых не получили собственных наделов (мы сейчас увидим, почему), причем колено Леви (левиты) рассеялось среди наделенных землею колен, и поэтому единственным сыном, получившим свою территорию, у «Ягвиста» оказывается Йегуда как и следует ожидать от источника, составленного в Иудейском царстве. Но «Ягвист» идет еще дальше: он пытается обосновать особую выделенность колена Йегуды. Такому обоснованию в тексте «Ягвиста» посвящен специальный эпизод (которого нет у «Элогиста»!) — уже упомянутое «пророческое благословение» Яакова. По древним обычаям, придававшим особое значение очередности рождения (вспомним борьбу за «первородство» между Ицхаком и Эсавом), наибольшую часть отцовского наследия (главное благословение) должен получить первый сын. Первенцем Яакова был Реувен. Но у «Ягвиста» Яаков на смертном одре говорит (Бытие 49:3–4): «Реувен, первенец мой!., ты… не будешь преимуществовать, ибо ты вошел на ложе отца твоего; ты осквернил постель мою» (иными словами, Реувен переспал с какой-то из отцовских наложниц). Казалось бы, теперь главное благословение должно перейти ко второму и третьему сыновьям: Шимону и Леви. Но «Ягвист» и этим сыновьям отказывает в таком преимуществе перед Йегудой; его Яаков продолжает (Бытие 49:5–7): «Шимон и Леви братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не внимет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа… проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа; разделю их… и рассею…» Иначе говоря, Шимон и Леви не получают наделов, потому что устроили побоище в Шхеме. В результате единственным (у «Ягвиста») достойным отцовского благословения остается Йегуда, и о нем Яаков у этого автора произносит знаменательные слова (Бытие 49:8): «Йегуда! тебя восхвалят братья твои… поклонятся тебе сыны отца твоего», что как раз и означает, в сущности, что все прочие потомки Яакова должны подчиниться главенству Йегуды, прародителя Давида и его династии, правившей в Иудейском царстве. Более того, «Ягвист» уже знает не только о воцарении этой династии, но и о ее будущем — далее Яаков говорит (Бытие 49:10): «Не отойдет скипетр от Йегуды и законодатель от чресл его…» (Этим «законодателем», скорее всего, является не сам Давид, а его преемник Соломон; как мы видели, именно он установил новое религиозное и административное законодательство). Итак, у «Ягвиста» первородство получает Йегуда — как и можно ожидать от автора, который выражает версию, сложившуюся в Иудее. Кто же получает первородство у «Элогиста»? В Торе рассказу «Ягвиста» о «пророческом благословении Яакова» (изложенному выше) предшествует рассказ о последних днях Яакова (Бытие 48:1–22), в котором Бог именуется только словом «Элогим». Рассказ этот, следовательно, принадлежит «Элогисту» — это его, «израильская», версия того же «благословения Яакова». Она решительно отличается от «иудейской» версии «Ягвиста». «Элогист» рассказывает, что к умирающему Яакову прибыл Иосиф со своими сыновьями Менаше и Биньямином, «и сказал Яаков Иосифу: Элогим явился мне в Лузе… и благословил меня и сказал: «…дам землю сию потомству твоему…» И ныне два сына твои, родившиеся в земле Египетской, мои они, Эфраим и Менаше, как Реувен и Шимон, будут мои… Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе…» Это поразительное благословение. По сути, «Элогист» утверждает, что Яаков приравнял Эфраима к Реувену, то есть к своему первенцу, и отдал ему удел Реувена. «Элогист» не просто сообщает об этом — опасаясь, что не все поймут его скрытый намек, он подчеркивает этот намек еще одной любопытной деталью, которую можно понять лишь в контексте самого намека: «И взял Иосиф Эфраима в правую руку свою против левой Израиля (т. е. Яакова. — Р.Н.), а Менаше в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Эфраима, хотя сей был меньший…» Иосиф, как бы говорит «Элогист», хотел, чтобы главное благословение деда получил, как и положено, первенец Менаше, но Яаков, в нарушение традиционного порядка, нарочно переменил руки и первым благословил Эфраима, тем самым именно ему отдав первородство Реувена; Иосиф пытался протестовать, но Яаков настоял на своем, сославшись на волю Элогим. По «Элогисту», таким образом, главным из еврейских колен является колено Эфраима. Теперь остается лишь напомнить, что колено Эфраима было родовым племенем ИЗРАИЛЬСКОГО царя Йороваама, и Шхем, столица ИЗРАИЛЬСКОГО царства, был расположен на холмах, находившихся в традиционном наделе этого же колена. Тот факт, что отец Эфраима, Иосиф, завещал похоронить себя в том же Шхеме, в уделе сына, думается, известен всем читателям. Упомянем поэтому только изящный — и полный смысла — каламбур, содержащийся в самом конце этого текста, где Яаков говорит через Иосифа его детям (Бытие 48:22): «Я даю тебе, преимущественно пред братьями твоими, один участок…» Этот каламбур совершенно исчезает в русском переводе Библии: в ивритском тексте («Берешит», мем-хет: кав-бет) здесь стоит: «…вэ-ани натати леха ШХЕМ ахад аль-ахиха…» «Шхем» здесь — и «преимущество» (от глагола «леашхим» — опережать), и название все той же израильской столицы. Все эти красноречивые разночтения убедительно свидетельствуют в пользу северного (израильского) происхождения «Элогиста» и южного (иудейского) происхождения «Ягвиста». К ним можно было бы добавить и другие примеры. У «Элогиста» самым главным и самым верным учеником Моисея является Йегошуа бин-Нун — из колена Эфраима; у «Ягвиста» единственным (из двенадцати посланных в Ханаан соглядатаев), который поощряет к походу, является Калев — из колена Йегуды, родоначальник будущих Калевитов, чьи земли в Иудее включали позднее город Хеврон. Каждый из двух этих авторов явно опирается на древние сказания, наиболее популярные в его земле, каждый стремится подчеркнуть заслуги и превосходство легендарных героев именно этой земли, каждый превозносит то племя (колено), которое дало начало правящей династии именно этого, а не другого царства. Иными словами, каждый из них отражает традицию одной из двух племенных групп, двух частей единой нации, на которые распался еврейский народ после возникновения Израильского и Иудейского царств. Одновременно каждый из авторов отражает политическую, социальную и религиозно-культовую реальность того царства, в котором он жил. Еще более пристальное чтение их рассказов дает нам возможность проникнуть в скрытые пласты той далекой реальности и понять, какие причины побудили обоих авторов к созданию этих текстов — со всеми теми знаменательными разночтениями, которые мы отметили выше. Такое чтение позволяет также обнаружить многозначительные и характерные черты самих рассказчиков и тем самым ощутить, в чем состояло их индивидуальное различие. Мы увидим все это, как только обратимся непосредственно к тексту. Гипотеза о том, что рассказ Пятикнижия, именующий Бога словом «Элогим», был составлен и записан в Израильском царстве, а рассказ «Ягвиста» — в Иудейском, выдвинута достаточно давно. Тогда же были предложены и те первые соображения в ее пользу, которые мы привели в предыдущей главе нашего сериала. В последние годы эти соображения были серьезно подкреплены уже упоминавшимся нами американским исследователем Ричардом Фридманом. Замечания Фридмана чрезвычайно любопытны и стоят отдельного рассказа. Они позволяют конкретизировать высказанную выше гипотезу. Свои рассуждения Фридман начинает с анализа загадочных особенностей «элогистского» рассказа о так называемом «золотом тельце». Рассказ этот выглядит у «Элогиста» следующим образом. Пока Моисей находился на горе Синай (получая от Бога начертанные им на скрижалях законы и заповеди), оставшийся внизу первосвященник Аарон собрал у людей золотые украшения и сделал из них «литого тельца». «И сказали люди: вот Элогим твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской». Аарон же провозгласил: «Завтра праздник Ягве». Назавтра действительно состоялся бурный праздник, в разгар которого в лагерь спустился Моисей. Его встретил верный Йегошуа Бин-Нун, который предупредил вождя, что в «стане слышен военный крик». Увидев, что евреи вернулись к идолопоклонству, Моисей в гневе разбил скрижали, уничтожил тельца и собрал вокруг себя колено Леви. Левиты организовали в лагере кровавую «чистку», в ходе которой было уничтожено около трех тысяч человек. Моисей же, со своей стороны, умолил благосклонного к нему Бога не губить «жестоковыйный» народ Израиля. Этот рассказ вызывает ряд вопросов. Почему народ впадает в ересь как раз в момент своего освобождения? Почему инициатором этой ереси оказывается Аарон — ведь он первосвященник Господа? Почему они называют золотого тельца «Элогим», а Аарон говорит о «празднике Ягве»? Почему на роль орудия наказания еретиков выбраны левиты? Почему Йегошуа Бин-Нун упоминается среди тех, кто не поддался ереси? Фридман предлагает убедительное объяснение всех этих загадок. Оно кажется тем более убедительным, что не требует никаких дополнительных гипотез, кроме той, что «Элогист» жил и писал в Израильском царстве. Действительно, вспомним особенности становления этого царства (о них тоже было рассказано в предыдущей главе). Основатель царства, Йороваам сразу же начал утверждать собственную версию культа Ягве. И первым же его шагом, сразу после освобождения от власти Иерусалима, было как раз создание двух храмов, в Дане и Бейт-Эле, в каждом из которых Бог (Элогим) незримо восседал на двух отлитых из золота «тельцах» (молодых быках). Таким образом, рассказ о «золотом тельце» в «элогистской» версии книги Исхода несет в себе все черты того, что в действительности происходило в Израильском царстве: сразу же после освобождения (от власти потомков Соломона) народ впал в религиозную ересь. Рассказ «Элогиста» о золотом тельце в действительности является замаскированным осуждением этой ереси. Автор этого рассказа искусно использовал одну из традиционных легенд своего народа, чтобы выразить свое отношение к религиозной реформе Йороваама. Понятно, что таким автором мог быть, скорее всего, человек, которого живо интересовало то, что происходило именно в Израильском царстве. Этот специфический интерес обнаруживается и во многих других местах «элогистского», текста. Мы уже рассказывали о том, как настойчиво «Элогист» подчеркивает роль колена Эфраима, к которому принадлежала правившая в Израильском царстве династия, как часто он упоминает Шхем, который был столицей этого царства (и находился на территории того же колена Эфраима), как много внимания уделяет Иосифу, отцу Эфраима, похороненному в том же Шхеме, как подробно описывает передачу Яаковом «первородства» от Реувена к Эфраиму, с какой ненавистью относится к введенным Соломоном налогам («мисим»), особенно сильно ударившим именно по коленам, составившим впоследствии Израильское царство. Теперь к этому перечню добавляется и благосклонное упоминание Йегошуа Бин-Нуна в рассказе «Элогиста» о золотом тельце — ведь Йегошуа тоже был родом из колена Эфраима и его могила тоже находилась в Шхеме! Все это вместе окончательно убеждает, что автором «элогистского» текста, скорее всего, действительно был житель Израильского царства. Нельзя ли его опознать? Фридман утверждает, что это отчасти возможно. Он выдвигает предположение, что этим автором был один из левитов города Шило — прежней (до Иерусалима) религиозной столицы еврейских колен. И вот как он это доказывает. При царе Давиде жрецы Шило чрезвычайно возвысились — из их круга вышел пророк Самуил, помазавший Давида в противовес Саулу; из их числа был и Авиатар, объявленный Давидом вторым иерусалимским первосвященником (наравне с Цадоком из Давидова Хеврона). При Соломоне, однако, жрецы Шило получили сильный удар: Авиатар был смещен со своего поста и изгнан из Иерусалима, и в результате левиты Шило потеряли свои места в иерусалимском Храме. Неудивительно, что они стали поддерживать сепаратистские стремления Йороваама — напомним, что инициатором восстания северных колен под руководством Йороваама был жрец из Шило, пророк Ахия. Сыграв такую роль в создании независимого Израильского царства, левиты Шило, несомненно, рассчитывали на благодарность Йороваама, но они ее не получили. Напротив, Йороваам перенес религиозный центр своего царства в Дан и Бейт-Эль, создал там новые храмы (с золотыми тельцами как подножьями незримого бога), а жрецами в этих храмах назначил не левитов Шило, а «лично знакомых ему» людей. Как было не намекнуть царю и народу на несправедливость такой политики? Как было не напомнить о заслугах левитов Шило? Как было не осудить религиозные реформы Йороваама, пусть и в замаскированной форме рассказа о золотом тельце? Более того, намекая современникам, о чем в действительности этот рассказ, автор ввел в него (для облегчения расшифровки) прямую цитату из речи Йороваама. Загадочная фраза поклонников золотого тельца «Это Элогим твой, Израиль» дословно повторяет слова Йороваама в Первой книге Царств, произнесенные им в момент освящения золотых тельцов Дана и Бейт-Эля. Но «Элогист» преследует своим рассказом и другие, уже чисто клановые цели. В этом рассказе снова и снова прославляется Моисей, спасший народ от гнева Господня, — а ведь левиты Шило вели свою родословную именно от Моисея. Есть в нем и другие примечательные детали. Как мы помним, инициатором ереси у «Элогиста» оказывается Аарон. На первый взгляд, странно, что главным еретиком объявляется первосвященник. Но если вспомнить, что левиты Шило наверняка ненавидели иерусалимского первосвященника Цадока, в пользу которого Соломон изгнал «их» Авиатара, а Цадок (как и другие левиты Хеврона) вел свою родословную от Аарона, то все становится на свои места: приписав Аарону зарождение ереси, «Элогист» заодно свел давние счеты со своими конкурентами из иудейского Иерусалима. Напротив, в той версии тех же синайских событий, которую излагает «Ягвист», нет ни слова о неприглядных поступках Аарона. Более того, у него вообще нет истории с золотым тельцом. Зато у него мы находим неприкрытый выпад против жрецов из Израильского царства — его вариант одной из главных заповедей гласит: «Не делайте себе богов литых» (Исход 34:17) — а ведь именно литые «боги» (точнее — подножья Бога) стояли в храмах Дана и Бейт-Эля. (У «Элогиста» та же заповедь звучит иначе: «Не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых» (Исход 20:23), что обращено не только против Йороваама, но и против Соломона, в Храме которого служившие аналогичными подножьями Бога херувимы были хотя и не «литыми», но позолоченными.) Эта религиозная распря вообще является одной из главных линий различия между двумя источниками. «Ягвист», например, превозносит важность Ковчега Завета, который был центральным и самым священным объектом Иерусалимского Храма, но даже не упоминает о Скинии Завета, сооруженной Моисеем; «Элогист», напротив, совершенно не упоминает о Ковчеге, зато подробно описывает устройство Скинии, перенесенной из Синая в Шило. «Ягвист» всячески превозносит Аарона; «Элогист» продолжает свои нападки на него, рассказывая в 12-й главе Книги Чисел историю о том, как Аарон и его сестра Мириам упрекали Моисея за то, что он взял себе в жены «Эфиоплянку», и как Господь разгневался за это на них и даже наказывает Мириам временной проказой (у «Ягвиста», понятно, нет и следов этого эпизода). «Ягвист» сообщает, что Бог сказал Моисею: «Я… иду вывести [народ мой] из земли сей [из Египта]» (Исход 3:8), тогда как у «Элогиста» Господь освобождает народ не сам, а поручает это Моисею: «Итак, пойди… и выведи из Египта народ мой» (Исход 3:10). Это разное отношение обоих авторов к Моисею и Аарону проявляется и еще в одном важном эпизоде — встрече Моисея с Богом у «несгораемого тернового куста», когда Бог открыл Моисею свое Имя. До сих пор мы для простоты говорили, что двух наших авторов отличают прежде всего различные наименования Бога, поэтому они так и называются: «Ягвист» и «Элогист». На самом деле это не вполне точно. В рассказе «Ягвиста» имя Ягве действительно проходит через весь текст от начала до конца. Но у «Элогиста» Бог называется «Элогим» только до Его встречи с Моисеем. А во время этой встречи, говорит «Элогист» (Исход 3:13–14): ««…сказал Моисей Элогим: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Элогим отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «Как Ему имя?» Что сказать мне им? И сказал Элогим: Я есмь Сущий /Ягве/» — или, на иврите, «эхье ашер эхье» («Я есть [пребуду], кто Я есть [пребуду]»). И далее: «Так скажи сынам Израилевым: Ягве [ «эхье»] Элогим послал меня к вам». С этого момента и далее Бог в рассказе «Элогиста» именуется Ягве-Элогим (или даже просто Ягве, как, например, в рассказе о золотом тельце, когда Аарон сразу же после «людей», только что называвших тельца словом «Элогим», говорит, указывая на того же тельца: «Завтра праздник Ягве». Этой постепенной смены имен еврейского Бога — Элогим, затем Ягве-Элогим и, наконец, просто Ягве — нет у «Ягвиста». У него вообще нет истории открытия Богом своего Имени Моисею. Как мы уже сказали, «Ягвист» не очень жалует Моисея. Если бы в нашем распоряжении была только его версия, роль Моисея в еврейской истории, возможно, вообще выглядела бы совершенно иначе. Для «Элогиста», напротив, Моисей — центральный персонаж этой истории. Бог к нему благосклонен больше, чем к кому-либо другому, включая Аарона, Бог посылает его вывести евреев из Египта, Бог именно ему открывает свое Имя. «Элогисту» важно подчеркнуть, что только со времен Моисея евреи узнали настоящее имя Господа. Но он допускает, что до этого времени Бога называли Элогим. Иными словами, он снова отдает дань традиции Израильского царства, где многие евреи под влиянием местных ханаанейцев поклонялись одновременно Ягве и Баалу (даже царь Йороваам, как мы видели, поставил у подножия Ягве «литых тельцов», то есть молодых быков, которые в ханаанской мифологии были символами Баала). «Ягвист», как мы видели, не знает всех этих уступок — для него Ягве есть Ягве, и свое Имя он впервые открыл евреям не через Моисея, а еще через праотца Авраама. Знаменательно, однако, что оба автора, в конечном счете, одинаково преданны одному и тому же Богу — еврейскому Ягве. Это говорит об их глубоком религиозном сходстве. Оба одинаково нетерпимы к ереси идолопоклонства и отступления от монотеизма, В сущности, их религиозные различия состоят лишь в том, что один старается возвысить Моисея и исподтишка бросить тень на Аарона, тогда как другой довольно мало и сухо говорит о Моисее, но Аарона в обиду дать не хочет; один осуждает иерусалимских золоченых херувимов, а другой — израильских «литых богов». Каждый использует для этого общую древнюю традицию, выбирая из нее удобные для его целей детали и опуская неудобные; но важнейшие, основополагающие элементы этой традиции (сотворение мира, потоп, история праотцев, исход из Египта) сохраняют оба. Особенно тщательно оба сохраняют — и особенно детально излагают — все, что относится к закону и заповедям. Это позволяет думать, что оба они — из сословия жрецов. И если верно предположение, что «Элогистом» был человек из Израильского царства, жрец из города Шило, считавший себя потомком Моисея, то следует, видимо, по аналогии предположить, что «Ягвистом» был (судя по всему, что мы теперь о нем знаем) человек из Иудейского царства, священник из рода хевронских жрецов, которые вели свою родословную от Аарона. Два левита — случайно ли это? Некоторые исследователи предлагают этому факту любопытное объяснение. Они выдвигают предположение, что основная масса еврейских колен так и осталась в Ханаане со времен праотцев, а в Египет ушло и там попало в рабство только колено Леви. Они основывают это предположение на том, что именно среди этого колена часто встречаются египетские имена типа Моше, Хофни и т. п. Возможно, они-то и создали культ Ягве и стали его истовыми поклонниками. Когда эти левиты вышли из Египта и, ведомые Моисеем и Аароном, устремились в Ханаан, то здесь они встретились со своими сородичами — поклонниками Элогим, уже поделившими между собой всю землю. В компенсацию за отсутствие территории они были сделаны жреческим сословием и в этом качестве стали утверждать среди остальных еврейских колен свой культ Ягве и его бескомпромиссно-суровый монотеизм. Это предположение подкрепляет выдвинутую выше гипотезу о том, что авторами первых записанных текстов Пятикнижия были, скорее всего, два Священника-левита, один («Ягвист») — из южного Иудейского царства, другой («Элогист») — из северного Израильского. В свою очередь, такая гипотеза объясняет, как мы видели, причину и характер сходств и различий обоих текстов. Но ни это предположение, ни упомянутая гипотеза еще не дают нам ответа на вопрос о том, когда жили эти люди. Кто из них был первым по времени автором, а кто вторым? Кто и когда объединил их тексты? Зачем это было сделано? И почему именно так, как мы сейчас видим, а не иначе? Чтобы ответить и на эти вопросы, нужно проделать еще один виток историко-детективного расследования. Поскольку Израильское царство было разрушено уже в 722 г. до н. э., «Элогист» жил, по-видимому, раньше этой даты. Его очевидный гнев против Йороваама как будто свидетельствует о том, что он писал во времена этого царя или вскоре после него, когда воспоминания о религиозных реформах Йороваама и разочарование в нем были еще свежи среди левитов Шило. Текст «Ягвиста» тоже не мог быть написан позже 722 г. до н. э. — в нем рассказывается о рассеянии колен Шимона и Леви, но ни словом не упоминается о таком важнейшем для евреев Иудейского царства событии, как падение соседнего Израильского царства и уведение в плен десяти северных колен. С другой стороны, в нем имеются нападки на религиозные реформы Йороваама («литые боги»); стало быть, автор уже знал об этих реформах, то есть жил после образования независимого Израильского царства, иными словами — позже 922 г. до н. э. Этот промежуток можно сузить, если обратить внимание на тот факт, что в рассказе «Ягвиста» излагается история Яакова и Эсава, причем последний назван родоначальником эдомитов. Эдом отделился от Иудеи и стал независимым Эдемским царством только при потомке Соломона, иудейском царе Иероаме, который правил между 848 и 842 гг. до н. э., и, стало быть, создание текста «Ягвиста» можно отнести к промежутку 848–722 гг. до н. э. Текст «Элогиста» датировать точнее невозможно — для этого в нем пока не найдено никаких дополнительных примет. Время его написания остается в промежутке между 922 г. до н. э. (когда распалось царство Соломона) и 722-м, когда пало Израильское царство. Существенно, что оба рассказа, при всех своих различиях, основаны на одних и тех же традициях (культ Ягве), упоминают, в общем-то, одни и те же события израильского прошлого (сотворение мира, потоп, приход евреев в Ханаан, исход из Египта) и повествуют об одних и тех же героях (праотцы, Иосиф, Моисей, Аарон). Это неудивительно. Оба они были созданы представителями одного и того же еврейского народа, говорившего на общем языке (иврите), поклонявшегося одному Богу (Ягве) и имевшего общие религиозные традиции и исторические воспоминания. Разной была лишь та окраска, которую придал всему этому каждый из авторов, его трактовка, расставленные им акценты. Кто из них был первым? Быть может, после распада единого царства в каждом из них, независимо друг от друга, возникла потребность создать свою национальную версию священной еврейской истории, связав ее с задачами возвеличения своего царства и принижения другого (а в случае «Элогиста» — еще и критикой своего царя). Но могло быть и так, что кто-то из них написал свой текст раньше, и этот текст, попав в руки другого (царства-то были соседями), побудил его ответить собственной версией. Можно было бы задаться и еще более трудным вопросом: а нельзя ли определить пол каждого автора? Исследователи задумывались и над этим. Относительно «Элогиста» они почти сразу пришли к выводу, что это наверняка был мужчина, потому что он, скорее всего, был жрецом из Шило, а жрецы в древнем Израиле были исключительно мужчинами. К тому же и вся тональность, вся авторская позиция этого текста выдает «мужской» взгляд. С «Ягвистом» дело обстоит сложнее. Не так давно известный американский историк Гарольд Блюм опубликовал работу под названием «Книга J», где утверждает, что создателем этой «Книги», то есть «Ягвистского» текста, была женщина — по его мнению, одна из дочерей царя Соломона (ибо только при царском дворе могли быть женщины с достаточным образованием и правами). Блюм подкрепляет свою гипотезу детальным стилистическим анализом текста, обнаруживая в нем «свойственную женщинам более тонкую иронию» и другие «женские» признаки. Более того, он предполагает, что этот «женский» текст был создан в ходе придворного «литературного соревнования» с аристократами-мужчинами, один из которых изложил те же события в своей, «мужской» версии — что и привело, по Блюму, к появлению текста «Элогиста». Доказательства Блюма не показались мне убедительными; его гипотеза о «шутливом соревновании» двух авторов представляется довольно несерьезной, ибо проходит «поверх» всех перечисленных выше (и куда более убедительных) примет принадлежности «Элогиста» к Израильскому царству, игнорируя те серьезные задачи и религиозные цели, которые его воодушевляли. Ричард Фридман, не присоединяясь к этой гипотезе, тоже не исключает, однако, что автором «Ягвистского» текста могла быть женщина: по его мнению, те симпатии к женской доле, которые «Ягвист» выражает в своем рассказе о Фамари, были бы свойственны скорее женщине, чем суровому древнееврейскому мужчине. Добавим, что некоторые исследователи Полагают, что у этих двух рассказов могло быть больше двух авторов. Они выделяют в этих текстах ряд отрывков, которые, по их мнению, принадлежат разным лицам, и говорят на этом основании о целой «школе Ягвиста» и «школе Элогиста». Но и эти гипотезы выглядят недостаточно убедительными, поэтому мы не будем на них останавливаться. Куда важнее напомнить в заключение, что оба эти текста являются, как мы знаем, частью целого — кто-то третий (или третьи) свел их воедино в текст Пятикнижия. Что руководило этими редакторами? Кем они были? Когда жили? Об этом можно только гадать — они оставили слишком мало следов. Прежде всего — почему они не ограничились каким-нибудь одним текстом, а предпочли свести воедино оба, невзирая на их противоречия, повторы и разночтения? Самое простое и разумное предположение на сей счет состоит в том, что оба текста, видимо, были достаточно известны среди современников редакторов и оба одинаково почитались священными. Нельзя было отбросить один (или какие-то его существенные части) и оставить второй, не оскорбив национальные и религиозные чувства какой-то части читателей, — даже если каждый из текстов противоречил другому в деталях и интенциях авторов. Оставить их существовать раздельно тоже было затруднительно — тогда какой из них читатели должны были считать «истинным»? Эти предположения интересны еще и тем, что приводят нас к вопросу о том, кто, собственно, были эти «читатели», которым предназначался объединенный таким способом текст. Поскольку «Элогист» в свое время явно адресовался жителям Израильского царства, а «Ягвист» — жителям Иудейского, то предположение, будто среди «читателей» единого текста были почитатели как той, так и другой версии, в сущности, означает, что объединение («редактирование») текстов происходило в среде, где наличествовали как «израильтяне», так и «иудеи». Было ли в еврейской истории время, когда существовала такая ситуация? Да, было. Археологические раскопки в Иерусалиме показали, среди прочего, что после падения Израильского царства население столицы Иудеи резко увеличилось. Это можно объяснить тем, что сюда хлынули беженцы из Израиля, спасавшиеся от нашествия ассирийцев. Они могли принести с собой и свою священную книгу — текст «Элогиста». Тогда-то и могла возникнуть обстановка, когда в одной и той же еврейской среде, теперь уже — среди жителей одного и того же царства, получили хождение два разных «священных» источника. А это могло побудить редакторов взяться за работу по их объединению — ведь, кроме всего, это способствовало бы объединению беженцев из Израиля с аборигенами Иудеи в единый, сплоченный общей Книгой народ. Эти соображения позволяют, таким образом, указать и примерное время жизни и работы редакторов: то был период после падения Израиля и до падения Иудеи, иными словами — промежуток между 722 и 587 гг. до н. э. Вот, в сущности, все, что современная библейская критика может предположить о времени создания и авторах двух первых текстов Пятикнижия — «Элогистского» и «Ягвистского». Но не меньше загадок содержат и два других его текста: «Жреческий» и «Второзаконие» (на иврите «Дварим»). Какие это загадки? Какие ответы на них предлагают новейшие исследования? В Пятикнижии история евреев доведена до прихода еврейских колен в Заиорданье и смерти Моисея. Эти события описаны в последней книге Торы — «Дварим» на иврите, «Deuteronomy» по-английски, «Второзаконие» по-старославянски. У этой книги есть свои особенности. В отличие от четырех предшествующих, в ней прямо указан ее автор — она начинается фразой: «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за Иорданом». Это обращение или завещание Моисея четко распадается на две части: «историческую» и «законодательную». В первой кратко повторяется история Исхода; во второй — вторично излагается Закон, то есть заповеди Господни. (Это вторичное изложение Закона и дало основание назвать Моисееву книгу «Второзаконием».) Это, однако, не вполне дословное повторение. Автор опускает некоторые заповеди, упомянутые в первых четырех книгах, зато вводит новые, ранее не упоминавшиеся. Одно из важнейших новшеств такого рода, усиленно подчеркиваемое в тексте, провозглашает запрет совершать жертвоприношения в произвольных местах. Эта новая заповедь появляется уже в начале «законодательной» части книги, в первых стихах 12-й главы: «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом… Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши и жертвы ваши». Видимо, этот запрет крайне важен для автора, потому что буквально через несколько фраз он снова напоминает (Вт. 12:13–14): «Берегитесь приносить всесожжения… на всяком месте… но на том только месте, которое изберет Господь». Самой распространенной целью жертвоприношений у древних евреев было освящение трапезы, прежде всего — мясной. Смысл обряда состоял, видимо, в напоминании, что такой трапезе неизбежно предшествует убийство какого-либо животного. Убийство не должно было восприниматься как заурядное действие, и потому оно было превращено в некий сакральный акт, производимый по определенному ритуалу, специальным лицом (священником-левитом, которому отдавалась часть жертвы) и в специальном месте. Судя по словам «Второзакония», в древнем Ханаане такие места («жертвенники») существовали около каждой деревни, и церемонией там руководили местные священники. Новая заповедь, провозглашенная во «Второзаконии», предписывает евреям уничтожить все эти местные жертвенники «на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом» и приносить жертвы в одном-единственном месте. Иными словами, речь идет о централизации культа. Последовали ли евреи этому предписанию? Не сразу. В эпоху Судей и во времена Объединенного царства (при Давиде и Соломоне) жертвоприношения «на высотах» (то есть на местах) все еще были обычными. Сохранялись они и во времена существования раздельных Израильского и Иудейского царств. Но падение Израиля в 722 г. до н. э., видимо, было истолковано в Иудее как «наказание за грехи» — за невыполнение заповедей, — и тогдашний иудейский царь Хизкиягу предпринял первую серьезную попытку искоренить обычай жертвоприношений «на высотах» и сконцентрировать все богослужение в иерусалимском Храме. Однако реформа Хизкиягу была недолговечной: его сын и внук восстановили в Иудее многие элементы идолопоклонства, включая жертвоприношения на местах. Намного более серьезной была религиозная реформа следующего иудейского царя — Йошиягу (640–609 гг. до н. э.). Историки расценивают ее. как подлинное национально-духовное возрождение. По приказу царя были разрушены идолы и очищен Храм. Жертвоприношения «на высотах» были категорически запрещены. Культ Ягве был заново централизован в Иерусалиме. Всем подданным было вменено в обязанность приносить свои жертвы только на храмовом алтаре. Все провинциальные лейиты были переведены в Иерусалим на должности прислужников при левитах Храма. Поскольку Иудея при Йошиягу в значительной мере освободилась от ассирийского господства и даже захватила часть прежних израильских земель, то реформы были проведены и там: как рассказывает 2-я книга Царей, Йошиягу лично прибыл в Бейт-Эль, чтобы сокрушить тамошние жертвенники, «истер их в мелкий прах и бросил в поток». Во всем. ТАНАХе только еще один человек поступил с идолами столь же сурово — то был Моисей, который не просто уничтожил золотого тельца, но «истер его в мелкий прах и швырнул в поток». Параллелизм поступков великого Моисея и царя-реформатора не ограничивается этим. Куда более глубоким и важным было то, что оба они принесли народу «Книгу Завета». Моисей принес ее с горы Синай; Йошиягу нашел в Храме. Та же 2-я книга Царей повествует, что на 18-м году царствования (т. е. в 622 г. до н. э.) царь приказал провести очистку Храма, и во время этой очистки первосвященник Хилкиягу обнаружил некую книгу, которую передал царскому писцу Шафану. «И читал Шафан ее перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои… и собрали к нему весь народ… и прочел им все слова книги завета, найденной в доме Господнем… и заключил перед лицом Господним завет — последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы… И весь народ вступил в завет». Трижды повторенное слово «завет» не оставляет сомнений, что речь идет о повторении той великой церемонии, которая некогда произошла у горы Синай, где еврейский народ впервые целиком вступил в Завет с Господом. Вновь найденная «книга закона» возродила этот Завет. Ее обнаружение и последующая церемония общенародной клятвы в верности Господу стали сильнейшим стимулом ко всей религиозной реформе Йошиягу. Что же представляла собой эта загадочная книга? Историки давно уже выдвинули предположение, что этой книгой было «Второзаконие». Действительно, как мы помним, «Второзаконие» представляет собой «слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам». Но в ней самой указывается, что, вписав свои слова в эту книгу, Моисей приказал левитам: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную у ковчега завета…» После завоевания Иерусалима и создания Храма ковчег был перенесен туда и помещен в Святая Святых. И именно в Храме первосвященник Хилкиягу обнаружил свою «книгу закона». Моисей во «Второзаконии» адресует свою книгу тем поколениям израильтян, которые «развратятся» и «уклонятся» от завещанного им пути, за что их «постигнут бедствия», — и книга Хилкиягу найдена именно в те времена, как бы специально для того, чтобы вернуть евреев на правильный путь. Эти совпадения слишком знаменательны, чтобы счесть их случайными. Практически все сегодня согласны, что «Книгой Завета» царя Йошиягу является «Второзаконие». Это, однако, не предрешает вопроса о ее авторстве. Вокруг этого вопроса идут давние споры. Я уже говорил, что сомнения в Моисеевом авторстве Пятикнижия высказывались еще в средние века. Эти сомнения распространялись и на «Второзаконие». В 1805 году немецкий ученый де Ветте предположил, что эта книга была написана не Моисеем, а кем-то из приближенных царя Йошиягу с нарочитой целью побудить к проведению религиозной реформы и дать ей впечатляющее сакральное обоснование. Действительно, трудно представить более впечатляющее для народного воображения событие, чем находка древнего свитка Закона, написанного самим Моисеем и в первых же словах призывающего к прекращению жертвоприношений «на высотах» и к централизации всех культовых церемоний в Храме. «И более выгодное для царя и левитов Храма», — добавлял де Ветте. По мнению немецкого историка, «Второзаконие» было «благочестивой подделкой», обманом, совершенным в благих целях, творением самого Хилкиягу или писца Шафана, а то и целой группы придворных, окружавших и направлявших молодого (26-летнего в ту пору) царя. Теория де Ветте подверглась основательной критике. Окончательный удар по ней нанес в 1943 году другой немецкий ученый Мартин Нот. Он обратил внимание на поразительно тесную связь между «Второзаконием» и шестью последующими, чисто историческими хрониками ТАНАХа — книгами Йегошуа бин-Нуна, Судей, 1-й и 2-й Самуила, 1-й и 2-й Царей. «Второзаконие» завершается смертью Моисея в Заиорданье, «напротив Иерихона», а книга Йегошуа бин-Нуна начинается с перехода евреями Иордана и завоевания Иерихона. «Второзаконие» пронизано предсказаниями тех событий, которые осуществляются в исторических хрониках, описывающих последующие столетия. Его законодательные предписания излагаются как назидания на будущее («Когда вы овладеете этой землей…» — делайте то-то и то-то; «Когда вы отвернетесь от Господа..» — вас постигнет-то-то и то-то; «Когда Господь, Бог ваш, рассеет вас среди других народов…» — это будет наказанием за то-то и то-то). Иными словами, «Второзаконие» в целом имеет характер своеобразного исторического пророчества, некоего сквозного мотива всей дальнейшей еврейской истории, описанной в шести книгах танаховских «хроник». Но его связь с этими хрониками оказывается намного глубже. «Второзаконие» объединяет с ними не только преемственность и непрерывность рассказа, но также единство стиля и многих лингвистических особенностей. Все эти семь книг связаны цельной и целенаправленной композиционной структурой: «Второзаконие» занимает в ней место исторического и идейного предисловия, хроники — место «собственно содержания», призванного проиллюстрировать провозглашенную в предисловии центральную идею: все происходящее с еврейским народом обусловлено (и объясняется) исполнением или неисполнением Божественных заповедей. Неслучайно все древнееврейские цари, от Саула и до Йошиягу, оцениваются в «хрониках» исключительно с этой точки зрения. (При этом обо всех них сказано, что они «творили зло перед лицом Господа»; не обойден даже Соломон (его царство распалось «за грехи его»); и исключение сделано только для троих — Давида, Хизкиягу и Йошиягу: первый удостоился особого, «индивидуального завета с Господом, по которому его династия «пребудет вечно»», независимо от прегрешений давидовых потомков; о втором уважительно сказано, что он «ходил путями Господними»; а третий, как мы видели, вообще приравнен к Моисею, ибо только о нем, как и о Моисее, сказано: «Подобного ему не было прежде его… и после него не восстал подобный ему».) Все эти факты побудили Нота высказать гипотезу, что указанные семь книг ТАНАХа образуют единый цикл, принадлежащий одному и тому же автору. Этот свод из семи книг («Второзаконие» плюс шесть «хроник») Нот предложил называть «Дейтерономистской историей», а ее неведомого автора — «Дейтерономистом» (или, сокращенно, D). Разумеется, Нот не мог отрицать, что в этом своде имеются многочисленные вкрапления других авторов. Детальность рассказа о приключениях Давида до его вступления на трон выдает в его авторе человека, близкого к Давиду; многие разделы книг пророка Самуила, по мнению специалистов, принадлежат особому автору. Тем не менее, «Дейтерономистская история» в целом демонстрирует почти очевидные признаки того, что она является произведением одного гения. Этот неведомый автор обработал все доступные ему прежние источники и рассказы таким образом, чтобы они служили раскрытию его центральной идеи, пронизывающей, одушевляющей, организующей и осмысляющей эту грандиозную эпопею национальной истории. Желая утвердить эту идею в сознании единоплеменников, он умышленно приписал ее авторство и авторитет великому Моисею, любимцу Господа. Именно поэтому он предпослал всему своему циклу «предисловие» в виде книги «Второзакония». Эта книга была для него главной, важнейшей книгой цикла, где он изложил свое представление о сквозном законе еврейской истории. Возможно, пишет Нот в заключение, это вообще была его единственная собственная книга — во всем остальном цикле он выступал, скорее, как гениальный составитель и редактор, отбирающий и соединяющий чужие источники так, чтобы наиболее ярко и убедительно проиллюстрировать неумолимое действие этого закона в реальной истории еврейского народа. Эта гипотеза Мартина Нота, утверждающая, что «Второзаконие» вместе с шестью последующими книгами исторических хроник ТАНАХа образует единую «Дейтерономистскую историю», принадлежащую одному автору, получила подтверждение и развитие в работах двух других современных исследователей — американцев Франка Гросса и Баруха Гальперина. Эти работы позволили не только установить время создания грандиозного «Дейтерономистского цикла», но и высказать предположение о личности его автора. Кто же был этим загадочным «автором»? Когда он жил? И могло ли быть, что имя столь гениального писателя, создателя грандиозной общенациональной эпопеи, не сохранилось в еврейской истории? Несколько выше мы говорили о том, что автор этот подчиняет весь свой цикл доказательству некой общей религиозной идеи: судьбы еврейского народа зависят от исполнения или неисполнения им «Господних заповедей». Этот критерий он прилагает и к оценке деятельности различных царей, о которых рассказывает в своих «хрониках». Почти все эти правители получают у автора однообразно-негативную оценку: «И делал он неугодное в очах Господа». Только для двух (не считая Давида) сделано исключение. Это Хизкиягу, правивший в Иудее во времена падения Израильского царства (727–696 гг. до н. э.), и его правнук Йошиягу, время правления которого (640–609 гг. до н, э.) непосредственно предшествовало падению самой Иудеи под натиском вавилонян. Об этих правителях одобрительно говорится: «И делал он угодное в очах Господних». Объяснить эту исключительность политическими успехами обоих царей невозможно: хотя каждый из них пытался проводить независимую политику и предпринимал попытки расширения Иудеи за счет бывшего Израиля, обе эти попытки закончились плачевно: Иерусалим при Хизкиягу был осажден ассирийцами Санхериба, отступившими только после получения огромной дани и признания зависимости Иудеи от Ассирии, а выступление Йошиягу против ассирийцев (уже во времена их борьбы с вавилонянами) завершилось гибелью самого царя в сражении при Мегиддо; через 4 года после этого победоносные вавилоняне вторглись в Иудею, а еще через 20 лет полностью завоевали ее и ликвидировали давидову династию, которой Ягве, по утверждению автора «Дейтерономистской истории», обещал вечное правление. Последний царь этой династии Цидкиягу был ослеплен и вместе с основной частью народа отправлен в вавилонский плен, его дети были убиты, а Иерусалимский Храм разрушен. Даже самый патриотически настроенный автор вряд ли назвал бы «угодными Господу» эти несчастливые политические затеи, навлекшие на страну разрушения и беды. Несомненно, особое отношение «Дейтерономиста» к Хизкиягу и Йошиягу продиктовано иными причинами. И, действительно, в его рассказе о них основное внимание уделяется не столько политическим акциям обоих царей, сколько инициированным ими религиозным реформам. Этот рассказ рисует Хизкиягу и Йошиягу решительными и последовательными борцами против местных культовых традиций и за централизацию культа Ягве, то есть исполнителями той заповеди, которую особенно настойчиво подчеркивает «Второзаконие» («Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом… не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите… жертвы ваши»). Это делает понятным, почему «Дейтерономист» восхваляет именно тех двух царей, которые предприняли религиозную реформу, направленную на такую централизацию. Гросс обратил внимание на тот факт, что из этих двух любимцев автора Йошиягу выделен особо. В историческом цикле «Дейтерономиста» ему отведено поистине выдающееся место. Его религиозным реформам посвящены две полные главы этого цикла (22-я и 23-я во 2-й книге Царств). Ой постоянно сравнивается с самим Моисеем. Только о них двух в ТАНАХе сказано — и притом подчеркнуто одинаковыми словами — что они «возлюбили Господа всем сердцем своим и всей душою своею, и всеми силами своими». Только о них двух сказано — и опять подчеркнуто одинаковыми словами, — что «подобного ему не было прежде его… и после него не восстал подобный ему». Но Гросс подметил и еще одно, вовсе уникальное свидетельство особого внимания «Дейтерономиста» к личности Йошиягу. Речь идет о пророчестве, произнесенном за 300 лет до воцарения этого правителя Иудеи, еще во времена первого израильского царя Йороваама. Едва отделившись от Иудеи, этот царь воздвиг — в противовес Иерусалимскому Храму — в Бейт-Эле и Дане собственные святилища Ягве. 1-я книга Царств, рассказывая об этом, событии, внезапно прерывает свое повествование, дабы сообщить, что в этот момент «человек Божий пришел из Иудеи в Бейт-Эль… и произнес слово Господне, и сказал: жертвенник! жертвенник!.. вот, родится сын дому Давидову, имя ему Йошиягу, и принесет на тебе в жертву священников высот… и человеческие кости сожжет на тебе». Это прямое называние ИМЕНИ будущего царя и само по себе уникально: ему нет аналогов во всем ТАНАХе. Но еще более поразительно, что спустя несколько десятков страниц и, как уже сказано, триста лет во второй Книге Царств, рассказывая о временах Йошиягу, автор специально упоминает об исполнении древнего пророчества: «Также и жертвенник в Бейт-Эле, высоту, устроенную Йороваамом… он разрушил… и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике… по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, ПРЕДРЕКШИЙ СОБЫТИЯ СИИ». С помощью этой явно продуманной связки «Дейтерономист» представляет еврейскую историю от времен Йороваама до эпохи Йошиягу. как предвестие религиозных реформ этого последнего. Все эти детали побудили Гросса еще в 1973 году предположить, что автор «Дейтерономистской истории» жил и творил именно во времена Йошиягу и был страстно заинтересован в успехе его религиозной реформы, считая ее (в общем духе своего понимания законов еврейской истории) судьбоносной для еврейского народа. Однако другой американский исследователь, Эрнест Райт, подверг эту гипотезу резкой критике. Он указал на тот факт, что в «Дейтерономистской истории» изложение доведено до гибели давидовой династии, а это не согласуется с проходящим сквозь все книги этого цикла утверждением, будто Господь обещал «дому Давида» вечное правление. Критика Райта побудила Гросса уточнить свою гипотезу. В последующих работах он предположил, что у «Дейтерономистской истории» было два автора. Первый действительно жил во времена Йошиягу, когда еще не были ясны ни судьба затеянной царем религиозной реформы, ни судьба самой давидовой династии, второй же, по мнению Гросса, дописывал печальный конец этого цикла уже в Вавилонском плену, не очень заботясь (в силу трагических обстоятельств) о том, чтобы согласовать и «причесать» весь текст лод одну гребенку. В такой видоизмененной форме гипотеза Гросса была принята большинством современных исследователей ТАНАХа, и сегодня мы можем говорить, что новейшая библеистика признает неведомого первого «Дейтерономиста» современником царя Йошиягу. Тем самым она принимает за данность, что «Второзаконие» и примыкающий к нему цикл исторических «хроник» были собраны, обработаны и частично заново написаны одним человеком, жившим в самом конце VII в. до н. э., за каких-нибудь два десятилетия до разрушения Первого Храма и гибели давидовой династии. Быть может, он даже успел дожить до этих страшных событий, похоронивших все его мечты и надежды на религиозное обновление еврейского народа. А мечты и надежды эти были, бесспорно, пламенно сильными — недаром же он сравнивал своего героя, царя Йошиягу, с величайшим еврейским религиозным реформатором всех времен — самим Моисеем… Эта пламенная религиозная пылкость сближает «Дейтерономиста» с самыми выдающимися еврейскими пророками. Не среди них следует ли его искать? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к результатам другого исследователя «Дейтерономистского цикла» — уже упомянутого выше Баруха Гальперина. Эти результаты позволяют еще более сузить тот круг людей, из которого вышел первый «Дейтерономист». Работа Гальперина была опубликована в 1974 году, когда этот молодой ученый только оканчивал Гарвардский университет. В своей работе, посвященной «Второзаконию», Гальперин собрал ряд неоспоримых фактов, свидетельствующих о том, что главная, «законодательная» часть книги (главы 12–26) восходит к источникам, которые, по всей видимости, сложились намного раньше эпохи Йошиягу, возможно, даже за столетия до этой эпохи. Многие ее предписания отражают обычаи намного более древних времен, в некоторых случаях — даже более ранних, чем времена Объединенного царства. Например, перечисленные там законы призыва народа на войну соответствуют системе всеобщей мобилизации колен, характерной для эпохи Судей: с появлением у евреев царей ополчения отдельных колен были заменены профессиональной царской армией. Но с этими древними предписаниями соседствуют другие, явно выдающие свое более позднее происхождение, — например, настойчиво подчеркиваемый и страстный призыв к борьбе с местными культами (жертвенниками на «высотах»). Иными словами, «Второзаконие» имеет более сложный характер, чем полагали прежние исследователи: древний источник здесь включен в более позднюю общую рамку, созданную, судя по всему, уже во времена борьбы за централизацию культа Ягве. Анализируя эту рамку, Гальперин пришел к выводу, что книга в целом, судя по всему, была написана во времена Йошиягу, что подтверждает гипотезу Гросса. Далее, однако, Гальперину удалось продвинуться намного ближе к загадке авторства «Второзакония» — а стало быть, если верить Ноту, и всего «Дейтерономистского цикла». Он обратил внимание на то, что более поздние предписания книги явно свидетельствуют о ее «пролевитской» направленности. Эти предписания ограничивают право царей накапливать богатства и наложниц, что никак не соответствует царским интересам. Такие особенности трудно согласовать с предположением, что книга возникла при царском дворе. С другой стороны, она предписывает царям следовать советам левитов и пророков, а народу — обеспечивать служителей Ягве всем необходимым для жизни. По мнению Гальперина, эти особенности позволяют думать, что «Второзаконие» возникло в кругу левитов Иудеи — современников Йошиягу. С этим предположением согласуется и общая религиозная направленность книги и всего «Дейтерономистского цикла». Остается выяснить, интересы какой именно группы левитов этот цикл отражает. То не могли быть, говорит Гальперин, первосвященник и другие законослужители Иерусалимского Храма. При всем его упоре на необходимость, централизации культа в «избранном Господом месте» «Дейтерономистский цикл» нигде не упоминает, что таким местом должен быть Иерусалимский Храм. Создателем книги не мог быть и провинциальный, «деревенский» левит из числа тех, кто проводил Богослужения «на высотах», — ведь предписания «Второзакония» направлены именно против них. В Иудее наверняка сохранялись еще потомки некогда бежавших туда из Израиля, от нашествия ассирийцев, священников Израильского царства, которых Йороваам когда-то назначил в храмы Бейт-Эля и Дана, но они вообще не были из числа левитов. Перебрав, таким образом, все возможности, Гальперин приходит к выводу, что религиозный кодекс «Второзакония» полнее всего совпадает с интересами и характером потомков давних левитов Шило, этого первого религиозного центра древних евреев, откуда вышел и автор «Элогистского» текста Торы. Действительно, эта группа имела все основания стремиться к централизации культа; будучи отлученной Йороваамом от храмов, она издавна нуждалась в помощи народа; она принимала власть царя, но хотела ее ограничения; она была резкой противницей сползания монархии в идолопоклонство; наконец, она еще хранила память о домонархических порядках (частично сохранявшихся среди северных, израильских колен до самого падения Израиля). Кто-то из этих левитов, продолжает Гальперин, мог еще во времена существования Израильского царства (т. е. до 722 г. до н. э.) записать древний устный закон и обработать его так, чтобы он соответствовал интересам данной жреческой группы; а после падения Израиля этот драгоценный свиток мог быть унесен (для его спасения) в Иудею… Разумеется, этот первый составитель «кодекса Второзакония» не был искомым нами «Дейтерономистом» — он жил на добрых 100, а то и больше лет раньше него. Этот «предтеча Дейтерономиста» попросту зафиксировал давнюю традицию — «Дейтерономист» же, уже во времена Йошиягу, воспользовался этим источником и положил его в основу своей грандиозной схемы еврейской истории. Он прибавил к «кодексу жрецов Шило» свое историческое вступление, в котором описал деяния Моисея, а также заключение, в котором рассказал, как умирающий Моисей записал «книгу Закона» (то есть Тору) на свитке и велел положить этот свиток в ковчег Завета, где он и был «найден» во времена Йошиягу. Так возникла совершенно новая книга — та, которую мы ныне называем «Второзаконием» и которую «Дейтерономист» сделал началом и основой им же созданного исторического цикла, излагающего всю еврейскую историю как последовательное развитие нескольких центральных сюжетов — верности/неверности Ягве; завета Бога с Давидом и его династией; идеи централизации культа и борьбы с местными святилищами; Моисеева Закона. Благодаря такому построению все важнейшие события этой истории получили у «Дейтет рономиста» единообразное причинное объяснение; вся она обретает глубокий религиозный смысл и целенаправленность. Ее конечной целью становится создание религиозной утопии, начатое царем Йошиягу, нашедшим спрятанную Моисеем Тору и решившим поступать в строгом соответствии с ней. Но если все положения Закона, исполнение которых «Дейтерономист» считает обязательным для выживания еврейского народа, соответствуют принципам «кодекса жрецов Шило», то и сам этот автор, заключает Гальперин, скорее всего тоже принадлежал к потомкам этих жрецов. В таком случае он, как и они, должен был вести свою родословную от Моисея (а не от Аарона, как левиты Иерусалима). Это предположение действительно подтверждается текстом цикла: в нем прославляется Моисей и всего лишь дважды упоминается Аарон: один раз, чтобы сообщить, что он умер раньше Моисея, второй — чтобы напомнить, что Господь готов был истребить его за создание золотого тельца. Подобно жрецам из Шило, «Дейтерономист» недоброжелательно относится к Йоровааму и Соломону: его герои, религиозные реформаторы Хизкиягу и особенно Йошиягу, уничтожают идолов Бейт-Эля и Дана, созданных Йороваамом, и медного змия, установленного Соломоном. Итак, автора «Дейтерономистской истории» следует искать среди современников царя Йошиягу, симпатизировавших религиозной реформе царя (или даже инициировавших ее) и одновременно принадлежавших к числу потомков жрецов из Шило, бежавших в Иудею за столетие до того, после разрушения Израильского царства. В то же время чисто литературные особенности «Дейтерономистского цикла», как мы уже говорили выше, сближают этого автора и с еврейскими пророками. Исходя из этих двух примет, Гальперин решил проверить, не было ли среди современников Йошиягу человека, удовлетворявшего обоим требованиям сразу. И он действительно нашел такого человека. По утверждению Гальперина, им был не кто иной, как великий пророк Йеремиягу. Именно Йеремиягу, или Иеремия, по мнению Гальперина, был создателем книги «Второзакония» и всего «Дейтерономистского цикла» в целом. По его гипотезе, он и был искомым всеми гениальным «Дейтерономистом». Эту дерзкую гипотезу, разумеется, трудно принять на веру. Но оказывается, и у нее есть убедительные основания: Мы уже говорили, что «Второзаконие» нельзя рассматривать в отрыве от последующих книг ТАНАХа — так называемых исторических сочинений (книг Йегошуа бин-Нуна, Судей, Самуила и Царств). Их объединяет слишком много лингвистических, исторических и религиозных особенностей, присущих им всем вместе и не встречающихся в других книгах ТАНАХа. Кроме того, их объединяет единая сквозная идея — особое религиозное толкование еврейской историй, заявленное уже во «Второзаконии» и затем последовательно проведенное через все книги «исторического 4 цикла». Эта общность, присущая «Дейтерономистскому циклу», заставляет говорить, что весь он был] составлен (с использованием массы более древних источников) одновременно. А поскольку этот цикл вдобавок объединен еще и настойчивым выпячиванием великой религиозно-реформаторской роли царя Йошиягу, который изображается как «второй Моисей» (появление этого царя предсказывается, если помните, уже в ранних книгах «Дейтерономистского цикла», задолго до его фактического царствования), то остается, пожалуй, лишь одна непротиворечивая гипотеза, способная объяснить все эти особенности. И это — как раз изложенная нами выше гипотеза немецкого исследователя Мартина Нота, согласно которой весь «Дейтерономистский цикл», начиная с «Второзакония» и кончая 2-й книгой Царств, был написан во времена самого Йошиягу. Неслучайно именно эта гипотеза является сегодня практически общепринятой в библейской критике. Но, как мы только что рассказывали, молодой американский ученый Барух Гальперин пошел дальше Нота, проанализировал многие неявные дополнительные признаки «Дейтерономистского цикла» и на основании полученных результатов выдвинул предположение, что автором этого грандиозного историко-религиозного цикла, охватывающего семь книг ТАНАХа, был не кто иной, как пророк Йермиягу. Каковы же те признаки, обнаружение которых позволило Гальперину прийти к столь дерзкому выводу? Прежде всего, это особое место, отводимое в цикле царю Йошиягу. Но из книги пророка Йермиягу известно, что он был пылким сторонником царя Йошиягу и его реформ; что его пророческая деятельность началась во времена этого царя; и, что именно он /согласно свидетельству «Хроник») после гибели царя составил «Плач на смерть Йошиягу». Далее, для всего «Дейтерономистского цикла» характерна сквозная мысль о том, что зигзаги еврейской истории определяются, прежде всего и более всего, выполнением или невыполнением евреями заповедей Господних. Но в точности та же мысль является главной и для пророческой книги Йермиягу: в ней он предсказывает Иудее судьбу Израиля, поскольку она, как некогда Израиль, «отступила от Завета», и видит в вавилонянах орудие этой Божьей кары (кстати, именно поэтому он призывает там евреев покорно подчиниться вавилонянам, сдав им Иерусалим, и даже, кажется, подобно Иосифу Флавию, пытался перейти на сторону врага). У гипотезы Гальперина есть и более конкретные подтверждения. Оказывается, Йермиягу был связан со всеми теми людьми, которые имели отношение к «находке» книги «Второзакония» в Храме. Например, письмо пророка к евреям, находившимся в вавилонском плену, было послано через Гемарию, сына первосвященника Хилкиягу, и Эласу, сына писца Шафана. Пророчества Йермиягу, направленные против преемника погибшего Йошиягу, царя Иегоякима, были зачитаны при дворе другим сыном того же Шафана, Гемарией. Тот же Гемария и его брат Ахикам спасли пророка от побиения камнями за эту книгу. А сын Ахикама (и внук Шафана) Гедалия, которого вавилоняне назначили наместником завоеванной ими Иудеи, взял пророка, под свое покровительство. Когда Гедалия был убит восставшими иерусалимцами и на Иудею двинулись разгневанные этим вавилоняне, пророку пришлось бежать вместе с остатками населения города в Египет, (где он и умер). Все эти факты свидетельствуют о том, что Йермиягу имел прямое касательство к тому кругу, где появилась (была «найдена») книга «Второзакония», так удачно обосновавшая реформы царя Йошиягу. И в этом кругу пророк был «своим». Судя по сказанному, то был круг главных инициаторов религиозных реформ, а затем — наиболее влиятельных сторонников провавилонской политики при дворе иудейских царей. В этом кругу Йермиягу, несомненно, был человеком самого большого литературного дарования, как о том свидетельствует его собственная пророческая книга. Поэтому было бы только логично заключить, что когда здесь возникла идея создать убедительное обоснование актуальности и важности религиозных реформ («восстановления Завета») в виде какой-нибудь книги или цикла книг, за реализацию этого замысла взялся именно Йермиягу. Тому есть и косвенное свидетельство: многие литературные особенности пророческой книги Йермиягу дословно соответствуют особенностям стиля «Второзакония» и «Дейтерономистского цикла» в целом. Йермиягу, например, пишет: «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца своего…» — а во «Второзаконии» мы читаем: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего…» У Йермиягу: «…перед всем воинством небесным»; во «Второзаконии»: «…перед всем воинством небесным». У Йермиягу: «…из земли Египетской, из железной печи»; во «Второзаконии»: «…из печи железной, из Египта». И так далее. Если бы такие выражения и словосочетания встречались и в других местах ТАНАХа, этим совпадениям можно было бы не придавать особого значения; но они встречаются именно и только в двух книгах — у Йермиягу и во «Второзаконии». На основании всех этих многозначительных совпадений и фактов Гальперин и заключил, что религиозный закон, составляющий основу «Второзакония», равно как и весь «Дейтерономистский цикл», содержащий семь книг ТАНАХа, а также книга пророка Йермиягу вышли из одного и того же круга людей, к которому принадлежал и сам пророк. В этом кругу Йермиягу действительно кажется самым вероятным автором. И эта вероятность становится еще выше, если учесть одно дополнительное обстоятельство. Как мы видели, основу этого «Дейтерономистского кружка», объединенного страстным стремлением подтолкнуть Йошиягу к проведению религиозных реформ, составляли видные царские придворные — первосвященник Хилкиягу, царский писец Шафан. Один лишь Йермиягу был там представителем совершенно иных, далеких от двора слоев. Как мы уже говорили в предыдущей главе, весь «Дейтерономистский цикл», включая «Второзаконие», написан с позиций жрецов-левитов — выходцев из израильского города Шило. Так вот, Йермиягу, утверждает Гальперин, является одним из этих левитов. В самом деле, он — единственный библейский пророк, в чьей книге прямо упоминается Шило (и даже целых четыре раза). При этом оно именуется там в точном соответствии со стилем «Второзакония» — как «место, где Господь повелел пребывать Имени своему». В терминах «Второзакония» это означает центральное место культа Ягве. Наконец, Шило в ТАНАХе связано с именем жреца Авиатара, которого Давид назначил одним из двух иерусалимских первосвященников, а Соломон отправил в ссылку в село Анатот под Иерусалимом. Между тем, первая же фраза пророческой книги Йермиягу гласит: «Слова Йермиягу, сына Хилкиягу, из священников, которые в Анатоте». Иными словами, пророк действительно был потомком левитов Шило. Этот факт сильнейшим образом подкрепляет гипотезу о том, что именно он был автором «Дейтерономистского цикла». Гипотеза Гальперина была развита другим американским исследователем, Ричардом Фридманом, который, пользуясь теми же приемами и методами доказательства, показал, что окончание «Дейтерономистского цикла», описывающее начальный период вавилонского плена (и созданный, следовательно, уже после взятия Иерусалима вавилонянами в 597 г. до н. э.), было, скорее всего, дописано тем же Йермиягу, но уже после его бегства в Египет. Мы не будем приводить здесь все аргументы и доводы Фридмана (они представляются весьма логичными и правдоподобными, хотя, как и у Гальперина, не на сто процентов убедительными; но от библейской критики такой абсолютной доказательности нельзя и требовать). Отметим лишь, что в заключение своего анализа Фридман напоминает о любопытном подтверждении из самого неожиданного источника — Талмуда. Оказывается, та же талмудическая традиция, которая приписывает авторство Пятикнижия Моисею, а книги Йегошуа бин-Нуна — самому Йегошуа, утверждает, что автором обеих книг Царств был пророк Йермиягу! Работы Фридмана, опубликованные в середине и конце 70-х годов, отчасти решили давний спор о так называемой «Дейтерономистской школе». Некоторые историки-библеисты утверждали, что «Дейтерономистский цикл» был создан не одним автором, а несколькими, но принадлежавшими к одной и той же школе и потому писавшими в одном стиле, с одинаковыми литературными и прочими особенностями. По Фридману, мера близости основного корпуса Дейтерономистских книг друг к другу и к заключению всего цикла (написанному в изгнании) является настолько феноменальной, что написать все это мог только один й тот же человек, но никак не группа людей. В этой связи хотелось бы отметить одну любопытную деталь. Существуют историки, которые утверждают, что книгу пророка Йермиягу (а, возможно, и все другие произведения этого пророка, включая «Дейтерономистский цикл») написал в действительности часто упоминаемый в этой книге писец «Барух, сын Нерия». О нем известно, что он переписывал для Йермиягу ряд документов, был близким к нему человеком и отправился с ним в изгнание в Египет. В сущности, не так уж важно в действительности, кто написал книги пророка — сам он или его писец; куда важнее, что все они были написаны одним и тем же человеком. Но любопытная — и я бы даже сказал, волнующая — деталь, связанная с писцом Барухом, состоит совсем в другом. В 1980 году израильский археолог Нахман Авигад нашел оттиск печати, запечатленный на древнем (между VII и VI вв. до н. э.) папирусе, где совершенно ясно и недвусмысленно читается: «Принадлежит Баруху, сыну Нерия, писцу»! Это был первый в истории предмет, лично связанный с человеком, имя которого упоминается в тексте ТАНАХа. И какого человека — писца пророка Йермиягу, возможно, даже автора великого танахического Семикнижия! Ощущение поистине волнующее — словно прикоснулся к живому Йермиягу… Теперь, завершив затянувшийся рассказ о создании и авторстве «Второзакония», мы должны сделать еще одно, последнее, усилие и разобраться в том, что говорит библейская критика о двух оставшихся главных источниках (или, как их еще называют, «документах»), из которых состоит еврейская Библия, — текстах «Жреца» и «Редактора». Кто их авторы, когда они были созданы, каков их исторический контекст и значение? Прежде, однако, подытожим уже сказанное — это поможет нам лучше понять последующее. История научной библеистики, или, как ее еще называют, «библейской критики», распадается на два отчетливых исторических периода. Водоразделом является вышедшая в 1878 году книга Вельхаузена «История Израиля». Эта работа оказала огромное влияние на развитие научной библеистики. Вельхаузен обобщил все, сделанное до него в этой области такими исследователями, как Спиноза, Гоббс, Симон, Астрюк, Эйхгорн, Граф и де Ветте; он впервые соединил методы и результаты исторического и литературно-лингвистического анализа Пятикнижия; наконец, он предложил систематическую трактовку возникновения библейского текста. Эта трактовка была основана на специфическом представлении об эволюции еврейской религии (во многом навеянном идеями Гегеля). По Вельхаузену, эта эволюция прошла три этапа. На первом то был культ богов природы и плодородия; на втором — духовно-этический монотеизм; а на третьем — формальная жреческо-законническая религия. Вслед за своими предшественниками Вельхаузен выделил в Пятикнижии четыре источника (или четыре «документа», как он их назвал) — Элогистский (Т), Ягвистский (J), Дейтерономистский (D) и Жреческий (Р) — и связал их с указанными этапами эволюции иудаизма. Он утверждал, что «документы» J и T отражают характерные черты еврейской жизни и верований первого этапа; «документ» D относится ко второму этапу, а «документ» H был составлен самым последним — уже на третьем, «жреческом» этапе развития еврейской религии. Исключительно четко изложенная, аргументированная колоссальным количеством материала «документальная гипотеза» Вельхаузена произвела огромное впечатление на научные круги и легла в основу всего дальнейшего развития научной библеистики. Она составляет ее основу и сегодня. Разумеется, многое в трактовке Вельхаузена устарело и отброшено, а многое, напротив, развито и углублено. Сегодня уже понятно, что основные четыре «документа» сами являются контаминацией множества более древних источников; поэтому понятие «времени создания» того или иного «документа» означает не более чем датировку объединения этих источников в связный текст (J, T и т. п.), который затем вошел в библейский канон. Как мы видели выше, сегодня куда более точно и детально известно также время и обстоятельства создания этих окончательных текстов, а в некоторых случаях выдвигаются даже гипотезы относительно личности их авторов. В частности, согласно этим гипотезам, тексты T и J были составлены во времена разделенного царства: T — в Израиле, J — в Иудее; первый — между 922 и 722 гг. до н. э. (период существования Израильского царства), второй — между 848 и 722 гг. (поскольку в нем упоминаются события, произошедшие при иудейском царе Йегораме, вступившем на трон в 848 г.). По тем же гипотезам, вскоре после того, как беглецы из завоеванного ассирийцами Израиля принесли текст T («свою» Тору) в Иудею, этот текст был соединен с «местной» Торой, т. е. с текстом J, в единый источник, послуживший первой основой будущего Пятикнижия. Таким образом, по современным представлениям, эта основа, или текст TJ, возникла в ее окончательном виде в Иудее и после 722 г. до н. э. Мы посвятили много места увлекательной истории поиска времени и места создания и авторства третьего «документа» — D, или Дейтерономистского (составляющего основу книги «Второзаконие»). Как мы видели, совокупные усилия многих ученых, включая израильских, позволили выдвинуть довольно убедительную гипотезу, относящую, создание «Второзакония» (а также примыкающих к нему исторических книг, совместно образующих т. н. «Дейтеронимистский исторический цикл») ко временам иудейского царя Йошиягу (639–609 гг. до н. э.), а завершение — ко временам вавилонского плена (587–537 гг. до н. э.), и приписывающую его авторство пророку Йеремиягу (или его писцу Баруху). Не следует думать, будто это единственная гипотеза; в современной библеистике есть и другие предположения относительно времени создания и авторства «Второзакония» и исторических книг ТАНАХа; мы выбрали гипотезу Гальперина — Фридмана лишь в силу ее большей простоты и правдоподобности, а также для показа с ее помощью приемов и методов анализа, используемых в библейской критике. Чтобы завершить заявленную в заглавии тему, нам остается еще рассказать о том, как представляет себе современная библеистика возникновение последнего из четырех основных «документов», составляющих Пятикнижие, — источника P, или т. н. «Жреческого кодекса». Как мы только что отмечали, Вельхаузен выдвинул предположение, что этот текст был создан позже всех остальных — уже в послепленную эпоху (т. е. после возвращения евреев из вавилонского плена, которое произошло в 537 г. до н. э.). Эта датировка опиралась на ту специфическую периодизацию еврейской религиозной эволюции, которая лежала в основе всей работы Вельхаузена. Однако со временем вельхаузеновская периодизация была подвергнута серьезной критике (в работах Макса Вебера и его продолжателей, а также в «Истории еврейской религии» израильского исследователя Кауфмана и др.), а новейшие археологические открытия в Эрец-Исраэль вовсе поставили под сомнение ряд ее основных положений. Поэтому вопрос о датировке «документа» H тоже подвергся пересмотру. Что же говорит об этом документе современная библеистика, то есть библейская критика конца XX века? Грубо говоря, текст P — это все то в Пятикнижии (в Торе), что не есть T, J или D. Вообще-то можно было бы ожидать, что этот «остаток» представляет собой беспорядочную смесь всевозможных вкраплений. Но поразительный факт (обнаруженный уже первыми исследователями Библии) состоит в том, что если вычленить из Торы такой остаток, то окажется, что на самом деле он представляет собой вполне связный текст, некое особое повествование, которое почти без пропусков излагает примерно то же, что и текст E-J, — всю историю мира, от сотворения до праотцев, и всю историю евреев, от праотцев до египетского рабства, исхода и возвращения в Ханаан. К этой обширной исторической части автор P добавляет еще более пространную обрядово-культовую часть, которой почти не было в E-J. Из нее видно, что, в отличие от авторов текстов T и J, автора H вопросы культа и его исполнения интересуют едва ли не в первую очередь, как могут интересовать только жреца (отсюда и название данного текста — «Жреческий»). Неслучайно они занимают основную часть его текста — половину книги Исхода, половину книги Чисел и почти всю книгу Левит. А в целом текст H оказывается самым большим в Пятикнижии — его объем равен объему всех трех остальных источников, вместе взятых. И при этом весь он лингвистически и стилистически однороден и индивидуален, как может быть однороден лишь текст, принадлежащий перу одного автора. Уже в 1833 году Э. Рейсс обратил внимание на тот странный факт, что в книгах пророков имеются отсылки лишь к тексту E-J, но не упоминаются те пункты 1 (заповеди) Закона, которые содержатся в P. Из этого он сделал вывод, что текст H был записан позже основных пророческих книг. Поскольку эти книги (Исайи, Йермиягу и Йехезкеля) были завершены уже после разрушения Первого Храма, во времена вавилонского плена, следовало предположить, что в эпоху Первого Храма текст H еще не существовал. Поэтому Рейсс отнес его создание к более поздней эпохе, то есть ко временам Второго Храма. Впоследствии ученик Рейсса, Граф, вычленил в тексте H его основные моменты: четко оформленную легально-юридическую культовую систему, концепцию сосредоточения всех культовых отправлений в одном месте и представление о центральности этого места (и его жрецов) в религиозной жизни народа — и, проанализировав их, высказал предположение, что такая детальная разработанность указанных концепций, какая характерна для текста H, может быть только результатом длительного религиозно-исторического развития, и, стало быть, опять же — текст H является весьма Поздним. Наконец, уже упоминавшийся выше Вельхаузен добавил к этим аргументам свои. Поскольку в его схеме развитие еврейской религии шло от духовно-этического монотеизма к «бездуховной» жреческой теократии, то и внешние формы религиозности, по его мнению, развивались от децентрализации культа к его централизации. В тексте E-J нет упоминаний о необходимости такой централизации — стало быть, заключал Вельхаузен, этот текст является самым ранним; в тексте D идет яростная борьба за централизацию богослужений в едином месте, «избранном самим Богом», — стало быть, этот текст, по Вельхаузену, более поздний; и, наконец, в тексте H централизация упоминается как нечто само собой разумеющееся, то есть существующее и укоренившееся, — а такое, заключает Вельхаузен, может быть только на самом позднем этапе — этапе «жреческой теократии», установившейся в Иудее при Эзре и Нехемии, после возвращения евреев из вавилонского плена. Противники гипотезы Рейсса — Графа — Вельхаузена давно указывали на весьма важный сомнительный пункт в ней: если текст H написан во времена Эзры, когда Храм играл центральную роль в религиозной жизни евреев, почему в самом тексте нет никаких упоминаний о Храме? Граф и Вельхаузен ответили на это утверждением, что такое упоминание есть, только «замаскированное»: повсюду, где в источнике H идет речь о т. н. «Скинии Завета», «в действительности» подразумевается Храм. На первый взгляд, это утверждение кажется не только изобретательным, но и отчасти обоснованным. В самом деле, текст H уделяет Скинии подчеркнуто большое внимание: если в E-J она упоминается лишь трижды, а в D не упоминается вообще, то в H о ней — свыше двухсот упоминаний! Более того, там даны подробные указания, как и из чего она должна быть сооружена, каковы должны быть ее размеры, какие обряды в ней следует отправлять и т. д. Второе обстоятельство, позволяющее думать, что под Скинией имелся в виду. Храм, состоит в том, что размеры Скинии, указываемые в тексте P, подозрительно точно соответствуют размерам Храма, названным в 6-й главе 1-й книги Царств: если Храм имел 60 локтей в длину и 20 в ширину, то Скиния — 30 локтей в длину и 10 в ширину, то есть была ровно вдвое меньше. Исходя из этих соображений, Граф заключил, что никакой Скинии не было вообще (в самом деле — кто бы мог нести такое громоздкое сооружение по пустыне до самого Ханаана?!), и весь рассказ о ней придуман автором текста H. Этот автор, живший во времена Второго Храма, стремился, по Графу, придать этому Храму надлежащий авторитет и святость. Поэтому он решил приписать этому центру еврейского культа преувеличенную историческую давность и для этого ввел в свой текст рассказ о том, будто заповедь построить некое единое (и единственно законное) помещение для жертвоприношений и Богослужений (в виде упомянутой Скинии Завета) была дана уже во времена Моисея самим Господом у горы Синай. Как показали современные исследования, все эти хитроумные гипотетические конструкции были излишними. Гипотеза Графа — Вельхаузена о позднем происхождении текста H оказалась ложной в своих основных посылках. Сначала в книге Йермиягу, а затем в книге Йехезкеля были обнаружены хоть и немногочисленные, но достаточно достоверные ссылки на источник H. Их не могли найти раньше, потому что они были ссылками, так сказать, «от обратного»: Йермиягу, например, цитировал H, переворачивая — и тем самым отрицая — его текст. Там, где H говорит: «Вначале создал Ягве небо и землю, и земля была безвидна и пуста… и сказал Ягве: «Да будет свет»», — Йермиягу пишет: «Смотрю на землю, и вот она безвидна и пуста, — на небеса, и нет на них света». Автор H в книге Левит говорит о «Торе (то есть о заповеди) всесожжении и жертв», а у Йермиягу Господь провозглашает: «…отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди о всесожжении и жертве». И так далее, все в том же духе. Аналогичные скрытые переклички с H имеются и у Йехезкеля. Это означает, что пророкам данный источник был знаком, и, стало быть, он существовал уже до разрушения Первого Храма. К тому же выводу привели многолетние лингвистические исследования израильского ученого Ави Гурвица из Еврейского университета, показавшего, что язык источника H представляет собой более ранний вариант иврита, чем язык книги Йехезкеля. Это заключение было впоследствии подтверждено несколькими лингвистами из США и Канады. Что же касается «кратности» размеров Скинии и размеров Храма, то Ричард Фридман, посвятивший этому вопросу специальное исследование, обратил внимание специалистов на два важных факта. Во-первых, те «размеры Храма», о которых говорили Граф и Вельхаузен, относятся к Первому, а не ко Второму Храму; поэтому заключать из этого, будто под Скинией «подразумевается» Второй Храм, нет никаких оснований; а, следовательно, нет и оснований думать, будто рассказ источника H о Скинии был создан во времена Второго Храма. А, кроме того, более детальное изучение предписаний книги Левит о постройке Скинии показывает, что ее истинные размеры вообще были несколько иными, нежели названные в тексте (деревянные рамы, из которых она составлялась, немного находили друг на друга — для прочности, и потому истинная длина всей постройки была чуть меньше 30 локтей; это доказывается размерами покрывала, накрывавшего все сооружение). Поэтому о «кратности» размеров Скинии и Храма вообще не может быть речи. С другой стороны, подсчитав истинные (с учетом наложения деревянных рам) размеры Скинии, Фридман обнаружил совершенно иную «кратность», даже полное совпадение. Оказалось, что эти размеры были в точности такими же, как впоследствии и размеры самого внутреннего помещения Соломонова (т. е. Первого) Храма — его знаменитой «Святая Святых», где находились позолоченные херувимы, под распростертыми крыльями которых помещался Ковчег Завета. В этой связи Фридман напомнил, что уже при описании Соломонова Храма сказано, что туда принесли не только Ковчег Ягве, но и «Скинию со всем, что в ней было». О переносе Скинии в Храм согласно говорят также Иосиф Флавий и Вавилонский Талмуд. В Псалмах Храм и Скиния тоже всегда упоминаются совместно, а в «Хрониках» («Паралипоменон») о Храме говорится как о «доме Ягве, доме Скинии». Собрав все эти факты, Фридман выдвинул предположение, принципиально противоположное гипотезе Графа — Вельхаузена: не Скиния была «придумана» автором H по образцу существовавшего в его время Храма, а сам этот Храм (его Святая Святых) был задуман по образцу задолго до него существовавшей Скинии. Сама же она после постройки Храма была перенесена из Шило в Иерусалим и помещена во внутреннем храмовом помещении (т. е. в Святая Святых). Автор H, поместивший Скинию в центр своего рассказа и поднявший ее до уровня центрального символа всей еврейской религиозной жизни, имел поэтому все основания отождествлять Скинию с самим Храмом (ведь она в нем находилась!) — но только с Первым Храмом, а не со Вторым! Иными словами, по Фридману, текст H мог быть написан лишь в те времена, когда Первый Храм еще существовал. По всей видимости, он был записан там же, где этот Храм существовал, — то есть в Иудее, может быть, — в самом Иерусалиме. Его автором был, скорее всего, храмовый священнослужитель (ибо весь текст, как мы уже отмечали, выражает интересы жреческой группы), а поскольку священнослужителями Иерусалимского Храма были коэны-аарониды (прямые потомки Аарона), то и автор H был, надо думать, одним из этих коэнов. Время создания текста можно еще более сузить. Как показал шведский ученый Мовинкель, автор H целых 25 раз повторяет рассказы из текста E-J (начиная с истории сотворения мира). А это значит, что он писал уже после создания этого единого текста, то есть, как мы говорили выше, после 722 г. до н. э. С другой стороны, текст H, как мы видели, был известен пророку Йермиягу, предположительно, — автору «Дейтерономистского цикла», начатого при царе Йошиягу (639–609 гг. до н. э.); стало быть, H был написан раньше этого царствования. В целом это дает следующие (разумеется, гипотетические) временные рамки для его написания: между 722 и 639 гг. до н. э. Фридман выдвигает еще более точное предположение, относя создание текста H ко временам царя Хизкиягу (727–698 гг. до н. э.), когда была предпринята первая попытка религиозной реформы — уничтожения местных жертвенников и централизации всех культовых отправлений в Храме. По мнению Фридмана, подчеркивание роли Скинии («Храма») выражает желание автора H обосновать эту реформу, приписав традиции сосредоточения культа в одном месте давнее (еще от Моисея) и сакральное (одна из Господних заповедей) происхождение. Текст H не имеет тех литературных и прочих достоинств, которые отличают тексты T и J, но и он по-своему замечателен. Прежде всего, замечательны его повторы, или «дублеты», как мы назвали их в первой главе. Сравнение рассказов H и E-J сразу обнаруживает, что автор H был решительно недоволен тем образом Бога, который возникал из книги его предшественника, и пытался последовательно провести свое, иное представление о Нем. Так, уже в первом дублете (рассказ о сотворении мира) у E-J сказано (Бытие 2:4): «Элогим создал землю и небо», а у H (Бытие 1:1): «Вначале сотворил Ягве небо и землю». Эта, казалось бы, простая перестановка слов — «небо и земля» вместо «земля и небо» — на самом деле скрывает за собой стремление придать Богу более «небесные», более трансцендентные черты. Автор H решительно борется с той антропоморфизацией Бога, которая присуща T и J. Бог Элогиста и Ягвиста ходит по райскому саду, разговаривает с первыми людьми, закрывает за Ноем и его семейством двери ковчега и с удовольствием обоняет запах жертвы (одного из семи «чистых» животных), принесенной Ноем по случаю завершения Потопа. У H этого Ноева жертвоприношения нет, ибо Ною велено взять с собой лишь одну (а не семь) пару от каждого вида «чистых» тварей, и он не может убить ни одну из этих тварей, ибо тогда не останется пары для размножения данного вида. Соответственно, H получает возможность изгнать из рассказа режущее его слух слово «обонять» применительно к Господу. Господь у H не обоняет, не ходит, не разговаривает, не творит людей «по Своему образу и подобию», ибо у Него нет «образа» — Он бестелесен и безлик. Он пребывает на небесах. Он — творец того грандиозного космического порядка, что запечатлен в Торе и является основой также и порядка земного, подчиняющего себе всю жизнь еврейского народа: Храм, коэны, жертвы, праздники, строжайшее соблюдение заповедей и ритуала. Нарушителей этого порядка ждет суровое наказание, ибо, если у E-J Бог прежде всего «милосерд», «человеколюбив» и тому подобное (вспомним, как Он пощадил Ицхака, как уступал Аврааму в торге за Содом и множество других аналогичных случаев), то H рисует Его прежде всего суровым и беспощадным (хотя и справедливым) судьей. Судьба Кораха и его сторонников, описанная в 16-й главе книги Чисел, — яркая тому иллюстрация. Раз уж мы коснулись этого эпизода с Корахом, используем его, чтобы показать еще одну особенность Жреческого кодекса. Как уже было сказано, автор его — не просто жрец, но, скорее всего, жрец-ааронид. И, действительно, — для всех его дублетов, в которых речь идет об Аароне, характерен сквозной мотив возвеличивания этого первого еврейского первосвященника (порой даже за счет преуменьшения заслуг Моисея). И это тоже элемент скрытой полемики с текстом E-J (одна из составных частей которого T создана левитами из Шило — потомками Моисея — и потому всячески возвеличивает Моисея). Там, где у E-J: «Ягве сказал Моисею», у P (в том же рассказе) добавлено: «Моисею и Аарону». Где Аарон для Моисея «брат-левит» (то есть из одного колена), у H он — родной, кровный брат, причем — первенец. P изгоняет из своего повествования имевшиеся в E-J не только рассказ о жертвоприношении Ноя, но также рассказы о жертвоприношениях других библейских героев: Каина, Авеля и праотцев — и все для того, чтобы получить возможность утверждать, будто первое жертвоприно шение было произведено в честь назначения Аарона первосвященником; отсюда следует и сама концепция — коэнов: все последующие жертвоприношения могут, производиться либо самим Аароном, либо его прямыми потомками, ибо они выше всех по святости, они — избранные среди избранных, единственные законные посредники между народом и Богом. Упомянутый выше рассказ о восстании Кораха ярко иллюстрирует эту тенденцию автора Жреческого «документа». Две с половиною тысячи лет миллионы людей читали этот рассказ, не подозревая, что перед ними на самом деле — некая литературная мистификация. Действительно, если вчитаться в текст 16-й главы книги Чисел, то неизбежно возникает ощущение; некой странности, чтобы не сказать — сумбура. Здесь есть Корах из колена Леви и, как бы отдельно от него, три других руководителя мятежа — Дафан, Авирон и Авнан из колена Реувена, и рассказ о каждой из этих групп совершенно не соотносится с рассказом о другой. Скажем, события связанные с Корахом, происходят вблизи Скинии, между тем как события, связанные с реувенидами, — в их шатрах; Корах предъявляет Моисею одни требования, реувениды — совершенно иные; Кораха Моисей увещевает, реувенидам грозит. Вообще куски рассказа, связанные с Корахом, настолько лишены связи с кусками, посвященными реувенидам, что возникает ужасное подозрение: а в самом ли деле это один общий рассказ? Попробуйте сами произвести над текстом несложную операцию: извлеките из него всё, что относится к реувенидам (вторая часть первого стиха и начальные слова — «восстали на Моисея» — стиха второго, стихи 12–15-й, 25-й, вторую фразу 27-го и стихи 28–31-й, первую часть 32-го, а также 33-й и 34-й стихи), — и вы тотчас увидите, что, будучи вычлененными, они образуют вполне связный, последовательный и ОТДЕЛЬНЫЙ рассказ о восстании (и наказании) потомков Реувена, разочарованных тем, что Моисей не выполнил своего обещания привести народ в землю, текущую молоком и медом. А что же оставшиеся стихи? Поразительно, но они, оказывается, тоже образуют связный рассказ — только совсем иной: о бунтаре Корахе. В нем никаких упоминаний о реувенидах и их восстании: речь идет исключительно о представителе колена Леви (Корахе), который посмел выразить недовольство определенных левитских кругов тем, что Моисей назначил Аарона первосвященником: по мнению Кораха, в «царстве священников» (каковым, по слову Господню, должно быть еврейское сообщество) любой левит имеет право на такой сан и прерогативы. Моисей поначалу пытается пристыдить недовольных, напоминая им, каким почетом пользуются в народе левиты, как велика милость Господня к ним, какова их слава, и авторитет; и лишь затем, видя, что их дерзость зашла слишком далеко, предлагает им «испытание Божье»: пусть они наравне с Аароном попытаются возжечь курения перед Господом, а Господь сам решит, чьи претензии законны. Попытка Кораха оборачивается страшной карой: его самого и других недовольных левитов поглощает расступившаяся земля — и это служит доказательством кощунственности их претензий: Господь благоволит только к Аарону и его прямым потомкам — коэнам. Только им Он вручил право руководить (теперь и впредь) «царством священников». Первый рассказ — вполне естественная и живаядеталь истории Исхода: уставшие, разочарованные люди слабодушно ропщут против руководителя трудной затеи, их наказывают, другие в страхе замолкают, и поход продолжается. Второй рассказ производит впечатление неуклюжей вставки, вся цель которой состоит исключительно в прославлении Аарона и утверждении власти Ааронидов. Два эти рассказа явно написаны разными авторами, в разные времена и по разным причинам. И действительно: рассказ о реувенидах принадлежит тексту E-J, рассказ о Корахе сочинен и вставлен в этом место истории Исхода намного — позже — автором H. Еще более поздний редактор, для которого оба текста были одинаково древними и святыми, не решился выбрасывать что-либо и попросту постарался как можно более незаметно, пусть и чисто механически, соединить оба повествования. Все сказанное выше об особенностях текста H поддается обобщению: его автор как бы сознательно, шаг за шагом, противопоставляет Торе E-J «свою» версию Торы, последовательно проводящую идею трансцендентного Божества вместо антропоморфного Бога и идеал еврейской теократии, возглавляемой жрецами-коэнами вместо племенной демократии и Светской монархии. Текст H написан в идеологической полемике с текстом E-J; но если припомнить сказанное чуть выше о скрытой полемике «Дейтерономиста» с автором текста Н, то мы увидим любопытную закономерность: ВСЕ главные источники («документы») Торы написаны как идеологическое отрицание друг друга. Иудейский текст J записан в противовес израильскому тексту T; в ответ на их объединение тотчас возникает полемически противопоставленный им текст H, а еще через два поколения — текст «Дейтерономиста» (Йермиягу?), полемизирующий с H. Каждый из них проводит свои религиозные идеи, воплощая их в своих рассказах и в их композиции. Поэтому одна из самых поразительных особенностей Пятикнижия в целом состоит, пожалуй, в том, что какой-то безвестный (и, несомненно, гениальный) редактор ухитрился так продуманно и искусно соединить все эти четыре разных и внутренне ПОЛЕМИЧНЫХ документа, что они образовали единое целое, и притом — не просто целое, а такое целое, которое превышает сумму своих частей. Дублированные рассказы стали оттенять и углублять друг друга в литературном, психологическом и смысловом плане (что, конечно, никак не могло быть задумано ни одним из авторов, который и предполагать не мог, что его текст будет соединен с текстами его антагонистов); а сама концепция Бога (то есть еврейского монотеизма) обрела глубочайшие взаимодополняющие измерения — отвлеченной трансцендентности и антропоморфного человеколюбия, гневной справедливости и любовного милосердия, качественной непостижимости и диалогической близости. Такая редактура была, несомненно, творческим актом, который поставил редактора вровень с титанами T, J, H и D, составившими окончательный свод основных «источников» Торы. Кто мог быть этим редактором? Многие исследователи полагают, что составление канонического текста Пятикнижия происходило не в один прием, а через множество этапов, возможно, — в разные времена, и поэтому редакторов тоже было несколько. Мне более симпатична другая гипотеза, которая приписывает редактуру одному человеку — Эзре, тому ааронидскому священнослужителю и «книжнику, сведущему в Законе Моисеевом», второму (после Моисея) «законоучителю» еврейского народа, который в 458 году до н. э. вернулся в Иудею с предписанием персидского царя Артаксеркса учить народ «закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей». «Закон, находящийся в руке…» — это наверняка свиток Торы, и мы действительно знаем, что главным деянием Эзры было перезаключение Завета евреев с Господом (Эзра 10:3). Впрочем, может быть, это был вовсе не Эзра, а какой-нибудь иной, неведомый книжник тех же времен; а, может быть, редакторов и в самом деле было несколько. Послепленные времена темны и загадочны: неизвестно, что происходило с евреями в вавилонском плену и египетском галуте; неизвестно, куда исчезли (именно в это время) Ковчег Завета и Скиния; неизвестно, куда девались потомки дома Давидова Шешбазар и Зерубавель, приведшие назад в Иудею первую группу отпущенных из плена евреев в 537 г. до н. э. (они исчезают бесследно, так и не восстановив почему-то давидову династию), и так далее. От всего почти 150-летнего периода, начиная с разрушения Первого Храма (587 г. до н. э.) и до составления книги Эзры (после 458 г. до н. э.), сохранилось лишь несколько имен, названных Эзрой в его книге, упоминание о постройке Шешбазаром и Зерубавелем скромного и неказистого Второго Храма да рассказ об одном-единственном событии, которому, собственно, и посвящена книга Эзры, — о расторжении им еврейских браков с нееврейками. Понятно, что в отсутствие других сведений исследователи невольно хватаются за тот скудный набор фактов, который сообщает Эзра, и за него самого. Но все это не принципиально. Принципиальным является вывод, который мы можем теперь сделать на основании всего сказанного в предыдущих страницах этого очерка. Этот вывод, подкрепленный всей совокупностью собранных за прошедшие два столетия культурно-исторических, лингва-текстологических и других фактов и их научного анализа, состоит в том, что ТАНАХ (во всяком случае, Пятикнижие, ибо мы говорили здесь преимущественно о нем) писался (записывался) на протяжении многих сотен лет, разными людьми, в разные исторические эпохи, с разными целями. Таков, в самом кратком виде, суммарный итог всех библейских исследований. Подчеркнем, однако, снова: речь идет о составлении (порой на основе более древних источников) окончательных текстов. Это, несомненно, сделали люди. Но это не отвечает на вопрос: кто или что вдохновляло этих людей? Писали T, J, H и D «по откровению Божьему» или по собственному, чисто человеческому вдохновению — это было и остается вопросом веры. (В конце концов, ведь и устную Тору, когда ее записали, пришлось задним числом «сакрализовать», провозгласив, что и она была — вместе с Торой Письменной — дана Моисею на горе Синай, но с тех пор передавалась изустно, хотя — без искажения даже единой буквы за все эти столетия.) Напомним в этой связи, что когда-то, еще в XIV веке, Йосеф Бонфильс, первый еврейский ученый, провозгласивший по поводу одного из стихов Торы, что «Моисей этого не писал», многозначительно добавил! «Впрочем, что мне до того, писал это Моисей или другой пророк, коль скоро слова всех этих людей суть истина, явленная в пророчестве». Действительно, тексты могут быть написаны разными людьми; истина, в них содержащаяся, может быть при этом единой. Неслучайно еврейские религиозные мыслители, размышляя над теми же противоречиями и разночтениями Торы, что и светские библеисты, всегда использовали для объяснения этих загадок принцип объединения противоположностей, полагая, что только в таком объединении и вскрывается истинная, глубинная суть кажущегося «несообразным» отрывка. Вот один из примеров такого подхода. Книга Исхода (12:15), говоря, о празднике Песах, предписывает: «СЕМЬ дней ешьте пресный хлеб» — между тем как «Второзаконие» (16:8) говорит: «ШЕСТЬ дней ешь пресные хлебы»; и раввины, естественно, вынуждены объяснить, как совместить оба этих предписания. Они разъясняют это следующим образом: «Седьмой день был сначала включен в более полное («объемлющее») высказывание, а затем изъят из него». То, что изъято из более полного высказывания, предназначено для более глубокого уяснения нами самого этого высказывания. Следовательно, если в седьмой день это (съедение пресного хлеба. — Р.Н.) возможно, но не обязательно, то и во все остальные дни это возможно, но не обязательно. Может ли быть, что так же, как в седьмой день это возможно, но не обязательно, так и в остальные, ВКЛЮЧАЯ ПЕРВУЮ НОЧЬ? Решает сказанное (Исход 12:18): «В первый месяц С ВЕЧЕРА ешьте пресный хлеб…» Стало быть, в первую ночь есть пресный хлеб заповедано (а в прочие, как видим, не обязательно; обязательным и безусловным. является только ЗАПРЕТ есть хлеб дрожжевой (как и вообще употреблять «хамец»). Я хотел было завершить свой рассказ еще несколькими примерами такого же рода, но он без того затянулся и буквально взывает к немедленному завершению: слишком много пришлось бы еще рассказывать — и о современных взглядах на загадки пророческих и других книг ТАНАХа; и о нынешних, после Гункеля и Вебера, Луццато и Кауфмана, представлениях об эволюции еврейской религии; и о поразительных тайнах ТАНАХа в целом — постепенном «сокрытии Божьего лица» из истории и нарастании сферы свободы человеческой воли, равно как и о многом другом, не менее интересном — и, увы, не менее пространном. Последуем же примеру Шехерезады и прекратим дозволенные речи. Лишь поблагодарим напоследок долготерпеливых читателей, которые сопровождали нас на протяжении всего этого многостраничного пути сквозь лабиринты светской библеистики. >ГЛАВА 4 В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА (по мотивам книги Г. Хэнкока «Знак и печать») Сказано в Книге Исхода, в обращении Господа к Моисею: «Сделайте ковчег из дерева ситтим; длина ему два локтя с половиною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя… И положи крышку на ковчег сверху; в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе. Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою… о всем, что не буду заповедыватьчрез тебя сынам Израилевым». И сказано в первой книге Царей (III книге Царств), в речи Соломона при освящении Первого Иерусалимского Храма: «Я вступил на место отца моего Давида, и сел на престоле Израилевом… и построил храм… и приготовил там место для ковчега, в котором Завет Господа, заключенный Им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли Египетской». С этим Ковчегом (Скинией) Завета в еврейской истории связана странная и до сих пор до конца не проясненная загадка. Исход (или «вывод») евреев из «земли Египетской» датируется современными учеными серединой XIII века до новой эры; царствование Соломона — серединой X. Их разделяет, таким образом, около трех столетий. События этих столетий — скитания в пустыне, обретение Торы, завоевание Ханаана, эпоха Судей, царствования Саула и Давида — весьма подробно описаны в Библии. В этих описаниях Ковчег Завета, сооруженный Моисеем в самом начале 40-летних странствий по пустыне, упоминается не менее 200 раз. Но после воцарения Соломона Ковчег навсегда исчезает из поля зрения еврейских источников. Этот странный и необъяснимый факт не может не вызывать недоумения. Видимо, что-то произошло в ту пору с Ковчегом. Но что? Огромный вопросительный знак повисает над древней еврейской историей. Первым приходит на ум предположение: а, может, Ковчег исчез? Был-похищен или перенесен куда-то и спрятан? Но Библия не могла бы умолчать о такой трагической утрате. Сами евреи посягнуть на Ковчег не могли: то была, как-никак, национальная святыня! — а завоеватели в те годы к Иерусалиму еще не подступали. Тогда, быть может, дело обстояло проще: с появлением Храма Ковчег утратил былое значение? Но ведь Храм и был построен для хранения Ковчега. Опять неувязка. К тому же и первое, и второе предположения противоречат духу одного из последних упоминаний о Ковчеге, которое мы находим в книге пророка Иеремии. Там, в главе 3-й, сказано о грядущих временах: «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни… не будут говорить более: «Ковчег Завета Господня»; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет». Иеремия жил, как считает, современная наука, в конце VI века до новой эры. И если пророк говорит об эпохе, когда Ковчега «уже не будет» и к нему «не будут приходить», как о далеком будущем, значит — в его время Ковчег существовал и к нему приходили. Более того — вся тональность этого отрывка свидетельствует, что во времена Иеремии Ковчег все еще рассматривался как важнейшая национальная святыня. Ведь Иеремия известен как пророк, восставший против внешней религиозной символики — жертвоприношений в Храме, храмовых богослужений и так далее. В сущности, приведенный выше отрывок выдержан в том же духе: вот сейчас вы поклоняетесь Ковчегу, а придет время, исполнится завет Господень, и поклонение это станет излишним. Стало быть, современники еще поклонялись. Утопические времена, описанные Иеремией, не наступили, Завет не «исполнился», но поклонение Ковчегу, тем не менее, прекратилось. В конце жизни Иеремии, в 597 г. до н. э., знаменитый вавилонский владыка Навуходоносор штурмом взял Иерусалим, разрушил Храм и увел часть народа в «вавилонский плен». И поскольку Иеремия был самым последним, кто упоминал Ковчег в качестве существующего, историки получили отличную возможность связать решительное исчезновение всяких дальнейших упоминаний о Ковчеге с этими трагическими событиями. Теперь уже не было надобности в искусственных предположениях. Загадка объяснялась просто и логично. Ковчег был захвачен победителями при взятии Храма вместе со всей прочей добычей и увезен в Вавилон — гласила одна из версий. Ковчег был спрятан последними жрецами Храма, а после возвращения народа из плена уже не найден — гласила другая. Но была еще третья версия, самая романтическая. Она не довольствовалась предложенными объяснениями и снова ставила вопрос: почему источники упоминают о разрушении Храма, но ни словом не поминают судьбу хранившегося там Ковчега? И давала ответ: а потому, что ко времени взятия Иерусалима Ковчег давно уже исчез из Храма и был укрыт в совершенно иных местах, далеко от Страны Израиля, а умолчание ТАНАХа об этом, что ни говори, сенсационном факте продиктовано вполне серьезными и вескими причинами… Эта версия бытовала в еврейских и нееврейских кругах долгие столетия. Она породила множество догадок о местонахождении Ковчега и длинную вереницу его искателей, а уже в наши дни отразилась, хоть и в совсем уж вульгарной форме, в фильме «Искатели утраченного ковчега», а также в незаслуженно нашумевшем детективе Д. Брауна «Код да Винчи» (почти дословно повторяющем серьезную книгу М. Бежана, Р. Лея и Г. Линкольна «Святая кровь и святой Грааль»). Несколько лет назад на прилавках книжных магазинов (в том числе западных, российских и израильских) появилась книга английского журналиста Грэма Хэнкока «Знак и печать». Эта объемистая (ровно 600 страниц) книга сразу сделалась сенсацией года. И неудивительно: Хэнкок утверждал, что ему, наконец, удалось разгадать тайну пропавшего Ковчега, установить место его нахождения и проследить всю его загадочную судьбу с самого момента исчезновения из Храма. Многолетние поиски Ковчега привели автора из Лондона в далекую Эфиопию, оттуда в Шартр и снова в Лондон, а затем — назад в Эфиопию. Рассказ и гипотезы Хэнкока настолько интересны сами по себе, что даже если и не убеждают читателя до конца, заслуживают подробного изложения. Любители исторических загадок наверняка найдут в них пищу для увлекательных размышлений. Вопреки всем правилам детективного повествования, Хэнкок начинает свой рассказ сразу с разгадки. Как мы увидим, у него есть на то основания: напряженность сюжета от этого не только не уменьшается, но даже возрастает. Так вот, с этим-то дальним прицелом на постепенное усложнение загадки Хэнкок в первой же главе повествует о том, как в 1983 году судьба забросила его в Эфиопию. Интерес к старине привел его в древний город Аксум, что стоит на одном Из притоков Голубого Нила. В книгах, посвященных истории Эфиопии, он прочел, что, согласно местным легендам, именно в Аксуме, в одном их старинных храмов, хранится знаменитый Ковчег Завета, столь многократно упоминаемый в Библии. Хэнкоку удалось разыскать этот храм и разговорить его настоятеля. Тот подтвердил, что легенда истинна: в его храме действительно находится тот выложенный золотом деревянный ящик, в который Моисей некогда поместил Иерусалимский Храм. — Оттуда, — сказал старик, — эта святыня вскоре была принесена в Эфиопию. — Кем? — нетерпеливо спросил Хэнкок. — Из ваших легенд я знаю только, что знаменитая царица Савская была владычицей Эфиопии, именно отсюда отправилась в Иерусалим к Соломону и там родила ему сына… — Его звали Менелик, — подхватил настоятель, — и хотя он был зачат в Иерусалиме, но родился в Эфиопии, куда царица вернулась, едва узнала, что понесла. В 20 лет Менелик и сам отправился в Иерусалим и какое-то время жил при Дворе отца. Но уже через год он стал ощущать, что придворные завидуют его возвышению и требуют, чтобы Соломон удалил от себя принца. Видя это, Менелик решил не искушать судьбу и вернуться домой. Царь дал сыну в спутники самых знатных юношей своего двора, и среди них — Азарию, сына верховного жреца Иерусалимского Храма. Этот-то Азария перед уходом и украл Ковчег из Святая Святых Храма, но признался в этом Менелику. Менелик счел, что такое воровство не могло свершиться без воли Господней, и потому оставил Ковчег у себя. Так Ковчег, в конце концов, и попал в Аксум… Рассказ был похож на тысячи других аналогичных легенд, но, в отличие от них, имел ту особенность, что мог быть немедленно проверен. — Могу ли я увидеть этот Ковчег? — осторожно спросил Хэнкок. — Нет, — ответил старик. — Только мне одному разрешено к нему приближаться. Но каждый год, в январе, мы выносим его для специальной церемонии Тимкат… — Значит, я смогу увидеть его в январе? — Не знаю, — уклончиво произнес настоятель. — В стране идет гражданская война, вокруг много злых людей, я не уверен, что в этом году мы вынесем Ковчег на всеобщее обозрение… Но и тогда вы ничего не сможете увидеть — Ковчег завернут в ткани. — Зачем?! — Чтобы защитить людей от него. Он способен проявить страшную силу. Хэнкок явился в храм подготовленным. Накануне он беседовал с одним из эфиопских администраторов в Аксуме и именно от него впервые услышал легенду о Ковчеге. По словам администратора, свергнутый незадолго до того император Хайле Селассие считал себя 225-м прямым потомком пресловутого Менелика, сына Соломона и царицы Савской, и даже именовал себя так в некоторых официальных документах. Сама легенда о Ковчеге, несомненно, была очень древней, поскольку называла первым местом его хранения храм Богородицы, построенный в Аксуме в самом начале IV века, когда христианство только что проникло в Эфиопию. В XVI в., во время вторжения в страну мусульманских полчищ, Ковчег был перепрятан, а затем, сто лет спустя, по утверждению легенды, возвращен на прежнее место и лишь в 1965 году перемещен в более пышный храм, построенный Хайле Селассие. Именно там Хэнкок и встретился со старым настоятелем. Дела Хэнкока в Эфиопии подходили к концу, продолжать расспросы о судьбе Ковчега в той накаленной эфиопской обстановке показалось ему опасным, и он покинул страну, чтобы, вернувшись в Лондон, обратиться за консультацией к специалистам. Одним из лучших знатоков эфиопских древностей считался в Великобритании профессор Панкхерст, основатель императорского Института эфиопских исследований в Аддис-Абебе, и Хэнкок направился к нему. Панкхерст подтвердил, что легенда о Менелике бытует в Эфиопии с незапамятных времен, а самая первая ее письменная версия содержится в манускрипте XIII века, именуемом «Кебра Нагаст». Сам Панкхерст, однако, не очень верил этой легенде. Связи между Эфиопией и древним Израилем, несомненно, существовали: эфиопская культура неслучайно имеет сильный привкус иудаизма, а одно из племен страны, фалаши, совершенно явно исповедует еврейскую религию; но это может быть результатом длительных контактов с древней еврейской общиной в Йемене, возникшей в I в. н. э., после завоевания Палестины римлянами. Что же касается Ковчега, то во времена Соломона он просто физически не мог быть доставлен в Аксум, потому что город этот возник лишь через восемь столетий после смерти Соломона. Разумеется, он мог быть перенесен в любое другое место, но легенда содержит и многие другие анахронизмы и сомнительные моменты. Например, в ней говорится, что со времен появления Ковчега в Эфиопии все христианские церкви усвоили обычай помещать в своих алтарях миниатюрные его копии, получившие название «табот» (сам Ковчег иногда именуется поэтому «Табота Цион»). Знает ли Хэнкок, как выглядят эти «таботы»? Нет? Так вот — это попросту несколько деревянных брусков, аккуратно уложенных в деревянный ящик. Если это — копия Ковчега, то как же выглядел тогда настоящий Ковчег? — Выходит, тут и конец красивой легенде? — пробормотал Хэнкок и разочарованно усмехнулся. Он не знал тогда, что для него это только начало. * * *Итак, эфиопская легенда о Похищении Ковчега из Иерусалима оказалась, по-видимому, красивой выдумкой. И, тем не менее, мысль о ней продолжала жить где-то в подсознании Хэнкока и заставляла его время от времени возвращаться к размышлениям о загадке Ковчега. Порой его возвращали к ней случайные упоминания в печати. Так, в одной из английских газет он натолкнулся на перепечатку рассказа группы израильских туристов, которые побывали на торжественной и таинственной религиозной церемонии в эфиопском городе Алибела, неподалеку от Аксума, где Хэнкок некогда разговаривал с хранителем Ковчега. Туристы рассказывали, что в этом древнем городе, с его высеченными в красных скалах одиннадцатью христианскими церквами, они стали свидетелями многотысячного ежегодного шествия, во главе которого выступали наряженные в ритуальные одеяния священнослужители, несшие на плечах покрытый тканью «Ковчег Завета». Этот Ковчег — или что бы там, ни было под тканью — священники вносили в шатер на берегу озера, и всю ночь, пока Ковчег пребывал в шатре, проводили в молитвах над ним. На следующий день, после торжественного молебна, который открывал сам архиепископ Аксума, Ковчег возвращался в храм и вновь поступал в распоряжение своего «хранителя». На все просьбы израильтян показать им Ковчег хранитель отвечал, что это невозможно. «Ковчег — это огонь живой, страх Господень, и он поглотит любого, кто явится к нему без спроса». Эти слова живо напомнили Хэнкоку ответ хранителя на его собственную просьбу показать Ковчег. Были и другие поводы для воспоминаний. В ходе работы над очередной книгой об Эфиопии Хэнкоку пришлось заняться изучением фалашей, и это заставило его прочесть, наконец, перевод того знаменитого манускрипта «Кобра Нагаст», о котором ему рассказывал профессор Пэнкхерст и в котором содержалась самая ранняя письменная версия эфиопской легенды о царице Савской и царе Соломоне, их сыне Менелике и похищении им Ковчега Завета из Иерусалимского Храма. И снова легенда произвела неотразимое впечатление на Хэнкока, хотя к тому времени он уже знал, что историки считают царицу Савскую вовсе не эфиопской, а йеменской владычицей, трон которой находился в Сабе, или Саве, и поныне остающейся столицей Йемена. Но самое глубокое впечатление, по сути — подлинное потрясение, заставившее Хэнкока. снова вернуться к поискам Ковчега, ожидало его впереди. И настигло оно его в совершенно неожиданном месте. Летом 1989 года, закончив упомянутую книгу об Эфиопии, он вместе с семьей отправился в отпуск во Францию. Отпускные маршруты привели его в город Шартр, и он решил осмотреть тамошний знаменитый собор — чудо готической архитектуры, сооружение которого было начато в XI и завершено в XII веке. Путеводители рассказывали, что строители собора широко пользовались так называемой «гематрией» — древним еврейским шифром, связывающим числа с буквами алфавита, и с ее помощью зашифровали в архитектурных пропорциях собора множество сакральных тайн. Такие же сложные и понятные только посвященному знаки были скрыты в других деталях собора — в его скульптурах, арках и витражах. Вооружившись путеводителем, Хэнкок провел все утро в разглядывании этих сложнейших архитектурных ребусов. Проголодавшись, он направился в кафе напротив. Каково же было его удивление, когда он увидел вывеску. Кафе называлось «Царица Савская». Как очутилась здесь героиня древней легенды? Хозяин кафе охотно объяснил: «Прямо напротив, в южной арке собора, стоит статуя этой царицы». Действительно, присмотревшись к скульптурам и сверясь с путеводителем, Хэнкок убедился, что среди одиннадцати скульптурных фигур арки, изображавших еврейских пророков и царей, была и фигура царицы Савской с цветком в левой руке. Путеводитель извещал также, что арка с ее фигурами была сооружена в первой четверти XIII века как раз в то время, когда в Эфиопии был написан манускрипт «Кебра Нагаст», содержавший историю Менелика и Ковчега. Появление языческой царицы среди героев еврейской истории было довольно странным. Библейский рассказ о ней ни словом не упоминает о ее переходе в иудаизм, который мог бы объяснить ее соседство с Соломоном и Давидом в арке собора. Зато в «Кебра Нагаст», напротив, утверждалось, что во время пребывания в Иерусалиме царица приняла иудаизм. И дополнялось это утверждение рассказом о том, как ее сын, принц Менелик, тоже бывший правоверным иудеем, принес иудаизм в Эфиопию. Но как могли создатели Шартрского собора узнать о легендах, содержащихся в манускрипте, написанном почти в то же время в далекой Эфиопии? С другой стороны, совпадение дат наводило на размышления. Охваченный этими размышлениями Хэнкок снова заглянул в путеводитель и к своему изумлению обнаружил, что в соборе есть еще одна статуя царицы Савской. Она находилась в северном портале, куда Хэнкок торопливо и направился. В правой арке портала он увидел фигуру царицы, у ног которой свернулся маленький африканец. Путеводитель сообщал, что это фигурка «эфиопского слуги». Иными словами, путеводитель недвусмысленно отсылал царицу в Африку, как будто создатели собора действительно были уверены в ее эфиопском происхождении, на котором настаивала книга «Кебра Нагаст». Но еще более любопытным было то, что на колонне, отделявшей статую царицы от стоявшей в центральной арке статуи легендарного библейского царя-жреца Мельхиседека, Хэнкок обнаружил изображение небольшой тележки с установленным на ней ящиком или сундуком. Тележка стояла точно посредине между двумя фигурами, а под ней красовалась какая-то плохо различимая надпись. Угадать можно было только два слова: Archa Cederis — но и их Хэнкоку оказалось достаточно, потому что первое из этих слов тотчас напомнило ему английское «Ark», то есть «Ковчег». В лихорадочном возбуждении он начал рассматривать колонну и, обойдя ее кругом, обнаружил еще одно каменное изображение той же тележки. На этот раз над ней склонился какой-то человек, а надпись под изображением тоже по-латыни — была подлинной. Что особенно поразило Хэнкока — так это то, что, на сей раз, тележка была изображена удаляющейся от Мельхиседека и приближающейся к царице Савской. Как будто бы строители собора намеренно хотели запечатлеть в камне эфиопскую легенду о похищении Ковчега из древнего Израиля (символом которого был Мельхиседек, поименованный в Библии «царем Салема», что обычно толковалось как древнее название Иерусалима) и переход его во владение Эфиопии (которую символизировала фигура царицы Савской). Хэнкок заметил еще, что царица здесь изображена без цветка, зато Мельхиседек держит в правой руке кадило (очень похожее на те, которые он видел в эфиопских церквях), а в левой — что-то вроде чаши или кубка, но не с жидкостью, а с каким-то цилиндрическим предметом внутри. На сей раз путеводители не дали ответа. Правда, в путеводителе надпись, сопровождающая изображение тележки с Ковчегом, приводилась полностью, но познаний Хэнкока в латыни оказалось недостаточно, чтобы этот текст понять. Что же касается странных предметов в руках Мельхиседека, то один путеводитель сообщал, что это символы христианского причастия (поскольку легендарный царственный жрец считается предшественником Христа), зато другой утверждал нечто неожиданное: «Мельхиседек держит в левой руке чашу святого Грааля, в которой находится Камень» — и добавлял: «Это позволяет связать данную фигуру с известной поэмой Вольфрама фон Эшенбаха (согласно некоторым преданиям, члена ордена тамплиеров), считавшего, что Грааль — это Камень». В истории Ковчега — и без того запутанной — явно проступали новые, загадочные детали. Тележка с Ковчегом, направлявшаяся от статуи Мельхиседека к статуе царицы Савской, явно связывала историю похищения Ковчега (если создатели собора действительно хотели рассказать о нем) с легендарным «царем Салема», а он был изображен, если верить путеводителю, с чашей святого Грааля в руке. Таким образом, эфиопская легенда о Ковчеге неожиданно переплеталась с христианской легендой о Граале. Тут было над чем подумать. Но в одиночку распутать все эти нити Хэнкок не мог — ему нужна была квалифицированная помощь. Он нашел ее в Тулузе, где в это самое время проводил свой отпуск его давний знакомый, известный историк искусства профессор Питер Ласско. С трудом дождавшись встречи, возбужденный Хэнкок обрушил на Ласско поток недоуменных вопросов. «Что означает чаша в руке Мельхиседека? Могла ли проникнуть в средневековую Европу эфиопская легенда? Что гласят латинские надписи на колонне Шартрского собора?» Легче всего оказалось ответить на последний вопрос. Слою Arena действительно обозначало «Ковчег». Зато Ctdtris могло быть либо искаженным словом Foederis, то есть «Завет», либо необычной формой латинского глагола «cedere», то есть «отдавать» или «отпускать на волю». В сочетании это давало либо просто «Ковчег Завета», либо «Ковчег, который ты отдашь». Что же касается второй — более длинной надписи, то ее Ласско истолковал как «Сим отпускается Ковчег, который ты отдаешь» или как «Здесь скрыт Ковчег, который ты отдаешь» — в зависимости от того, каким образом были искажены резчиками старинные латинские слова. С толкованием Мельхиседека как символа древнего Израиля Ласско, однако, решительно не согласился: «Мельхиседек большинством ученых воспринимается как библейский прообраз Христа, поэтому чаша и прочие предметы в его руках, скорее всего, — символы христианского причастия». А вот на второй вопрос Ласско затруднился ответить: «Нет, я никогда не слышал, чтобы строители Шартрского собора вдохновлялись какими-либо иными рассказами, кроме библейских и христианских. Я не знаю ни одного источника, где бы отмечалось влияние эфиопских, да и вообще африканских мотивов на архитектуру собора…» Потом он замолчал, задумался и неожиданно добавил: «Впрочем, ошибаюсь… Мне кажется, что когда-то я читал статью, в которой говорилось о проникновении эфиопских идей в средневековую Европу. И знаете — речь там шла именно о святом Граале! Насколько я помню, автор утверждал, что Вольфрам фон Эшенбах находился под влиянием какой-то эфиопской христианской традиции». — «Да кто он такой, этот Эшенбах?» — нетерпеливо вскричал Хэнкок. «О, это довольно известная личность. Один из первых, кто писал о святом Граале. Он написал целую книгу о его поисках. Она называется «Парсифаль»…» — «По-моему, так называется опера Вагнера…» — неуверенно пробормотал Хэнкок. «Вот именно! Вагнер вдохновлялся романом Эшейбаха». — «И этот Эшенбах… когда он жил?» — «В конце двенадцатого — начале тринадцатого века. Тогда же, когда создавался северный портал Шартрского собора». Какое-то время оба собеседника молчали. Потом Хэнкок с надеждой спросил: «Эта статья, о которой вы упоминали, — кем она написана?» — «Убейте, не помню, — сконфуженно ответил Ласско. — Это было лет двадцать назад. Помню только, что это был какой-то Адольф. Имя немецкое, и оно связалось в моей памяти с именем Эшенбаха — он ведь тоже был немец». Теперь в руках Хэнкока была уже не одна, а целых три загадки: загадка исчезнувшего Ковчега, загадка его непонятной связи с легендой о святом Граале и загадка имени автора той давней статьи, который, судя по воспоминаниям Ласско, уже двадцать лет назад заинтересовался той же проблемой. Прошло больше года, прежде чем он нашел ответ на третью загадку. И этот ответ действительно пролил некий свет на первые две. Но, как это часто бывает, в более ярком, свете стали видны новые, еще более загадочные детали. * * *Итак, Хэнкок обнаружил загадочную цепочку: древняя Эфиопия — средневековая Франция, легенда о похищенном Ковчеге — легенда о святом Граале. Но что могло связывать эти отдаленные друг от друга места? Что могло быть общего между древнееврейской святыней и мистическим христианским сокровищем? Если о Ковчеге история, как мы уже знаем, молчала, то о Граале она упоминала часто и пространно. Стоило Хэнкоку погрузиться в эти упоминания, как поиск немедленно привел его к любопытным и неожиданным выводам. Самым известным источником сведений о фантастической чаше Грааля был знаменитый роман Томаса Мэллори «Смерть Артура». Написанный в XV веке, этот свод легенд о знаменитом английском короле Артуре, за Круглым столом которого собирались самые выдающиеся рыцари страны, посвящал Граалю одну из семи своих книг, озаглавленную в духе эпохи витиевато и велеречиво: «Повесть о святом Граале в кратком изводе с французского языка, каковая есть повесть, трактующая о самом истинном и самом священном, что есть на этом свете». Начиналась повесть с того, что однажды ко двору короля Артура явилась девица благородных кровей, которая попросила помощи королевских рыцарей в неком важном и запутанном деле. Эта просьба, которую рыцари, разумеется, сочли необходимым уважить, привела к запутанной череде невероятных приключений славного рыцарского коллектива, включавшего сэра Ланселота, сэра Галахада, сэра Гавейна и других сэров. В конце концов, им удалось найти искомый заколдованный замок, в глубинах которого обнаружилась скрытая комната, в центре которой виднелся серебряный престол, на каковом престоле покоилась некая таинственная чаша. Чаша эта оказалась способной на всевозможные необыкновенные чудеса. Одним из первых таких чудес было явление благообразного седовласого старца, который сообщил рыцарям, что он является первым христианским епископом Британии Иосифом Аримафейским, умершим двести лет назад. Поведав это, — старец исчез, уступив место самому Иисусу Христу, который сообщил пораженным рыцарям, что из найденной ими чаши он некогда ел и пил на Пасху, а позже ученик его, вышеупомянутый Иосиф Аримафейский, собрал в нее его кровь, пролитую во время распятия. Из примечаний к книге Хэнкок узнал, что упоминание о ее французском, первоисточнике не было случайным — сочиняя свой роман в одиночестве тюремной камеры, куда его привели политические авантюры, английский дворянин Томас Мэллори действительно вдохновлялся более ранними французскими хрониками. Обратившись к этим хроникам, Хэнкок столь же быстро выяснил, что у их авторов не было еще никаких представлений ни о священной чаше, ни об Иосифе Аримафейском, ни об «Иисусовой крови». Король Артур в этих ранних рыцарских романах отправлялся не на поиски заколдованного замка, а, наподобие многих фольклорных героев, спускался в царство мертвых и искал там вовсе не чашу, а сказочный «котел изобилия» по имени «Анвен». Лишь позднее, к началу XII века, в романах артурова цикла стала появляться фигура пресловутого Иосифа, которая все чаще и чаще наделялась чертами «первокрестителя» бриттов и англосаксов. Одновременно с этим стала упоминаться в этих романах и христианская легенда о некой чаше, в которую тот же Иосиф якобы собрал кровь Иисуса. А потом произошло «сращение» двух предметов: артуров «котел изобилия» слился в воображении хронистов с чашей Иосифа. Даже название чудесной чаши пошло отсюда: кельтское слово «сгуо!» (корзина изобилия) превратилось в старофранцузское «sang real», или «истинную кровь», а это, в свою очередь, стало читаться, как «san great», то есть святой Грааль. С этого момента похождения рыцарей короля Артура стали приобретать совершенно новый, христианско-мистический смысл. Теперь это были уже не просто странствия в поисках схваток и приключений, а целенаправленные поиски чаши святого Грааля, предпринимаемые ради содержащейся в ней Божественной благодати. Чудесная чаша начинает появляться также в живописи и скульптуре того времени, в том числе и на стенах тогдашних соборов, вроде Шартрского. А немного позже она уже оказывается в центре пространных романов, посвященных ее поиску и обретению. Первый такой роман написал в конце XII века знаменитый бретонский автор Кретьен де Труа, создатель пятитомного цикла о короле Артуре. О Граале там говорится много и возвышенно: он-де способен на то и на се, и на это, и вообще он «поддерживает жизнь во всей ее силе», но, как ни странно, при этом ни разу не сказано, как же выглядит этот необыкновенный предмет. Из контекста же совершенно невозможно понять, то ли это действительно чаша, то ли сосуд побольше, вроде супового котла (в одном месте Кретьен так и заявляет: герою, мол, подали в Граале очередную порцию пищи), то ли еще что-то третье. На мысль о «третьем» Хэнкока навело чтение второго по времени появления прославленного романа о Граале — написанной уже в начале XIII века книги немецкого автора Вольфрама фон Эшенбаха «Парциваль». Тут Грааль вообще именовался… «Камнем». В тексте Эшенбаха прямо и недвусмысленно говорилось: «Как бы ни был болен человек, с того дня, что он увидит Камень, он проживет, по меньшей мере, неделю, и даже цвет лица у него не изменится. Такая сила дана этому Камню над смертными, что их плоть и кости вскоре делаются такими же, как у молодых. Камень этот называется Грааль». История явно усложняется. Оказывается, в момент своего первого появления в литературе Грааль не имел фиксированного облика: Кретьен представлял себе что-то вроде сосуда, Эшенбах — что-то вроде камня. Как же он превратился в «чашу»? Кто был «виновником» этого превращения? Как и в детективных романах, исторический «преступник» тоже оставляет за собой следы, и в данном случае цепочка таких следов вела, как вскоре выяснил Хэнкок, к знаменитому в раннем средневековье монашескому ордену цистерцианцев. Это его братья первыми составили свод апокрифов под общим названием «В поисках святого Крааля», после появления которого загадочный «сосуд» из романа Кретьена и «Камень» из книги Эшенбаха были полностью вытеснены новым представлением о Граале как о чаше с кровью Христовой. Но вскоре представление это претерпело еще один неожиданный и странный поворот. В конце XII века орден цистерцианцев был преобразован и устроен совершенно по-новому. Инициатором и руководителем этого преобразования был знаменитый церковный деятель того времени — епископ Бернард Клервосский. Влияние Бернарда сказалось не только на деятельности ордена цистерцианцев и на христианском богословии; он наложил свой отпечаток также на тогдашнюю церковную живопись и архитектуру. А одной из основных его идей в этой области было символическое отождествление Богородицы со «священным сосудом», а проще говоря — с чашей Грааля. Подобно тому, как чаша эта, согласно легенде об Иосифе Аримафейском, содержала Иисусову кровь, чрево Богородицы в свое время содержало Иисусову плоть. Вот почему в скульптурах соборов, посвященных Богородице, строительство которых было вдохновлено Бернардом Клервосским, так часто появлялось изображение-чаши Грааля — это был попросту символ девы Марии. Но у Бернарда, оказывается, была еще одна навязчивая идея. Он считал, что дева Мария подобна не только сосуду с плотью Христовой, но и хранилищу Христова учения! Вместе с Божественным младенцем ее чрево содержало в себе также и будущий Завет Христа с человечеством — так называемый Новый Завет, который, по убеждению христиан, отменил и заменил собой Ветхий Завет, заключенный Богом с праотцем Авраамом. И вот тут-то и возник в сознании Бернарда тот неожиданный поворот мысли, о котором мы только что упомянули. Если дева Мария хранила в себе Новый Завет в облике Иисуса, то она была подобна в этом тому знаменитому Ковчегу, который, согласно Библии, хранил в себе Ветхий Завет в виде скрижалей Моисея! И вот в молитвах, сочиненных епископом из Клерво, появляется выражение «Богоматерь Ковчега Завета». Родившись в XII веке, оно сохранилось до нашего времени: в Кирьят-Йаарим, что между Тель-Авивом и Иерусалимом, стоит построенная в 1924 году доминиканская церковь, которая так и называется «Храм девы Марии-Ковчега Завета». И украшен он изображением Ковчега. Итак, дева Мария и «живой Грааль» с его Иисусовой кровью, и «живой Ковчег» с его каменными скрижалями. Это позволяет понять, почему Мельхиседек в арке Шартрского собора — посвященного, кстати, той же деве Марии! — держит в руках чашу Грааля, а рядом с ним находится скульптурное изображение Ковчега. Остаются, однако, две загадочные детали: «камень» в чаше, что в руках Мельхиседека, и тележка, на которой лежит Ковчег. Камень в чаше Грааля явно намекает на очень архаичное, еще доцистерцианское, эшенбаховское толкование Грааля как «Камня», а тележка напоминает об эфиопской легенде, рассказывающей о похищении Ковчега из Иерусалима и транспортировке его в Эфиопию. И тут в мозгу Хэнкока вспыхнула дерзкая догадка: а не могло ли быть так, что именно эта эфиопская легенда, проникнув в христианскую Европу, и легла здесь в основу рассказа о чаше святого Грааля? Вообразим такую цепочку: европейским христианам известен евангельский рассказ о чаше, в которую тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого учителя; с другой стороны, имеются смутные воспоминания, что какой-то Иосиф когда-то пришел из Иерусалима проповедовать христианство; а? с третьей, становится популярной легенда, что кто-то унес из того же Иерусалима Ковчег Завета, который есть символ девы Марии, которая, в свою очередь, есть символ чаши с кровью Иисуса. Так, может, чаша эта и есть вместилище каменных скрижалей, унесенное не каким-то там Менеликом, а Иосифом, и не в Эфиопию, а в Европу?! Если это так, то никакой чаши Грааля никогда и не было. В обоих рассказах — о короле Артуре и о принце Менелйке — речь шла не о двух разных предметах, а об одном и том же — и предметом этим в обоих случаях был утраченный Ковчег! Догадка была действительно дерзкой. Но хуже того — она была еще и фантастичной. В самом деле, даже согласившись с тем, что святой Грааль — это просто Ковчег Завета, как объяснить проникновение эфиопской легенды в средневековую Европу? И не просто проникновение, но и такое распространение, которое позволило Вольфраму фон Эшенбаху назвать Грааль «Камнем», а великому Бернарду Клервосскому связать оба предмета в единый религиозный символ? Мыслимо ли это и как это могло произойти? Свет на загадку пролила та статья, о которой в давнем разговоре с Хэнкоком упомянул, если помните, профессор Ласко. В конце концов, Хэнкок все-таки статью эту разыскал. Ее автором оказалась известная медиевистка (специалистка по средним векам) Елена Адольф. Название статьи было сложным и академически занудным: «Новые соображения о восточных источниках романа «Парциваль» Вольфрама фон Эшенбаха». Одно слово в этом названии приковало внимание Хэнкока: «ВОСТОЧНЫЕ…» Он трясущимися руками развернул журнал. И сразу же понял: да, Елена Адольф утверждает, что Эшенбах «знал историю Грааля в ее восточном, точнее — эфиопском, варианте». Эфиопский вариант легенды о Граале… Это означало, что его дерзкая гипотеза переставала, по крайней мере, быть фантастичной. Ибо слова Елены Адольф Давали этой гипотезе первое, но зато вполне серьезное подтверждение. И подталкивали мысль к новому поиску. Следы утраченного Ковчега, несомненно, следовало искать в Эфиопии. Елену Адольф, эту авторитетную специалистку по средневековой литературе, интересовал чисто литературоведческий вопрос: почему Вольфрам фон Эшенбах, взявшись завершить незаконченный роман Кретьена де Труа о поисках святого Грааля, вдруг повернул своего «Парцифаля» в совершенно неожиданную сторону — превратил тот Грааль, что у Кретьена выглядел скорее как сосуд, в какой-то непонятный «Камень»? Эту загадку она объясняла тем, что Эшенбах, судя по всему, был знаком с эфиопским источником под названием «Кебра Нагаст» — тем самым, в котором рассказывается история похищения иерусалимского Ковчега Завета Менеликом, сыном царя Соломона и царицы Савской, первым «царем Эфиопии». Легенда из «Кебра Нагаст», утверждала Адольф, видимо, произвела на Эшенбаха такое впечатление, что он решил как-то совместить ее с легендой о Граале. Может быть, он рассчитывал, что это сделает его роман еще более популярным среди читателей, чем роман Кретьена. * * *Елена Адольф не пыталась объяснить, каким образом эфиопская легенда могла попасть в средневековую Европу. Ее как литературоведа это и не особенно интересовало. Она лишь мельком заметила, «что переносчиками предания могли быть еврейские купцы, которые в те времена смело странствовали по различным частям света, наверняка бывали в Эфиопии, где было свое иудейское население, фалаши, а уж в Европе и вообще чувствовали себя как дома». Хэнкока, напротив, не интересовали литературные влияния. Ему было куда важнее, что Адольф тоже, в сущности, связала Грааль с Ковчегом. Но его предположения шли куда дальше, чем гипотезы Елены Адольф. Не может ли быть, что Эшенбах не столько намеревался расцветить свое повествование о Граале еще одной красивой легендой, сколько хотел рассказать именно о судьбе и поисках загадочно исчезнувшего Ковчега, а для этого зашифровал его историю — скрыл ее под маской рассказа о поисках Грааля? Коль скоро дело было так, то. и в тексте романа могли содержаться — скрытые, конечно, и понятные лишь для посвященных — указания на место, где и доселе хранится эта древняя священная реликвия. Как дешифруются тайные послания? Один способ состоит в поиске ключа к шифру. Для этого применяются всевозможные научные методы в сочетании с интуицией и косвенными соображениями. Однако куда надежнее другой способ: нужно хорошо знать, что вы хотите найти. И тогда успешная расшифровка вам почти гарантирована. Хэнкок выбрал именно этот путь. Он стал вчитываться в текст «Парцифаля». Мелкие детали, не замеченные при первом чтении, теперь останавливали его буквально на каждом шагу. Вот, например, у Эшенбаха говорится, что Грааль способен прорицать будущее, и в Библии о Ковчеге сказано примерно то же самое. Грааль — источник плодородия, и библейский Ковчег — источник плодородия. Грааль сам собой светится, и Моисей, возвратившийся с горы Синай со скрижалями Завета, тоже светился, да так, что сыны Израиля боялись к нему приближаться. Мало того! Когда Моисей первый раз спустился со скрижалями, он увидел, что евреи за время его отсутствия начали поклоняться Золотому тельцу. А у Эшенбаха рассказывается о неком Флегетанисе, который тоже «поклонялся тельцу, как Богу». Совпадение? Нет, явно не просто совпадение. Этому Флегетанису в романе отведена важная роль: именно ему небеса открывают имя Грааля. Иными словами, Грааль имеет прямую связь с небесами. Но ведь и скрижали Завета имеют такую связь! Сказано же в Библии, что они продиктованы («открыты») Моисею Богом. Какой реальный смысл может стоять за этим настойчивым упоминанием о небесном характере обоих предметов? Не идет ли речь о метеорите? Некоторые историки давно предположили, что моисеевы «скрижали» были в действительности двумя кусками «небесного камня». Древние народы весьма почитали такие «послания небес». Знаменитый черный камень, вмурованный в угол мекканской Каабы и почитаемый всеми мусульманами мира, — это ведь тоже не что иное, как метеорит. По преданию, он упал с неба на землю еще во времена Адама, чтобы вобрать в себя адамов «первородный грех»; затем перешел к Аврааму; а уже потом оказался во владении пророка Магомета. Любопытная деталь вдруг приковала внимание Хэнкока: у мусульман амулеты из метеоритного камня назывались «бетиль», что в средневековой Европе превратилось в «ляпис бетилис». А у Эшенбаха имя Камня-Грааля, открывшееся Флегетанису, было «ляпис экзилис» — словно нарочито искаженное «ляпис бетилис», да еще со своим многозначительно намекающим смыслом: ведь «ляпис экзилис», если перевести с латыни, — это «камень с неба». Нет, решительно все дороги, то бишь все намеки и совпадения, вели в Эфиопию. Недоставало лишь прямо указующего туда перста. Но и перст, оказывается, был! Нужно было только проникнуть в еще более глубокие пласты эшенбаховского шифра — и Хэнкок это сделал. Вчитываясь в текст «Парцифаля», он обнаружил одно странное и, на первый взгляд, мало связанное с основным сюжетом место — что-то вроде вставной легенды. Рассказывалось о неком рыцаре Гамурете, который отправился в страну Зазаманк и там встретился, с прекрасной ТЕМНОКОЖЕЙ царицей Белаканой. От этой встречи родился сын по имени Фейрефиз, но случилось это уже после того, как рыцарь Гамурет покинул свою темную возлюбленную и вернулся в Европу. Там он сошелся еще с одной красавицей, на сей раз белой, которая родила ему Парцифаля — истинного героя романа и главного искателя Грааля. Оставим на время Парцифаля и зададимся вопросом: что можно сказать о его отце? Или его история — роман любвеобильного белого аристократа и темнокожей царицы из экзотической страны — не напоминает нам что-то мучительно знакомое? Разумеется! При некотором усилии воображения можно немедленно опознать в рассказе основные черты истории Соломона и царицы Савской: любвеобильный герой, темная царица, экзотическая страна, незаконный сын. А вот и решающее доказательство: в «Кебра Нагаст» царь Соломон прямо говорит: «Этот сын, который похитил Ковчег Завета, он от женщины иного цвета, из другой страны, и даже вовсе черный…» Кстати, что это за имя такое — Фейрефиз? Звучит, конечно, экзотически, но поскольку автор романа — европеец, легко предположить, что свои экзотические имена и названия он изобретал, искажая знакомые слова какого-нибудь европейского языка. И, действительно, знающему человеку в слове «Фейрефиз» тотчас и отчетливо слышится французское «vrai fils», то бишь «истинный сын». И тут уж ему легко припомнить, что в той же «Кебра Нагаст» Соломон приветствует Менелика словами: «Ты мой истинный сын». Если у кого-то еще оставались сомнения в тождестве Фейрефиза и Менелика, то теперь они наверняка развеялись. И только повисший в воздухе след этих сомнений, их, можно сказать, исчезающий аромат заставляет все-таки вяло запротестовать: зачем же, зачем понадобилось Эшенбаху так сложно зашифровывать имена и географические названия? Написал бы просто: Менелик, Соломон, Эфиопия!.. Ответ на этот вопрос у Хэнкока готов — поскольку немецкий автор писал поверх французского первоисточника, явно используя роман о Граале для зашифровки истории Ковчега, то, видимо, у него были на то серьезные основания, и, дальнейшее терпеливое изучение текста должно вскрыть и эти основания, и самый шифр. Оставим поэтому вредные сомнения и всмотримся в дальнейшие злоключения Фейрефиза, уже обнаружившего себя в качестве зашифрованного Менелика — похитителя Ковчега. Достигнув соответствующего возраста и совершив положенное по жанру рыцарского романа количество подвигов, сей темнокожий принц, сообщает нам Эшенбах, женился на благородной даме Репансде Шойе, о которой ранее в романе мельком сообщалось, что она была той, кому Святой Грааль дал себя нести! Но мало этого — от брака Фейрефиза и Репанс родился сын, имя которого так знакомо, так легендарно, так знаменито, что не может не отозваться в сердце каждого знатока средневековых легенд. Имя это — пресвитер Иоанн. Тут мы окончательно убеждаемся, что Вольфрам фон Эшенбах весьма последовательно держался правила приплетать к истории Грааля все интересное и загадочное, о чем рассказывалось в то время длинными зимними вечерами в немецких деревнях. Сначала он поселил в своем романе Менелика-Фейрефиза из эфиопской легенды, а теперь впустил туда еще и пресвитера Иоанна. Напомним для начала, кто такой этот Иоанн. Впервые поведал о нем европейцам епископ Отто из Фрейзингена в 1145 году. Сославшись на сообщение некого «сирийца», епископ заявил, что где-то на Востоке живет могущественный царь-христианин, который готов предоставить в распоряжение крестоносцев свои огромные армии для отражения арабской угрозы. Еще через 20 лет в Европе распространился слух, что этот царь прислал европейским монархам личное письмо, в котором называл себя «пресвитером Иоанном, владыкой четырех Индий» и повторял предложение прийти на выручку крестоносцам в Святой земле. На письмо «пресвитера» ответил сам папа римский Александр III, который счел необходимым упомянуть, что о царе Иоанне ему давно известно из другого источника: сообщили, мол, из Святой Земли, что посланцы «пресвитера» просили выделить для своего монарха один из алтарей в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. (Запомним эту деталь, она сейчас окажется существенной.) * * *История пресвитера Иоанна положила начало розыскам — христианского царства «на Востоке» (об этом увлекательно рассказывал Лев Гумилев в книге «В поисках вымышленного царства», написанной еще до того, как автор всецело отдался делу разоблачения «врагов рода человеческого» в лице коварных евреев). Во всех этих исканиях царство Иоанна неизменно помещали «в Индиях». У Эшенбаха место, где поселились Фейрефиз и Рапанс и родился их сын, будущий пресвитер Иоанн, называется иногда «Трибалибот», иногда «Зазаманк», а иногда просто «Индия». Получается как будто, что и темнокожая царица Белакана — тоже родом из Индии (она ведь из Зазаманка). Но вся эта географическая путаница заметно упрощается, если вспомнить, что уже византийский монах Руфинус, первым описавший распространение христианства в Эфиопии, упоминая в своей книге мельчайшие детали ЭФИОПСКОЙ географии, саму страну, тем не менее, упорно именует ИНДИЕЙ. В средние века знаменитый Марко Поло тоже писал: «Абиссиния — это большая провинция, которая называется срединной, или второй Индией». А падре Альварец, который в 1520-526 гг. совершил путешествие по Эфиопии, прямо назвал свою книгу об этом путешествии «Правдивое описание страны Пресвитера Иоанна из Индий». Вслед за Альварецом многие другие европейские путешественники и картографы начали именовать христианского монарха Эфиопии «пресвитером Иоанном». Да и как было именовать его иначе, если в «Индиях» никакого христианского царства не обнаруживалось, зато в Эфиопии оно было издавна?! Обратим внимание, что такой авторитетный источник, как «Энциклопедия Британника», «сведя воедино все рассказы о «пресвитере Иоанне», недвусмысленно заявляет, что этот титул издавна присваивался абиссинскому королю, хотя какое-то время его — царство помещали в Азии». Итак, можно считать доказанным, что страна, в которой происходит действие вставной новеллы о Гамурете, Белакане, Фейрефизе, Репанс де Шойе и «пресвитере Иоанне», — это Эфиопия, как бы она ни называлась у любителя экзотических имен Эшенбаха. А теперь обратим внимание на некий совсем уж малоизвестный факт. Оказывается, у Эшенбаха, в свою очередь, был продолжатель. Через 50 лет после его смерти некто Альбрехт фон Шарфенберг решил довести до счастливого конца историю поисков святого Грааля, рассказанную Эшенбахом в «Парцифале», и написал роман «Молодой Титурель», утверждая, что в его основе лежит неопубликованный эпилог «Парцифаля». Чтобы сделать свое утверждение правдоподобным, Альбрехт так рабски следовал в своей книге манере Эшенбаха, что многие исследователи до сих пор убеждены в наличии прямой связи между обеими книгами. Так вот, в финале «Титуреля» святой Грааль найден и благополучно доставлен на вечное хранение — куда бы вы думали? В страну пресвитера Иоанна! Добивать — так добивать окончательно. Если вы помните, папа римский, отвечая «пресвитеру» (ответ датирован 1177 годом), писал, что узнал о нем благодаря просьбе о выделении алтаря. Так вот, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, начиная с 1189 года, действительно был такой алтарь — только принадлежал он ЭФИОПСКОЙ церкви, а пожалован был не крестоносцами, а великим арабским полководцем Саладином, который в 1187 году изгнал крестоносцев из Святого города. Этот переход святых мест в руки мусульман произошел буквально за несколько лет до того, как Вольфрам фон Эшенбах начал писать свой роман о поисках Грааля-Ковчега, а мастера Шартрского собора приступили к созданию скульптур, изображающих историю тогр же загадочно исчезнувшего предмета. Такое совпадение во времени явно не случайно. Человек с живым воображением не может не ощутить во всем этом привкус тайны. Наложение дат, имен и событий слишком уж осязаемо, чтобы от него отмахнуться. И, если вдуматься, то есть только одна правдоподобная гипотеза, которая способна прочертить вразумительный пунктир причинно-следственной связи сквозь всю эту запутанную сеть совпадений и намеков. Отдадим должное Грэму Хэнкоку — он сформулировал этот факт очень четко и убедительно. Гипотеза, навязываемая всей совокупностью отмеченных выше совпадений, формулирует Хэнкок, требует предположить, что захват арабами Иерусалима и изгнание оттуда крестоносцев почему-то заставили размышлять о судьбе Ковчега Завета. Кому-то каким-то образом стало известно, что эта великая реликвия не досталась Саладину, а была спрятана в Эфиопии, причем место его пребывания является величайшим секретом — знать о нем надлежит только «посвященным в тайну». Этот «кто-то» сообщил о тайне Вольфраму фон Эшенбаху; возможно, он же поведал секрет и мастерам из Шартра, ученикам Бернарда Клервоского: этим мастерам, строившим в то время храм Пресвятой Богородицы, которую их учитель Бернард считал мистически связанной с Граалем и Ковчегом, тайна Ковчега наверняка тоже была интересна. Мастера запечатлели основные моменты рассказа в глухих намеках скульптурной процессии, изображенной на колоннах северной арки собора. Что же касается Эшенбаха, то он попытался сохранить и передать потомкам тайну местопребывания Ковчега, только зашифровал все это в форме рассказа о Граале — чтобы поняли только «посвященные». * * *Кто же был этот загадочный «кто-то»? То должен был быть человек (или группа людей), хорошо осведомленный о событиях в далеком Иерусалиме, знавший легенды, связанные с утраченным Ковчегом (в том числе и легенды из эфиопской книги «Кебра Нагаст»), и заинтересованный в сохранении всей этой истории для «посвященных» из следующего поколения. Этот человек (или люди) должен был находиться в Святой Земле уже в момент прибытия туда посланцев «пресвитера Иоанна», то есть в 1145 году, и, по всей видимости, оставался там до прибытия посланцев эфиопского царя, то есть до 1177 года (контакт с этими посланцами мог, кстати говоря, объяснить знакомство с эфиопской легендой о Ковчеге). С другой стороны, этот человек (или люди), до поры до времени хранивший все эти сведения при себе, с какого-то момента стал проявлять решительное желание сохранить их для потомства хотя бы и в зашифрованном виде. И, судя по всему, он имел достаточные связи в Европе, чтобы это желание реализовать — например, через. Вольфрама фон Эшенбаха, подсказав тому облечь сообщение в форму рыцарского романа о Граале. Мысль, построившая эту логическую цепочку, неизбежно и немедленно должна устремиться на поиски следов этого загадочного человека. Но отдельный человек вряд ли способен осуществить такой сложный и разветвленный план. Стало быть, здесь действовала целая группа. Нет ли в истории упоминаний о; какой-то группе, которая, находясь в Иерусалиме, в то же время сохраняла связи с Европой, имела там, недюжинное влияние и к тому же была по каким-то своим причинам заинтересована сохранить для будущего тайну утраченного Ковчега? Стоит нам так поставить вопрос, как мы тотчас вспоминаем, что мы, в сущности, знаем такую группу. О ее могуществе, тайнах и разветвленном влиянии, о ее возникновении и кровавом конце написаны сотни научных трудов и увлекательных романов. И, что самое важное в данном контексте, о ней прямо упоминает сам Эшенбах, который, судя по некоторым сведениям, к группе этой и принадлежал. Речь идет о знаменитом ордене «Нищенствующих рыцарей Иисуса Христа и храма Соломона», а, проще говоря, «храмовниках» или — «тамплиерах» (от французского «temple», то есть «храм»). Основанный в 1118–1119 годах в Иерусалиме, орден этот имел свою — штаб-квартиру как раз на месте бывшего Соломонова Храма — того самого, откуда некогда, в библейские времена, так загадочно исчез Ковчег Завета. После изгнания крестоносцев из Палестины тамплиеры обосновались во Франции, где в начале следующего — XIII — века против них был возбужден знаменитый инквизиторский процесс, закончившийся казнью руководителей ордена и не менее знаменитым проклятием французским королям, которое провозгласил перед смертью великий магистр храмовников (и которое, добавим, не замедлило сбыться). В этом промежутке, между возникновением и исчезновением ордена, тамплиеры, судя по всему, и проникли в тайну Ковчега. Что ж, значит, поиск этой утраченной святыни ведет нас теперь прямиком к недолгой, но бурной истории загадочного, окруженного мистической тайной ордена, и нам остается лишь, перефразируя популярное нынче название «назад в будущее», воскликнуть: вперед в прошлое, и пусть любознательность нам поможет! * * *Итак, мы вернулись в XII век, к истокам рыцарского ордена храмовников-тамплиеров. Согласно гипотезе Хэнкока, именно они находились в центре всех тех загадочных событий, которые разыгрались вокруг утраченного Ковчега. Напомним, в чем состояла загадка. Ковчег Завета, столько раз упоминавшийся в Библии вплоть до нашествия вавилонян, внезапно и без всякого объяснения перестает упоминаться. Складывается впечатление, что Ковчег исчез. То ли евреи взяли его с собой в вавилонский плен, то ли он был спрятан, чтоб не попасть в руки захватчиков, а позже так и не найден. Существует, однако, и третья, куда более романтическая версия: Ковчег был похищен из Иерусалима еще во времена царя Соломона и увезен в другую страну. Эта версия основана на легендах, излагаемых в древнем эфиопском манускрипте «Кобра Нагаст». Там рассказывается, что сын Соломона и знаменитой царицы Савской, Менелик, тайком доставил Ковчег в Эфиопию, где эта священная реликвия находится до сих пор. Каким-то странным образом эта легенда проникла в средневековую Европу. Во времена крестовых походов в Европе неожиданно стали распространяться романы о поисках святого Грааля, который, судя по многим приметам, есть иное имя Ковчега Завета. В одном из самых знаменитых таких романов «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха местопребывание Ковчега-Грааля напрямую связывается с Эфиопией. Легенды «Кобра Нагаст» находят также отражение и в скульптурных изображениях относящегося к той же эпохе Шартрского собора, строители которого были вдохновлены знаменитым религиозным деятелем того времени епископом Бернардом Клервоским. Видимо, кто-то, знавший эфиопскую версию судьбы Ковчега, познакомил с ней и Бернарда и Эшенбаха, а, может быть, и содействовал тому, чтобы эта версия была зашифрована как в «Парцифале», так и в шартрских скульптурах. Проблема осложняется еще одним обстоятельством. Примерно в то же время, когда в Европе вспыхнул неожиданный интерес к судьбе давно утраченного Ковчега, получило распространение странное «Письмо», якобы присланное папе и европейским монархам неким «пресвитером Иоанном», который именовал себя повелителем христианского царства на Востоке и предлагал крестоносцам свою помощь в борьбе с полчищами арабского полководца Саладина. В качестве платы за это он просил выделить его подданным место для молитвы в иерусалимском храме Гроба Господня. Многочисленные факты говорят за то, что «царство пресвитера», если оно вообще существовало, находилось все в той же Эфиопии. Это подтверждается и тем. обстоятельством, что посланцы эфиопских христиан действительно побывали в то время в Иерусалиме и добивались для себя такого места в храме. (Они и получили его, но только после захвата города Саладином в 1187 году.) И словно для того, чтобы окончательно запутать всю историю, в романе «Молодой Титурель», продолжившем и завершившем эпопею поисков Грааля-Ковчега; местом его окончательного упокоения было названо «царство пресвитера Иоанна». Теперь уже и непосвященному становится ясно, что нити загадки тянутся в Палестину и Эфиопию времен крестовых походов, и остается лишь опознать тех людей, которые были связаны с этими местами и обладали достаточным влиянием, чтобы внушить европейцам мысль о том, что Ковчег существует и находится в Эфиопии. Заслуга Хэнкока состоит в том, что он такую «подходящую» группу людей нашел. Согласно его гипотезе, то были члены знаменитого рыцарского ордена тамплиеров. Действительно, история этого ордена с первых же шагов связана с Палестиной. В 1119 году, когда палестинское государство крестоносцев возглавлял король Болдуин, девять французских аристократов прибыли в Иерусалим и попросили разрешения основать здесь новое «Братство бедных рыцарей Христовых и Соломонова Храма», в просторечье — храмовников, или тамплиеров. Болдуин разрешил им построить здание на Храмовой горе, неподалеку от мечети Эль-Акса. Храмовники заявили, что их главной задачей будет охрана дороги Иерусалим-Яффа от нападений арабских отрядов. На самом же деле охраной они почти не занимались — это вполне успешно делали их конкуренты из ордена иоаннитов. Храмовники же занимались чем-то другим. Судя по сохранившимся сведениям, они усиленно исследовали недра Храмовой горы. Спустя почти 800 лет израильские археологи обнаружили пробитый ими туннель, уходивший далеко под основание Эль-Аксы — туда, где в Соломоновы времена находилось основание Первого Храма. Что именно искали там храмовники, неизвестно — этот орден с самого начала окружил свою деятельность непроницаемой завесой тайны. Нарушителям клятвы молчания грозило исключение из ордена и суровое наказание. Можно, однако, догадаться, что воображение; храмовников, по всей видимости, воспламеняла еврейская легенда, согласно которой в недрах Храмовой горы спрятаны сокровища древнего Храма, в том числе и сам Ковчег Завета. Надежда на обретение этих древних реликвий сыграла немалую роль в истории крестовых походов вообще. Как пишет в своем исследовании «Поиски Грааля» Эмма Юнг (жена знаменитого Карла Густава Юнга), «глубоко укорененная в средневековом воображении мысль о «скрытых сокровищах» была одной из причин того, что призыв к освобождению Гроба Господня вызвал такой мощный отклик во всей тогдашней Европе». Видимо, первые храмовники не нашли того, что искали, потому что семь лет спустя они вернулись в Европу и здесь обратились за помощью к уже упоминавшемуся Бернарду Клервоскому (среди членов «девятки» был родной дядя епископа). По настоянию Бернарда церковь собрала специальный собор в Труа и утвердила там новый орден и его устав. В уставе ничего не говорилось о тайных целях ордена, но один из более поздних источников утверждает, что «истинной задачей храмовников были поиски свитков, запечатлевших тайные традиции древних евреев и египтян». Бернард начал чуть не в каждой проповеди прославлять новый орден и призывать к вступлению в него. Толпы молодых людей хлынули в ряды храмовников, и уже к концу века их орден стал одним из самых могущественных, самых богатых и, добавим, самых засекреченных среди европейских монашеских орденов того времени. * * *Хэнкок полагает, что первые храмовники все же что-то нашли. Не Ковчег, конечно, — об этом сразу стало бы широко известно, но, возможно, какие-нибудь древние рукописи. Во всяком случае, именно со времен храмовников в Европе — под влиянием того же Бернарда — зарождается совершенно новая, готическая архитектура, одним из первых образцов которой и был Шартрский собор. Не исключено, говорит Хэнкок, что эта архитектура и была воплощением «древних традиций», открытых храмовниками в каких-то документах, относящихся к постройке Первого Храма. Как я уже сказал, Шартрский собор впервые отразил в своих скульптурах эфиопскую легенду о похищении Ковчега Менеликом. А вслед за тем — почти в те же годы легенда эта проникла и в рыцарский роман о поисках Грааля — с легкой руки Эшенбаха и его продолжателей. Можно думать, что и она пришла в Европу через храмовников. Вспомним, что храмовники должны были стать свидетелями прибытия в Иерусалим посланцев эфиопских христиан. От них они могли узнать и о существовании в Эфиопии огромного христианского царства, и о легендах, изложенных в манускрипте «Кобра Нагаст». Первая новость могла положить начало слухам о «царстве пресвитера Иоанна» — тем более что официальный титул тогдашних эфиопских царей включал слово «Иан» (произведенный от «Иано», что означало пурпурное одеяние царей), а это слово легко могло превратиться в европейское «Иоанн». Что же до второй новости — о местонахождении исчезнувшего Ковчега, — то она тем более могла подхлестнуть воображение храмовников, которые вот уже долгие годы разыскивали эту реликвию. Более того, она могла дать новый толчок этим заглохшим к тому времени поискам. Подтвердить или опровергнуть все эти догадки могут только детальные исследования. Прежде всего, необходимо установить, не содержится ли в источниках упоминаний о связях между храмовниками и Эфиопией. История тогдашней Эфиопии известна относительно неплохо. Примерно в 1000 г. н. э. здесь была свергнута царствовавшая до того династия потомков Менелика, этого легендарного сына Соломона и царицы Савской, и на престол взошла некая Гудит (возможно — Йегудит), предводительница эфиопских еврейских племен, давно воевавших с христианскими царями страны. Однако в северной части Эфиопии сохранилась власть другой Династии, Загве, и царем ее во второй половине XII века стал некто Харбай. Свое правление он начал с того, что изгнал из страны младшего брата Лалибелу, опасаясь, что тот покусится на трон. В 1160 году Лалибела бежал из Эфиопии в Иерусалим, где и провел последующие четверть века. Отметим несомненную возможность прямого контакта Лалибелы с Иерусалимскими храмовниками и пересказа им эфиопской легенды о судьбе Ковчега. Но, прежде чем вдаваться в последствия этого знакомства, проследим за дальнейшей судьбой изгнанного принца. В 1185 году, после смерти Харбая, он вернулся в Эфиопию, вступил на трон и перенес столицу царства в свой родной город Роха. Здесь он воздвиг 11 великолепных христианских церквей, высеченных из монолитных скал (они сохранились до наших дней и совсем недавно — решением ЮНЕСКО — объявлены одними из Величайших архитектурных памятников мира, подлежащих тщательной охране). В память о своем пребывании в Иерусалиме Лалибела переименовал реку, текущую через город, в Иордан, а холм над нею — в «Дебра Зейт» («Масличную гору»). Судя по всему, он хотел превратить Роху в Новый Иерусалим — неслучайно одна из новых церквей получила название «Бета Голгота», по аналогии с иерусалимским Храмом Гроба Господня, где Лалибела получил от Саладина специальный «эфиопский алтарь». Чтобы закончить историю принца, скажем еще, что вскоре после его смерти династия Загве сошла со сцены — ее последний монарх отрекся от трона в пользу потомков Менелйка, и с 1270 года династия этих «Соломонидов» продолжала царствовать в Эфиопии: ее последним представителем был император Хайле Селассие, свергнутый марксистами в 1974 году. А теперь вернемся к храмовникам-тамплиерам. Мы отметили возможность их личного знакомства с Лалибелой, а через него — с легендами эфиопской книги «Кебра Нагаст». Косвенным подтверждением этого знакомства являются все упомянутые выше факты, говорящие о том, что именно с этого момента начинается распространение в Европе «эфиопской версии» судьбы Ковчега, причем — прежде всего в, кругах, связанных с тамплиерами: через Бернарда Клервоского и Вольфрама фон Эшенбаха. О связях Бернарда с храмовниками мы уже говорили; что же; касается Эшенбаха; то согласно некоторым источникам ом сам был тайным членом этого ордена. Более того, перед тем как приступить к своему роману, он, по слухам, побывал в Иерусалиме. Но самое интересное состоит в том, что в своем «Парцифале» Эшенбах прямо пишет, что «хранителями Грааля» (а Грааль. у него, судя по всему, символ или шифр Ковчега) были «рыцари достойнейшего ордена тамплиеров». Если исходить из того, что в тексте «Парцифаля» зашифрованы реальные события, поведанные Эшенбаху иерусалимскими храмовниками, то из этого следует, что они действительно добрались до местонахождения Ковчега. А этим местом была, если верить легендам «Кебра Нагаст», Эфиопия. Не могло ли быть так, что, познакомившись с Лалибелой и узнав от него, что Ковчег хранится в Эфиопии, храмовники последовали за принцем, когда он вернулся на свою родину? Глухие намеки на такую возможность содержатся в том же «Парцифале». Эшенбах, упомянув, что хранителями Грааля-Ковчега являются тамплиеры, сообщает далее такую странную подробность: «Бог повелел им помогать, изгнанникам вернуть свои законные права… И если какая-нибудь страна потеряла своего повелителя и ее люди просят нового монарха из Братства Грааля, Бог отвечает на их молитвы и посылает людей этого Братства в великой тайне». Не слышен ли здесь отзвук реальной истории принца Лалибелы, изгнанного своим братом из Эфиопии и возвратившего себе трон после смерти Харбая? Если так, то слова Эшенбаха следует понимать буквально: воцарение Лалибелы совершилось с тайной помощью «Братства Грааля», то есть тамплиеров. Тому есть еще одно «перекрестное» доказательство. Вчитываясь в пресловутое «Письмо пресвитера Иоанна», Хэнкок подметил в нем один загадочный пассаж: рассказывая о могуществе своей армии, автор неожиданно добавляет: «Есть среди нас и французы, из тех, что сражаются с сарацинами (явный намек на иерусалимских крестоносцев. — Р.Н.). Вы (имеются в виду адресаты письма: папа и европейские монархи) им доверяете, но на самом деле они лживы и коварны, поэтому соберитесь с мужеством и предайте казни этих коварных тамплиеров». Теперь, зная историческую обстановку, в которой появилось «Письмо», и, зная, что «царством пресвитера Иоанна» скорее всего, была тогдашняя Эфиопия царя Харбая (появление «Письма» в. Европе датируется 1165 годом), мы легко можем объяснить все эти странности. По-видимому, храмовники, движимые стремлением проникнуть в страну, где находился вожделенный Ковчег, предложили Лалибеле свою помощь в свержении Харбая, а, возможно, и направили в Эфиопию отряд своих рыцарей. Первые попытки свергнуть Харбая успехом не увенчались (мы знаем, что Лалибела воцарился лишь в 1185 году), но они достаточно напугали царя, чтобы тот начал искать в Европе союзников в борьбе с тамплиерами, — отсюда его «Письмо» с предложением помощи в борьбе с Саладином, расхваливанием своего могущества и призывом к военному союзу. Атмосфера секретности и тайны, неизменно окружавшая дела храмовников, окутала и эту первую; их вылазку — военную экспедицию из Иерусалима в Эфиопию. Но простая логика подсказывает, что тамплиеры не могли на этом успокоиться, тем более что в 1185 году им представился редчайший шанс: смерть Харбая и воцарение их давнего знакомого Лалибелы. Могли ли они не воспользоваться этим обстоятельством для новой попытки обрести Ковчег? Но если дело обстояло так, то в Эфиопии могли сохраниться следы их пребывания. И Хэнкок такие следы обнаружил! Первый след запечатлен, оказывается, все в том же эшенбаховском «Парцифале», только раньше его никто не замечал, потому что не искал. Поведав о том, что «Братство Грааля» помогает изгнанным монархам вернуть свои права, Эшенбах приводит далее рассказ одного из членов «Братства» об одной такой благодетельной экспедиции «далеко в Африку… за Роху»! Исследователи романа, не имея никакого понятия о Лалибеле и эфиопских связях тамплиеров (и начисто игнорируя упоминание об «Африке»), простодушно расшифровали слово «Роха» как искаженное название Роховой горы в австрийской Штирии. Хэнкок же, с его пристальным вниманием ко всему «эфиопскому», тотчас опознал в Рохе — Роху, название столицы Эфиопии при Лалибеле. Но мало того. Перебирая записи, сделанные во время посещения Эфиопии в 1983 году, Хэнкок обнаружил пометку: «Расспросить специалистов о значении красного креста». Речь шла о странном красном кресте, который он увидел на стене одного из знаменитых храмов в Рохе. Крест был необычный: он был образован четырьмя треугольниками, а не двумя перпендикулярными прямыми, как обычно. Теперь, погрузившись в изучение истории тамплиеров, Хэнкок сам ответил на свой вопрос: это был тот самый крест, который на соборе в Труа был утвержден в качестве символа ордена храмовников! * * *Как это обычно бывает, одно открытие повлекло за собой цепь других. Историков давно волновала загадка Рохских скальных храмов. Их архитектурные особенности отдаленно напоминали стиль только что возникшей в Европе готической архитектуры, а их инженерно-технические данные намного превосходили возможности тогдашних эфиопских строителей. Теперь на основании прослеженных взаимосвязей, можно было предположить, что в создании этих храмов участвовали те же люди, которые вдохновили появление европейской готики, — иерусалимские тамплиеры. И Хэнкок нашел подтверждение этой смелой гипотезе. В старинной книге путешественника XVI века падре Франсиско Альвареца, посетившего Эфиопию в 1520–1526 гг., он обнаружил описание храмов Лалибелы, завершавшееся словами: «И они рассказали мне, что вся эта работа была завершена за 24 года и была сделана белыми людьми по приказу царя Лалибелы». Итак, тамплиеры, видимо, действительно последовали за Лалибелой в Эфиопию и оставались. в ней достаточно долго, помогая строить знаменитые храмы Рохи, а заодно, вероятно, занимаясь и собственными поисками утраченного Ковчега. И, если мы хотим узнать историю этих поисков, нам не миновать еще большего погружения в тайную историю ордена храмовников. История эта не менее увлекательна и загадочна, чем история самого Ковчега, и обещает повести нас сквозь века и события, под знакомым обликом которых нам откроется теперь нить запутанной исторической интриги. С падением государства крестоносцев орден тамплиеров окончательно перебрался в Европу. На протяжении всего XIII века орден усиливался и обогащался. Его финансовые связи охватывали все главные европейские столицы. Во Франции представители ордена не раз заведовали финансами всего государства. И все это время тамплиеры, по всей видимости, поддерживали тайные контакты со своими соратниками, оставшимися в далекой Эфиопии — стране исчезнувшего Ковчега. Что они искали там? Если сам Ковчег, то благодаря близости ко двору эфиопских христианских царей, которым именно тамплиеры помогли вернуться на трон, они давно должны были открыть тайну его местонахождения. Тогда остается предположить, что они ждали удобного момента, когда можно будет похитить великую реликвию и доставить ее в Европу. Обладание религиозными реликвиями, мощами и святынями возвысило уже не один европейский средневековый монастырь и монашеский орден. Понятно; что орден, располагающий такой реликвией, как Ковчег Завета, мог рассчитывать на еще большую славу, а, стало быть, — и на власть над умами современников. Поэтому гипотезу о стремлении тамплиеров обрести Ковчег нельзя сбрасывать со счетов. Но что, если в Эфиопии они — Ковчега не нашли и продолжали безрезультатные поиски, уверовав в истинность эфиопских легенд, изложенных в манускрипте «Кебра Нагаст»? Что еще, кроме этого манускрипта да туманных намеков в романе Вольфрама фон Эшенбаха (восходивших, судя по всему, к тому же манускрипту), могло свидетельствовать, что Ковчег действительно находится в Эфиопии? Разумный вопрос. Попробуем на него ответить. Прежде всего, вспомним, что чуть ли не во всех эфиопских христианских храмах — и это удостоверяется всеми, кто побывал в современной Эфиопии, — хранятся особые реликвии, так называемые «табот», которые сами эфиопы называют «табот Моисея». В дни богослужений эти табот играют центральную роль во всей церемонии. Знатоки эфиопских легенд утверждают, что табот — это копии Ковчега, оригинал которого хранится в храме девы Марии в Аксуме, куда он был привезен родоначальником эфиопской царской династии Менеликом из поездки к своему отцу, царю Соломону. Но табот — всего лишь прямоугольные деревянные бруски, к тому же весьма небольшого размера. Как они могут быть копиями Ковчега? Те же знатоки дают ответ и на этот вопрос. Конечно, бруски — не Ковчег и даже не его копия. Правильней сказать, они копия того, что некогда содержалось в Ковчеге, — копия Скрижалей Завета, с которыми Моисей спустился с горы Синай. Это уже звучит убедительней. Скрижали действительно изображаются в виде двух прямоугольных пластин с надписями. Вполне вероятно, что древние эфиопы перенесли представление о самом Ковчеге на то, что в нем хранилось, на святая святых — Моисеевы Скрижали. Отсюда могло пойти и выражение «табот Моисея». Такая гипотеза тотчас находит филологическое подтверждение. В иврите Ковчег всегда именуется «арон», то есть «ящик». Но есть в этом языке и еще одно слово, означающее ящик или контейнер. И слово это — «тейва». Оно встречается в Библии дважды; когда описывается Ноев ковчег и в рассказе о корзине, в которую мать положила младенца Моисея. Очень многозначительные совпадения. И очевидно также, что из «тейва» легко произвести «табот».1:0 в пользу легенды «Кебра Нагаст». Такова первая ниточка. Но она немедленно введет к вопросу: как могло быть заимствовано древнее и редко употребляемое еврейское слово эфиопскими христианами? Да и вообще, откуда взялись в Эфиопии христиане во времена царя Соломона? Уж если кто и мог принести Ковчег в тогдашнюю Эфиопию и хранить его там веками до появления первых христиан, то только евреи. Но разве эфиопские евреи такой древний народ? Еще один разумный вопрос. Он заставляет присмотреться к истории эфиопских евреев. Что мы о них знаем? Сегодня фалаши — это граждане Израиля. Но фалаши — всего лишь остатки эфиопского еврейства. Источники говорят, что некогда евреи в той стране были куда могущественней и многочисленней. Легенды из «Кебра Нагаст» выводят их все от того же Менелика I, сына Соломона и царицы Савской. А на самом деле? Многие авторы утверждают, что иудаизм в Эфиопии появился сравнительно недавно, что-то около начала новой эры, после разрушения Второго Храма, когда евреи бежали из Палестины и рассеивались по всему свету. Эти авторы считают, что первые евреи пришли в Эфиопию из Йемена, где в ту пору возникла крупная еврейская община (просуществовавшая до наших дней). И было это, значит, в первых веках новой эры. Рассуждение вполне логичное, но не учитывающее некоторых странных особенностей эфиопского иудаизма. Во-первых, эфиопские евреи ничего не знают о таких праздниках, как Ханука и даже Пурим. Между тем праздник Хануки был установлен в честь освобождения Иерусалима Маккавеями уже во II в. до н. э., а праздник Пурим — и того раньше: у евреев Эрец-Исраэль он начал входить в моду в конце V в. до н. э. Неизвестен эфиопским евреям и запрет на жертвоприношения вне Храма. В момент создания Храма царем Соломоном (X в. до н. э.) этот запрет еще не был абсолютным, и многие евреи, следуя древним обычаям (времен скитаний в пустыне), приносили жертвы просто на камне, расположенном в центре деревни. Но в конце VII века (опять же, до новой эры) царь Иошиягу (Иосия) наложил окончательный запрет на этот обычай. Что же получается? Эфиопские евреи следуют обычаям, существовавшим в Эрец-Исраэль до VII века, и не знают обычаев, запретов и праздников, возникших позже. Почему? Самое естественное объяснение этому состоит в предположении, что их связь с материнской еврейской общиной прервалась ранее VII в. до н. э. Стало быть, они никак не могут быть потомками йеменских евреев — община в Йемене возникла на много столетий позже. Но если евреи появились в Эфиопии за 7–8 веков до новой эры, то это почти совпадает со временами царствования Соломона! 2:0 в пользу легенды о Менелике. Если за плечами эфиопских евреев столько веков, можно ли хоть отчасти восстановить их древнюю историю? Выясняется, что и здесь кое-что поддается логической реконструкции. Авторитетный эфиопский источник «История и генеалогия древних царей» утверждает: «Христианство пришло в Абиссинию через 331 год после рождения Христа. До этого половину населения составляли евреи, исповедовавшие иудаизм, а вторую половину — поклонники дракона». Шотландский исследователь Брюс (первооткрыватель истоков Нила), хорошо знакомый с эфиопской древностью, продолжает: «Эфиопские евреи видели в новой христианской религии опасную ересь. Поэтому они объединились для борьбы с ней под руководством принца из рода Менелика, сына, Соломона. Но эфиопские христиане тоже провозгласили, что их цари ведут свою генеалогию от Соломона. Наличие двух царей с одинаковыми генеалогическими претензиями привело к многочисленным войнам». Пока шла и развивалась история европейских евреев — сначала в их гетто, а потом в эпоху эмансипации, в далекой Эфиопии их черные соплеменники вели, оказывается, многовековые кровавые войны в защиту своей веры и своего государства от посягательств христиан. И были не раз близки к победе. Зря говорят, будто в рассеянии евреи утратили искусство управлять и воевать… Еврейско-христианские войны в Эфиопии выплеснулись даже за пределы страны; в VI в. н. э. христианский царь Калеб собрал огромное войско для похода на йеменских евреев. В эфиопских хрониках этому царю приписываются самые кровожадные высказывания против евреев и угроза «разрубить их всех на куски». Видимо, у Калеба недостало сил для выполнения своей угрозы: в IX–X веках инициативу в войне захватили евреи под предводительством уже упоминавшейся нами царицы Гудит (или Йегудит), и «соломонова династия» эфиопских христианских царей, правивших в Северной Эфиопии, была свергнута. Ее сменила династия Загве, одним из последних представителей которой был хорошо знакомый нам Лалибела. Существуют смутные указания на то, что цари Загве поначалу сами склонялись к иудаизму или даже вообще были евреями. Позже, однако, они впали в христианство, и война возобновилась. Путешественник XVI века, католический епископ из Овьедо, утверждает, что фалаши, укрывшиеся в горной области юга страны, наносили христианам чувствительные удары. Но в начале XVII века на эфиопский трон взошел император Суснеос, который приступил к систематическому истреблению евреев. В. течение 30 лет погром следовал за погромом, и если в середине XVII века фалаши еще насчитывали около полумиллиона человек, то к концу столетия их было уже почти вдвое меньше. По сведениям еврейского автора XIX века Иосифа Галеви, в его время численность фалашей не превышала 150 тысяч. А к концу нашего века осталось менее трети этого числа. * * *Какое отношение ко всей этой истории имел утраченный Ковчег? Самое прямое. В эпосе «Кебра Нагаст» имеется о том важное упоминание: «И сказал Господь людям Гебра Маскаль (по-эфиопски, «рабам Креста» — М.В.): выбирайте между колесницей и Сионом. И заставил их выбрать Сион. А людям «Бета Исраэль» (самоназвание эфиопских евреев. — М.В.) дал колесницу…» Иными словами, борьба между эфиопскими евреями и христианами шла, в частности, за обладание реликвиями, почитавшимися каждой из этих религий; а в конечном счете, христиане получили «Сион», то есть Ковчег, а евреи удовольствовались каким-то «вторым призом» («колесницей»). Так Ковчег, если верить всем этим рассказам, оказался в руках христианских царей. Поэтому поиски храмовников вовсе не были погоней за миражом. Евреи, видимо, действительно пришли в Эфиопию во времена Соломона, и потому в легенде о похищении ими Ковчега могло содержаться зерно истины — это раз; Ковчег, видимо, действительно перешел позднее от евреев к христианам, и Лалибеле, как их царю, могло быть известно его местонахождение — это два. Значит: Ковчег нужно искать в Эфиопии. Тогда почему храмовники не наложили свою тяжелую рыцарскую лапу на эту величайшую реликвию? А, судя по тому, что Ковчег в Европе так и не объявился, видимо — не наложили. Но кто сейчас способен проникнуть в запутанные тайны тогдашних времен, тем более в дела и интриги небольшого тамплиерского отряда, покинувшего Палестину вместе с Лалибелой ради Эфиопии и Ковчега? Можно допустить, что силы эфиопских тамплиеров были попросту слишком малы. В результате им пришлось ограничиться наблюдением и ожиданием подходящего момента — смуты, например, или войны, когда Ковчег будут перепрятывать и подвернется возможность его похитить. Как бы то ни было, существует одна странная деталь, которая позволяет предположить, что в какой-то момент тамплиеры были на грани осуществления своего дерзкого плана. Деталь эта — события знаменитой «черной пятницы» 13 октября 1307 года. Любители истории знают эту дату. В этот день король Франции Филипп Красивый неожиданно обрушился на орден тамплиеров. Все французские члены ордена были арестованы и брошены в тюрьму. К ночи с четверга на пятницу в кандалы было заковано уже 15 тысяч храмовников. Позже многие из них, включая верховного магистра, были сожжены, сам орден — запрещен, а его огромное имущество — конфисковано. Одновременно преследования тамплиеров развернулись почти во всех европейских странах. Эта грандиозная единовременная акция до сих пор вызывает недоумения историков. Что ее вызвало? Одни говорят, что Филипп, отчаянно нуждавшийся в деньгах, попросту хотел поживиться богатствами тамплиеров. А поскольку местопребыванием папы был тогда французский город Авиньон (знаменитое «авиньонское пленение» пап) и папа Клемент V, что называется, «кормился из рук французской короны», то есть полностью зависел от нее, его нетрудно было убедить опубликовать буллу, объявлявшую орден храмовников «еретическим». Эта булла дала Филиппу формальный повод для акций «черной пятницы». Другие утверждают, что папа не был просто французской марионеткой — у него у самого якобы были вполне реальные основания объявить орден храмовников еретическим. По тогдашней Европе упорно ходили слухи, что все собрания ордена, проходившие, как правило, в глубокой тайне, начинались с ритуала целования гениталий и ануса обнаженного мужчины, который возлежал в центре зала собраний наподобие распятого Христа. Разумеется, это могло быть всего лишь одним из вариантов распространенных в те темные (да и в более поздние светлые) времена поверий о «черной, или сатанинской, мессе»; но вполне возможно, что рыцарей ордена тамплиеров и впрямь скрепляла какая-то реальная гомосексуальная связь (мы очень мало знаем о тайных гомосексуальных братствах средневековой Европы, но вспомним, что нить гомосексуализма пронизывает ткань европейской культуры еще с эллинских времен). Возможна, однако, и третья гипотеза, и вот она-то связана с нашим Ковчегом. Раньше никто такой связи не искал просто потому, что никто не искал и сам Ковчег. Но стоило заняться этими поисками, как в эфиопских источниках тотчас обнаружилось поразительное упоминание: оказывается, в 1306 году, то есть ровно через год после избрания Клемента V папой и ровно за год до разгрома тамплиеров, к папе в Авиньон прибыла высокопоставленная делегация, направленная тогдашним эфиопским царем Ведомом Арадом, и притом — с какой-то тайной миссией! Мало того: это сообщение подтверждается и независимым европейским источником — книгой генуэзского картографа Джиованни де Кариньяно. Почему оно так важно? А вот почему. Как вы помните, в конце XII века на эфиопский христианский престол взошел Лалибела. По нашему предположению, ему помогли в этом тамплиеры. В благодарность за эту помощь он позволил им остаться в Эфиопии (мы уже приводили доказательства их многолетнего пребывания там). Можно думать, что тамплиеры оставались в стране и при последующих царях династии Загве. Но в 1270 году эта династия уступила место монархам «соломоновой династии». Тот эпос «Кобра Нагаст», о котором мы так часто упоминали, был записан при первом же царе этой восстановленной династии. Превращение устной легенды в сакральный письменный текст было явно предназначено для утверждения династических претензий царя — ведь «Кебра Нагаст» утверждала, что новая династия ведет начало от Менелика, сына Соломона, и является хранительницей великого Ковчега. Логика подсказывает, что цари новой династии должны были проявлять враждебность ко всему, что связано с царями Загве, в том числе и к тамплиерам. К последним они должны были к тому же относиться с подозрением: уж очень липли к Ковчегу эти европейцы. А, кроме того, у них были связи с могущественными единоверцами в Европе, и они могли любой момент призвать к себе на помощь целые отряды собратьев-тамплиеров из Франции и других стран. А теперь представим себе, что, вдобавок ко всему этому, цари — «Соломониды» знают, что тамплиеры замышляют похитить Ковчег! Первые цари восстановленной «соломоновой династии» Екуно Амлак и Ягба Цион были слабы и не знали, как избавиться от этой тамплиерской напасти. Но третий, Ведем Арад, правивший с 12(?) по 1314 год, был, видимо, уже достаточно силен и хитер, чтобы придумать: нужно войти в контакт с теми в Европе, кому тамплиеры кажутся подозрительными и опасными. Нужно известить их, что здешние, эфиопские тамплиеры намереваются похитить великую святыню, Ковчег Завета, и доставить ее в Европу. Этого нельзя допустить — могущество ордена станет тогда неодолимым. Он будет диктовать свою волю королям и папам. Орден лучше всего уничтожить. Не будем настаивать, что все происходило именно так. Наш сценарий слишком прямолинеен. История движется более сложными путями. Но совпадения и интриги истории помогают. И наш сценарий помогает разглядеть еще одну возможную ниточку в клубке причин, приведших к разгрому тамплиеров. Кроме того, он удовлетворительно объясняет, почему тамплиерская авантюра с Ковчегом не увенчалась успехом. И что же — исчезли тамплиеры, кончились и поиски Ковчега? Прервалась великая традиция рыцарских поисков святого Грааля? Ничего подобного: Грааль — уже скорее по литературной инерции — продолжали искать еще долгие века (припомним «Дон Кихота»), а судьба тамплиеров и Ковчега так и подмывает меня воскликнуть вслед за Гоголем: «Отыскался след Тарасов!» Мы сказали выше, что орден храмовников был одновременно разгромлен почти во всех европейских странах. Эта оговорка — «почти» — очень важна. Потому что нашлись две страны, где тамплиеры уцелели. И обратите внимание — какие именно страны: Шотландия и Португалия. Вы спросите: а что в них особенного, в этих двух странах? Особенное в них то, что каждая из них в последующие века оказалась активно причастна к путешествиям в Эфиопию. Не куда-нибудь, а именно в Эфиопию. Нет, согласитесь, это явно неспроста… Но если бы только путешествиями в Эфиопию славились эти страны. Так ведь и сами эти путешествия были какими-то особенными, «со значением». Только присмотритесь — и у вас тоже голова пойдет кругом. Самым известным шотландским путешественником в Эфиопию (и, добавим, человеком, который впервые привез в Европу манускрипт «Кебра Нагаст») был некто иной, как упомянутый нами Брюс, первооткрыватель истоков Нила. И кем же был этот Брюс, потомок шотландских королей Брюсов? МАСОНОМ он был, Джеймс Брюс, членом общества вольных каменщиков, старейшая шотландская ложа которого (Кильвиининг) была основана королем Робертом Брюсом… И из кого бы, вы думали, состояла эта ложа? Из потомков шотландских и сумевших бежать из Франции тамплиеров! Если вы помните, именно тамплиеры, по некоторым предположениям, были теми, кто постиг в Иерусалиме тайны древней египетской и еврейской архитектуры и на основе этих тайн создал и распространил по всей Европе каноны средневековой готики. Кому же, как не им, быть создателями ордена вольных каменщиков?! И кому же, как не каменщикам-масонам искать в Эфиопии следы того самого Ковчега, который искали (а по слухам, даже нашли, но снова потеряли) их предшественники-тамплиеры?! Теперь-то мы понимаем, зачем Джеймсу Брюсу, масону и продолжателю тамплиерского поиска, нужна была «Кебра Нагаст»! Что же касается Португалии, то тут изучение продолжения истории тамплиеров вскрывает не менее удивительные тайные пружины вполне известных, казалось бы, событий. Португальский король хоть формально и распустил орден храмовников, но почти сразу же разрешил создать другой орден — Воинство Христово, в который влились уцелевшие португальские тамплиеры и их бежавшие из Испании собратья. Воинство Христово еще долгие века сохраняло большое влияние при лиссабонском дворе, и в начале XV века ее великим магистром был брат тогдашнего короля Генриха. Не исключено, что вы знаете этого Генриха, только под другим именем. В истории путешествий и географических открытий он известен как Генрих-Мореплаватель. Ибо страсть этого человека к морю и морским путешествиям была столь велика, что ради нее он отказался даже от претензий на престол и всю свою жизнь посвятил организации португальских экспедиций вокруг Африки. И что же искали там посылаемые им капитаны? Вы, конечно, уже догадались. Ну, да — царство пресвитера Иоанна, легендарное христианское государство в Эфиопии. Видимо, не из личного каприза или пристрастия к легендам искал принц Генрих эту страну. Иначе не случилось бы так, что человек, родившийся в год смерти принца и совершивший свое великое мореплавание 30 с лишним лет спустя, тоже искал это царство, жадно собирал сведения о нем в каждом африканском порту и только потому не достиг «земли обетованной», что она лежала далеко от берега, в глубинах черного континента. Этот человек вам тоже известен — Васко де Гама, первооткрыватель морского пути из Европы в Индию, совершивший свое плавание в 1497 году (принц Генрих умер в 1460-м). Судите сами, добавляет ли что-нибудь к нашим знаниям то обстоятельство, что, подобно Генриху-Мореплавателю, Васко де Гама тоже был членом братства Воинства Христова… * * *Не слишком ли много совпадений? Все исторические намеки, все упоминания в источниках и глухие отголоски в рыцарских романах, нити многовековых интриг и холодная логика рассуждения — все стягивается к одному и тому же простому утверждению: Ковчег не исчез — он находится в Эфиопии. И теперь, подведя базу под это исходное утверждение Грэма Хэнкока, любознательного английского журналиста и. автора книги «Знак и печать» (где эта гипотеза изложена и обоснована куда более подробно и занимательно), я вынужден поставить последний вопрос: верна ли эта гипотеза? Прежде чем ответить на него, я позволю себе еще сказать, что в 1991 году Грэм Хэнкок, окончательно убедив себя в том, что Ковчег находится в Эфиопии, направился в эту страну снова. В Аксуме он разыскал церковь девы Марии и попросил у хранителя храма разрешения взглянуть на церковную святыню. Ведь, говорят, здесь хранится сам Ковчег Завета, не так ли? Хранитель едва заметно кивнул. — Можно ли увидеть эту реликвию? Такой же еле заметный, но на сей раз отрицательный кивок: — К святыне не разрешено приближаться даже патриарху. — Ну, расскажите хотя бы, как она выглядит! — Об этом запрещено говорить. — Хорошо, ответьте тогда: вот завтра должна состояться самая важная из религиозных церемоний года — вынесут на нее сам Ковчег Завета или это опять будет копия? — Вы увидите это завтра сами. То, что увидел наутро Хэнкок, было еще одной копией пресловутого Ковчега — очень похожей, но, несомненно, копией. Но он увидел и другое: хранитель не пошел вместе с процессией. Хранитель остался в храме, удалился в Святая Святых и там молился за занавеской. «Перед чем он возносил молитвы? — вопрошает в конце своей книги Хэнкок. — Перед чем он молился, если не перед великой реликвией, которая считается такой святой, что ее не хотят выносить даже на самые главные религиозные церемонии? Перед чем еще он мог молиться, если не перед Ковчегом Завета?!» Таков ответ Хэнкока — человека, глубоко увлеченного своим поиском и своей гипотезой. Мы же ответим проще. Не так уж важно, хранится ли в Эфиопии подлинный Ковчег. Может быть, его давно уже нет. Может быть, он исчез в Вавилонии. А, может быть, ждет археологов в глубинах Храмовой горы, как считал покойный главный израильский раввин Шломо Горен. Повторим, это не так уж важно. Важно другое: эта реликвия «легла на сердце» эфиопским евреям (а от них эфиопским христианам), как когда-то русским — Богородица, а не сам Христос. Храмов Богородицы, ее Рождества, Покрова, Успенья и так далее, на Руси куда больше, чем храмов Христа, — наверно, не меньше, чем у эфиопских христиан «табот Моисея», этих «копий Ковчега». И, может, в этом культе Ковчега, возникшем, вероятно, еще у первых эфиопских евреев, было что-то от желания сравняться славой с еврейством Эрец-Исраэль, страны Соломона; а, может, и горечи от ощущения себя «последним сохранившимся (и сохраняющим реликвии) коленом Израилевым» после увода палестинского еврейства в вавилонский плен!.. Как бы то ни было, легенда о первом эфиопском царе Менеликс, сыне Соломона и царицы Савской, похитившем Ковчег из Иерусалимского Храма и доставившем его в Эфиопию, возникла, укрепилась, стала народной и дала начало культу Ковчега и традиции «табот». Этот культ и традиция распространились столь повсеместно и укоренились так глубоко, что даже если Ковчега в Эфиопии нет, она все равно заслуживает названия «Страны Ковчега». И поэтому Хэнкок прав: если искать следы Ковчега — то только в Эфиопии… Однако главное достоинство его книги состоит все-таки не в этом, а в том, что, подобно многим другим, столь же масштабным трудам о «гипотетической истории» (например, Иммануила Великовского), она делает нас свидетелями напряженного интеллектуального поиска. И подлинный ее герой — не утраченный Ковчег Завета, а та настойчивая, ищущая, любознательная мысль, что, словно ткацкий челнок, неутомимо снует между веками и эпохами, людьми и событиями и на наших глазах сшивает их все в единую ткань занимательного рассказа. >ЧАСТЬ 4 БИБЛИЯ И НАУКА >ГЛАВА 1 БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Название этой «интерлюдии» я заимствовал у одного из любимых мною фантастов Джеймса Морроу, а номер поставил свой — потому что он продолжает начатый в предыдущей главе разговор об авторстве ТАНАХа, точнее — Торы. Как мы теперь уже знаем, критическое исследование библейского текста началось уже давно, и к сегодняшнему дню установлено, что авторов у Торы было по меньшей мере четыре. Первый и самый древний из них, написавший основную часть книг Бытия, Исхода и Чисел, обозначается буквой J, так как в его рассказе Б-г всегда именуется Jahweh (в славянской традиции — Ягве); последующие именуются, соответственно, E (поскольку он называет Божественное существо словом Elohim (Элогим); рассказ этого автора содержится в тех же книгах и переплетается в них с рассказом J; далее — P (от английского Priest, что значит «жрец»; считается, что он написал почти всю книгу Левит); и, наконец, D (автор «Второзакония», или, по-гречески, Deuteronomos, откуда английское Deuteronomy). Подозревают, что был еще R, или «Редактор» (который произвел окончательную ревизию всего текста в целом после возвращения евреев из вавилонского плена), а также, возможно, многочисленные другие авторы более мелких разделов текста, но это уже частности, и мы не будем о них говорить. Исследование ТАНАХа все еще не закончено и, наверное, не закончится никогда, потому что книга эта таит в себе бесчисленное множество исторических, литературных и чисто смысловых загадок. Вот буквально на днях в израильской газете «Гаарец» была опубликована беседа с профессором Еврейского университета Менахемом Хараном, который предложил еще одну, совершенно новую гипотезу о том, как возник ТАНАХ в целом. Эта гипотеза основана на десятилетней продолжительности исследования, которое привело Харана к выводу, полностью опровергающему предыдущие толкования. Профессор Харан утверждает, что в еврейский канон (то есть в Тору) были включены не какие-то специально отобранные (из большого множества сохранившихся) книги, а, напротив, буквально все, какие только и сохранились, других якобы попросту не было. «Собиратели канона поистине замели с пола последние крошки, — говорит Харан. — Они включили в канон даже такие крохотки, как книгу пророка Овадии, которая занимает в нем всего одну страничку. После них не осталось ничего, что народная традиция предыдущих столетий считала бы Боговдохновенным». Харан доложил свою гипотезу на недавнем конгрессе библеистов в Лондоне. Он не говорит, как ее там приняли. Он ограничивается туманным: «Во всяком случае, ТАКОГО они никогда не слышали». И это показывает, что в области исследования ТАНАХа еще существует поле для самых смелых гипотез. Об одной из них я как раз и хочу рассказать. Она связана с самым интересным для исследователей (потому что самым древним) текстом канона — текстом J — и с самой интересной для них (потому что самой запутанной) загадкой о времени и месте его написания. Впрочем, эта загадка частично уже решена: среди специалистов царит согласие, что этот текст был написан в X веке до новой эры в Иерусалиме, при дворе царя Соломона. Но, как мы уже поняли из слов профессора Харана, в библеистике всегда есть место другим гипотезам. И та, о которой я намерен сейчас рассказать, идет вразрез с устоявшимся мнением и предлагает совершенно иную трактовку как истории, так и содержания текста J. Нам это особенно интересно, потому что попутно авторы предлагают весьма оригинальное и смелое прочтение древнейшей еврейской истории, способное серьезно поколебать все наши представления. И точно так же они разрушают все наши сложившиеся представления о смысле важнейших эпизодов Торы. Я не хочу этим сказать, что все, что они пишут, истина в последней инстанции; это, конечно, только научная гипотеза. Но очень уж необычная. Авторы этой незаурядной книги — американский историк-библеист Роберт Кут и священник Дэвид Орт. Они сделали следующее: вычленили из общего текста Торы текст, принадлежащий J, заново перевели его на современный английский язык и снабдили пространным комментарием. Тут и появляются неожиданности. Они подстерегают нас с самого начала. С чего вообще начинается Тора? С рассказа о шести днях творения. Так вот, в тексте J этого рассказа не было. Он начинался иначе (я перевожу авторов, а они — вторую главу книги Бытия, стихи 4–7): «В то время, когда Ягве, Господь, создал небо и землю — и прежде, чем появилось хотя бы первое плодовое дерево, и даже злаков еще не было на полях, потому что Ягве, Господь, еще не создал дождь на земле, и не было человека, чтобы обрабатывать эту землю, хотя ручьи уже вышли из земли той и увлажнили всю почву ее, в то время Ягве, Господь (обратите внимание, как старательно автор каждый раз подчеркивает, что Ягве — это Господь, то есть Бог; это нам еще понадобится. — Р.Н.), создал человека из праха земного, вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек превратился в живое существо». Далее следует знакомый рассказ о том, как Господь сотворил всех животных и привел их к Адаму, чтобы он дал им имя, но Адам не нашел среди них «помощника, подобного себе», и тогда Господь сотворил из его ребра Еву и назвал ее «иша» (женщина), потому что она плоть от плоти «иш» (мужчины). Текст продолжается до изгнания из рая: «И сказал Ягве, Господь: человек стал, как один из нас, /…/ и изгнал его из Эдема, чтобы возделывать, землю, из которой он взят». О чем же эта история, спрашивают авторы. И тут же огорошивают нас ответом: «Рассказ J — это, в первую очередь, повествование, призванное разъяснить царское понимание необходимости труда всех его подданных. Этот рассказ является центральным во всем тексте J, и не случайно кульминацией этого текста (в книге Исхода) является определение «Израиля» как всех тех, кто был освобожден из египетского рабства «мощной рукой» Ягве, Господа, — Бога еврейского царства». Это немного напоминает кое-какие знакомые вульгарно-материалистические трактовки религиозных текстов в советской атеистической литературе, не правда ли? Не торопитесь; если бы речь шла об очередном атеистическом произведении, я бы не стал занимать им ваше внимание. Авторы действительно хотят вернуть библейский текст на историческую почву, но идут серьезным научным путем. Свое утверждение они немедленно обосновывают сопоставлением этого текста J с другими, еще более древними ближневосточными сочинениями того же рода. И тут перед нами открывается совершенно нам неизвестный, пожалуй, и поразительно увлекательный (и поучительный) мир ближневосточной мифологии. Оказывается, уже за несколько столетий до текста J (напомним — считается, что он был создан в X веке до н. э.) в Вавилоне уже были записаны два грандиозных, основополагающих мифологических рассказа: «Энума Элиш», легенда о сотворении человека богом Мардуком, и «Атра-Хасис» — сказание о Потопе. За последующие несколько столетий они настолько широко распространились по всему Ближнему Востоку, и пользовались такой огромной популярностью, что наверняка были хорошо знакомы и самому J. Теперь обратим внимание на крайне интересные детали этих рассказов. В «Энума Элиш» описывается, как бог Эа победил восставших богов Апсу и Тиамат и, «познав» свою жену Дамкину, родил бога Мардука. К этому-то Мардуку и являются «боги-рабочйе», которые жалуются на свою трудную работу и тяжкую жизнь; тогда Мардук придумывает создать «луллу» (людей), которые трудились бы вместо богов, причем создать их из того бога, который подстрекал Апсу и Тиамат (помните: «Вот, Адам стал, как один из нас»? Немудрено, если он сделан из той же плоти!). Иными словами, люди созданы из плоти руководителя восстания; поэтому их обязанность работать — это не что иное, как наказание покаранному богу в лице его «потомков». Примерно такую же историю рассказывает «Атра-Хасис»: здесь жалующиеся на тяжкую работу боги приходят к Энлилю, и тот решает сделать людей («шупшикку», или корзину грязи) из глины, а также — опять! — из мяса и крови руководителя жалобщиков. «И пусть в этом мясе останется дух, и пусть скажут ему перед казнью о его судьбе, и дабы он не забыл, пусть дух его останется в них». Иначе говоря, дух покаранного бунтовщика будет напоминать людям о бесплодности всякой попытки отказа от труда; и чем больше будет их труд, и чем сильнее будет в результате «говорить» в них этот дух (то есть стучать от напряжения сердце), тем меньше будет у них соблазн бунтовать и жаловаться. Тот же Энлиль является героем другого рассказа, в котором он, после создания неба и земли, создает соху, а в добавление к ней — человека, ибо «кто-то должен же обрабатывать эту землю этой сохой». А в древнем египетском тексте под любопытным названием «Созданы ли люди так, что они обладают равными возможностями?» (утверждается, кстати, что да) объясняется, что люди созданы со страхом смерти, «дабы не забывали трудиться во имя богов». Здесь, как и во всех других перечисленных выше текстах, в этих «богах», вместо которых должны трудиться простые смертные, легко угадываются правители и знать соответствующих земель. Ведь именно они считались земными воплощениями божества, и построенные ими храмы считались творениями Мардука, Энлиля или Баала. Поэтому и первая же заповедь Ягве, Господа, сообщенная Ною, — «Плодитесь и размножайтесь» (и повторенная затем Аврааму в виде обетования сделать его потомство многочисленным, «как песок морской») — имеет еще и тот практический смысл, что для труда «вместо богов» нужно много людей. Есть, однако, труд и — труд. Из дальнейшего текста J (уже в книге Исхода, в рассказе о египетском рабстве) становится очевидно, что Ягве, Господь (то есть Бог Израиля), категорически выступает только против одного особого вида труда, а именно — «египетского», то есть рабского труда, или барщины, которым — наподобие вавилонских богов — наказали людей боги Египта. Но Ягве, Господь, отнюдь не против труда вообще, напротив: уже в сцене изгнания из райского сада он приговаривает людей к пожизненному труду. Но к какому? К труду свободных земледельцев, а не рабов фараона. Таким образом, Ягве, Господь, оказывается уникальным богом: он расходится со всеми остальными богами региона в определении характера обязательного труда. Поэтому он стоит особняком в региональном пантеоне и вынужден бороться с другими богами за признание, вынужден отвоевывать у них «свой» народ, который будет жить по «Его» и только Его заповедям. В сущности, вся история препирательств Моисея с фараоном и насланных Ягве на египтян «казней египетских» — это и есть история такой войны Ягве, Бога Израиля (о котором фараон презрительно говорит, что «не знает такого бога»), с богами Египта — и его конечного торжества над ними (в виде торжества над фараоном, которому они покровительствуют). Почему же Ягве отвергает рабство и барщину? Потому что в его «понимании» (то есть в понимании еврейских царей, торопливо добавляют авторы) обязательный труд должен быть только таким; каким он сложился в Палестине, а не в каком-нибудь Египте, иными словами — трудом царских земледельцев, которые отдают десятину Б-гу, положенное — царю, а остальным распоряжаются сами. А почему то был именно такой, а не иной труд? Да просто потому, объясняют авторы, что именно такова была в те древние времена структура труда (и общества) на Палестинском нагорье, где и сложилось первое еврейское царство, признавшее Ягве, Господа, своим Б-гом, выведшим народ из рабства «рукою мощною, мышцей простертого». (Кстати, в этой характеристике победоносного Ягве есть и свой насмешливый аспект: обычно обладателями «мощной руки», «сильной руки», «руки, способной пустить сразу десять стрел из одного лука», неизменно именовали себя на своих стелах египетские фараоны, возвеличивая тем самым своих богов; но вот — мышца Ягве оказалась сильнее!) Таким образом, рассказ об Исходе — это страстное возвеличение Ягве, который мощнее всех других богов (прежде всего египетских), и одновременно — это возвеличение силы того царя (и народа), которому покровительствует такой Бог; и одновременно — это идеологическое обоснование власти этого царя и его законов (которые объявляются «заповедями Ягве»), а также обоснование необходимости труда (земледельческого, а не рабского) на этого правителя. Неудивительно, что Кут и Орт (как и еврейская традиция вообще, кстати) считают рассказ об Исходе центральным узлом всех основных мотивов текста J. Удивительней другое — что тотчас после такого признания они объявляют этот «центральный узел» полностью вымышленным! И это ведет нас прямиком к исторической части их гипотезы, не менее оригинальной и дерзкой, чем изложенная выше религиозная. Итак, Кут и Орт призывают нас принять как факт, что рассказ об Исходе в тексте J — вымышленная история. Не было Исхода, не было Моисея, не было завоевания Ханаана и не было двенадцати колен, между которыми была разделена завоеванная земля. Так и хочется спросить: а были ли сами евреи? На это авторы твердо отвечают: были. Но история евреев выглядела иначе, не так, как она излагается в тексте J, столь хорошо знакомом нам по ТАНАХу. Этот текст, говорят Кут и Орт, нужно перечитать под углом зрения того, что известно современной исторической науке. Что же ей известно? Отбирая лишь то, что они считают «надежно установленными фактами» и «разумными гипотезами», авторы рисуют следующую картину. Незадолго до 1000 г. до н. э. на Палестинском нагорье (то есть в нынешних Самарии и Иудее) располагались многочисленные деревни свободных еврейских земледельцев. Между деревнями высились отдельные города (разумеется, города в древнем понимании этого слова, то есть небольшие крепости, окруженные более или менее мощными стенами; Иерусалим принадлежал к их числу). Кстати, многие из этих городов, упоминаемые в истории завоевания Ханаана армиями Йегошуа Бин-Нуна — как, например, Иерихон, — к тому времени уже не были населенными: они, по данным археологии, к тому времени уже были заброшены и безлюдны, так что «завоевать» их евреи никак не могли — там нечего было завоевывать (что, в частности, является одним из аргументов в пользу фантастичности рассказа об Исходе из Египта в Ханаан). Так вот, существовавшие в то время города нагорья были заняты египетскими гарнизонами, поскольку Египет — в ту пору сильнейшая держава Ближнего Востока — контролировал всю Палестину. И, разумеется, нещадно эксплуатировал местное население (что и отразилось в рассказе о «египетском рабстве»). Возможно, имели место народные волнения (истории об этом ничего не известно, но этого нельзя исключить), и можно думать, что в таком случае египтяне очередной раз вторгались в страну, наводили порядок и затем хвастливо запечатлевали сей победный факт на стелах очередного фараона (именно так, по всей видимости, появилось и единственное сохранившееся упоминание такого рода — о побежденном «народе Израиль» на стеле фараона Мернептаха, примерно в 1200 г. до н. э.). Не удивительно, что Египет воспринимался как злейший и сильнейший враг, как постоянная опасность; неудивительно, что «антиегипетский мотив» пронизывает весь текст J, в котором постоянно повторяется-одна и та же сказочная схема: вымышленные еврейские герои (Иосиф, Моисей) побеждают египтян не числом, а уменьем, не силой, а хитростью. (Кстати, не исключено, добавляют авторы, что в рассказе о службе Иосифа у Потифара отразилась реальная история какого-нибудь местного еврейского аристократа, сотрудничавшего с египетским наместником в Палестине.) Была и еще одна группа палестинского населения, которая видела в египтянах постоянную угрозу. То были «бедуинские» (по существу, те же еврейские) пастушеские племена, чьи владения сплошным кольцом окружали нагорье. Собственно, и евреи-земледельцы, утверждают авторы, первоначально были пастухами, а их легендарный «праотец» Авраам — обычным «бедуинским» шейхов, такими же шейхами были и его потомки. Имена типа Авраам, Ицхак, Яаков, — говорят авторы, еще долго сохранялись среди тогдашних пастушеских племен, напоминая об общем происхождении евреев-земледельцев и евреев-пастухов. Постепенно среди тех и других сложилась традиция, возводящая это происхождение к общему предку Аврааму, что и было (полтысячелетия спустя) использовано в тексте J. Автор этого текста, выдающийся писатель-идеолог, искусно соединил земледельческие и пастушеские мифы об Аврааме и его потомках с идеей Ягве — Бога, покровительствующего авраамову роду в его борьбе с Египтом. Кут и Орт приводят ряд примеров такого соединения, из которых я для краткости выберу самый эффектный (он характеризует заодно и текстологические методы этих авторов). Речь идет о посещении Авраама «тремя ангелами», которых тот принимал и угощал под Мамрийским дубом (Бытие, 18:1-15) и «один из которых сказал: Я опять буду у тебя в это же время (в будущем году), и будет сын у Сарры, жены твоей». Эта фраза вызвала у престарелой Сары «внутренний смех», на что «ангел» (то есть Ягве) обиженно вопросил: «Есть ли что трудное для Господа?» Смех Сары, объясняют нам авторы, вызван был тем, что в этот миг она ощутила сексуальное наслаждение, род оргазма, ибо именно в этот миг Ягве «вошел» в нее, и она засмеялась от счастья. Когда же она выразила сомнение, что понесет, Ягве оскорбился: «Что, для Меня это такое чудо, что ли?» В сущности, здесь (куда живее и ярче, чем в Евангелиях) рассказана история непорочного зачатия с добавлением существенной детали: поскольку своим поступком в отношении Сары Ягве нарушил законы бедуинского гостеприимства, он тотчас объявил, что сделал это ради великого дела размножения (не это ли он первым делом заповедал Ною?), а в качестве «компенсации» обещал хозяину произвести от него «великий народ». Такое соединение народных мифов с прославлением Ягве как гаранта величия народа, говорят авторы, позволило J сделать свой текст, а заодно и монотеистическую идею самого Ягве, приемлемым для простого народа и тем самым достичь своей главной идеологической цели. Ибо, по мнению авторов, главная цель J состояла в том, чтобы утвердить в народе культ Ягве, чтобы с помощью этого освятить царскую власть, ее законы и необходимость крестьянского труда на царя и городскую знать. Ибо авторы убеждены, что текст J, хоть и предназначался для «народа», создан был при царском дворе, выражал потребности царя и знати и отражал так называемую «высокую» традицию (этим словом историки обозначают традиции, сформировавшиеся в придворной среде грамотеев-писцов и жрецов-священников в противоположность «низкой» традиции, то есть легендам и сказаниям народных слоев). Текст J, утверждают авторы, — это «высокая традиция» высших слоев, отражающая историю, какой ее видят эти слои, освящающая («сакрализующая») эту историю с помощью ссылок на Божественное покровительство и навязывающая себя простому народу посредством искусного и намеренного включения в состав своей традиции элементов традиции «низкой», знакомой этому народу. Поскольку этот текст, продолжают авторы, сложился спустя добрых 500 лет после описываемых в нем легендарных событий начальной истории народа, трудно думать, что он отражает какие-либо реальные исторические факты. Следовательно, такие древнейшие эпизоды текста, как история Авраама и его потомков, египетское рабство, Исход и завоевание Ханаана правильнее рассматривать не как отражение сохранившейся в народной памяти «истинной» древней истории еврейского народа (что мог помнить неграмотный народ о своей истории спустя 500 лет? Что, к примеру, помнили — и что знали — европейские крестьяне X века о событиях времен падения Римской империи, отдаленных от них на те же 500 лет?), а как аллегорическое отражение каких-то важных для автора, для его целей (то есть, в конечном счете, для царского двора) и действительно реальных событий совсем недавнего прошлого. Иными словами, авторы полагают, что J — под видом истории Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше и Йегошуа Бин-Нуна — на самом деле излагает (в доступной «народу» мифологической форме, используя образы знакомых легендарных героев) историю царствующего правителя, создавшего еврейское государство. Кто же этот царь, кто истинный герой основного библейского текста, этой «книги J»? Иными словами, когда и где эта книга была написана? Это возвращает нас к прерванному историческому рассказу. Кут и Орт развивают свою гипотезу следующим образом. К 1000 г. до н. э., говорят они, власть Египта над Ханааном резко ослабла. (Это действительно подтверждается документами того времени — перепиской египетских наместников в Сирии с фараонами, найденной при раскопках городища Эль-Амарна.) Причиной такого ослабления были, видимо, внутренние трудности Египта. Как бы то ни было, египетские гарнизоны в Палестине оказались отрезанными от своей страны. И тогда, надо думать, крестьянское население Палестинского нагорья воспряло духом. Пастушеские племена Южной Палестины и Синая тоже почувствовали вкус свободы. В сущности, произошло примерно то же, что в нашем веке на Ближнем Востоке, когда отсюда ушли великие державы, — регион впервые за долгие века оказался предоставлен сам себе. Открылось окошко «благоприятных возможностей», и можно думать, что освободившиеся народы не преминули им воспользоваться. Именно поэтому, утверждают авторы, в тогдашней Палестине и смогли произойти два важных события: население нагорья объединилось под властью единого царя (каковым оказался Саул), а среди евреев-пастухов появился свой собственный вождь-объединитель (каковым стал Давид — соперник Саула, бежавший к пастухам от преследований царя). В этой части своей гипотезы Кут и Орт не одиноки и не оригинальны. Другие современные историки тоже признают историчность библейского рассказа о возникновении первого еврейского царства на Палестинском нагорье. Но каждый из них объясняет становление этого царства по-своему. Одни считают, что объединение нагорья произошло насильственным путем — в результате какого-то внешнего завоевания (может быть, тем же Саулом). Другие полагают, что это было результатом уже упоминавшегося крестьянского восстания против местных (и к тому времени ослабленных) египетских гарнизонов (причем кое-кто из сторонников данной гипотезы добавляет, что подняла крестьян на это восстание группа религиозных египетских еретиков-монотеистов, бежавшая из Египта в Палестину). Наконец, третьи утверждают, что царство возникло в результате проникновения в Нагорье кочевников-пастухов из близлежащих степей Негева и Синая. Оригинальность гипотезы Кута и Орта состоит в том, что она сочетает в себе непротиворечивые элементы всех трех вышеупомянутых теорий. Во-первых, она признает факт крестьянских волнений — по мнению авторов, это отразилось в рассказе о том, как «старейшины Израиля» потребовали себе царя (Саула). Во-вторых, она сохраняет и возможность участия каких-то пришельцев-монотеистов в этом воцарении: может быть, говорят Кут и Орт, пророк Самуил, так неохотно помазавший на царство Саула вопреки воле Ягве, и был одним из этих пришлецов, принесших в Палестину культ единого Бога. Но главное в этой этой гипотезе — предположение о том, что решающую роль в объединении всей (и земледельческой, нагорной, и пастушеской, степной) Палестины сыграло именно вторжение пастушеских племен с равнины в горную часть страны, до того управлявшуюся Саулом. Давид, утверждают авторы, как раз и был руководителем этого союза пастушеских племен; библейский же рассказ о «завоевании Ханаана» армиями Йегошуа Бин-Нуна — это всего лишь отражение этого реального завоевания нагорья армией Давида. Таким образом, центральную роль в гипотезе Кута и Орта играет Давид. По их убеждению, этот искусный стратег и прирожденный политик первым осознал и сумел использовать историческое «окошко возможностей», открывшееся в результате ослабления Египта. Потерпев поначалу поражение в борьбе с Саулом за власть над нагорьем, он бежал в южные степи и — посредством серии хитроумных военных и политических маневров — сплотил тамошние пастушеские племена в единый союз, своего рода племенную федерацию — сначала для организации коллективного заслона против возможного возвращения египетских армий (в этом он нашел поддержку филистимлян, осевших к тому времени на побережье), а затем — для вторжения в нагорье и овладения им. Сколотив такую федерацию, Давид возглавил ее и сделал своей столицей Хеврон — главный центр тогдашней пастушеской части Палестины. Здесь он, как следует из танахического рассказа, провел целых семь лет, все это время готовясь к вторжению в нагорье. Достаточно усилившись (и попутно разгромив те пастушеские племена, которые не примкнули к созданной им федерации), Давид, наконец, вторгся в нагорную Палестину, захватил Иерусалим, перенес туда свою столицу и провозгласил себя царем. Земледельцы Палестины были обложены налогом, но зато получили право на свободный труд (которого были лишены под властью египетских наместников в «египетском рабстве») и гарантии защиты от египетских притязаний. А пастушеские племена в благодарность за поддержку получили право беспрепятственного пользования пастбищами нагорья: оно было разделено на 12 районов, каждый из которых был закреплен за тем или иным племенем. Отсюда, говорят авторы, и пошла история «двенадцати колен»: по их мнению, она была придумана задним числом, чтобы оправдать такой «раздел» Палестины. Что же до названий этих уделов — «удел Дана», «удел Иегуды» и так далее, — то они, говорят Кут и Орт, попросту отражают имена тогдашних пастушеских вождей — союзников Давида: ведь и они были такими же евреями, как земледельцы нагорья; поэтому среди них были распространены те же имена. Такова в самых общих чертах та историческая гипотеза, которую предлагают Кут и Орт в своей книге «Первый текст Библии». Гипотеза, надо признать, довольно революционная. Ведь, если вдуматься, авторы утверждают не более, не менее, что вся танахическая история евреев, все ее события, от прихода Авраама в Ханаан и до Моисея и Йегошуа, впервые зафиксированные в тексте J, есть на самом деле не что иное, как продуманная и сознательная аллегория. По глубокому убеждению авторов, неведомый (и, несомненно, гениальный) J попросту описал в своем тексте историю воцарения Давида, спроецировав ее в легендарное еврейское прошлое и «поделив» между легендарными героями. Но отсюда следует, что не правы были все те историки, которые много десятилетий подряд считали, что текст J был создан при дворе Соломона. На самом деле, говорят авторы, он был создан именно при дворе Давида, который первым сумел использовать предоставленную историей короткую передышку для объединения всех еврейских племен — как земледельческих, так и пастушеских — в единое царство (Саул еще правил только в нагорье). Именно Давиду и понадобилась собственная «придворная» история, которая прославила бы его деяния и утвердила бы его власть в сознании подданных. Передышка эта продолжалась всего 60 лет: как мы знаем, к концу царствования Соломона первое объединенное еврейское царство распалось на Иудею и Израиль. Авторы полагают, что это было вызвано тем, что к тому времени Египет снова укрепился, и его «агентура» в Палестине спровоцировала этот раскол, чтобы ослабить и подчинить евреев. Но в эпоху Давида, заключают авторы, евреи успели получить не только собственное национальное государство, но также собственный национальный миф и собственную национальную идеологию — как раз в виде текста J, этой первой версии ТАНАХа, навеки сплотившего евреев если не территориально, то духовно. Этот текст, по мнению Кута и Орта, был создан с осознанной целью укрепления новорожденной монархии и освящения ее родословной и ее претензий посредством культа Ягве. Неслучайно культ этот в тексте J — подчеркнуто «пастушеский», «палаточный», не знающий никакого Храма; во времена Соломона, строителя Ирусалимского Храма, такой пастушеский культ был бы уже немыслим. Текст J сделал главными героями еврейской истории не земледельческих, а пастушеских вождей, этих подлинных хозяев нового государства и его аристократию. Он приписал им задним числом сакральную историю и легендарную генеалогию, возведя их к Аврааму, Ицхаку и Яакову. Традиционные хождения этих пастухов в Египет, их периодическое порабощение египтянами, временные союзы их вождей (Йосефа?) с египетскими наместниками палестинских городов — все это было использовано для создания величественной мифологической эпопеи Исхода. Фигура Давида — законодателя нового царства и создателя новой нации превратилась под пером J в грандиозный образ законодателя Моисея. История завоевания пастухами-кочевниками Палестинского нагорья легла в основу рассказа о завоевании Ханаана кочевыми армиями Йегошуа Бин-Нуна. Раздел между пастушескими вождями пастбищ нагорья стал историей «двенадцати колен». И так далее. Так, говорят авторы, и был создан национальный эпос, национальный миф и национальная религия. И подлинным их создателем был неведомый гениальный писатель давидова двора, именуемый сегодня J. Возможно, поначалу текст J замышлялся в виде всего лишь обычной хвалебной песни, этакого гомеровского эпоса, исполняемого перед лицом тщеславного царя и угодливой знати. Но соединение в этом тексте всех национальных сказаний и легенд, в которых нашла воплощение недавняя и хорошо знакомая тогдашним евреям реальная история становления их первого государства, привело к тому, что этот эпос глубоко запал в народную память и стал «священной книгой» новой нации. Заново и глубоко переосмысленные (как изначально направлявшиеся Господом Ягве) истории еврейских праотцев и «египетского рабства», Моисея и Исхода, скитаний в пустыне и «дарования законов», завоевания Ханаана и «двенадцати колен» — все это стало основой новой веры и содержанием уже не племенной, а национальной истории. И эта основа уцелела даже после распада государства. Так заканчивают свое объяснение происхождения, смысла и судьбы первого текста ТАНАХа американские авторы. Добавим уже от себя: этот эпос вобрал в себя и самые замечательные, чарующие воображение, самые распространенные на всем Ближнем Востоке легенды — о создании человека «по образу и подобию богов», о райском саде и потопе, о Вавилонской башне и т. п. Положенные на этот баснословный, но благодаря давности и распространенности почти достоверный фон, все прочие рассказы J тоже могли быть восприняты как почти достоверные. Поэтому религиозная идея и светская идеология (частично заимствованные из вавилонских и угаритских предисточников), искусно переплетенные с мифом, могли действительно стать в таких условиях общенародными. С другой стороны, все это могло происходить, конечно, и совершенно иначе: текст J мог не иметь таких «скрытых намерений»; он мог действительно отражать пусть и легендарное, но имевшее реальную фактическую основу еврейское прошлое; становление монотеистической религии могло начаться задолго до создания этого текста, а в нем найти лишь свое гениальное воплощение — и так далее; вы можете все это продолжить вместо меня. И тогда гипотезу Кута — Орта придется признать неверной; Но я полагаю, что с ней стоило познакомиться. Уж очень она радикальна и увлекательна. Одно лишь следует помнить, взвешивая степень ее достоверности: она относится именно к тексту J, то есть только к тому, что является содержанием первых книг ТАНАХа. В Торе есть и отдельный рассказ о Сауле и Давиде — это Первая и Вторая книги Царств; но они написаны другими авторами; как считается — уже после Соломона. В тексте же самого J никаких прямых упоминаний о Сауле, Давиде и Соломоне нет, и все, что в него «вложили» Кут и Орт, — это их самостоятельная историческая реконструкция. Таких реконструкций в последние годы появилось немало. Гипотеза Кута и Орта затрагивает небольшой отрезок истории — какое-нибудь столетие. Куда более масштабной — и волнуюшей воображение — является, например, та реконструкция (впрочем, уже в основном, постбиблейских событий), которую предложил недавно Грэм Хэнхок в своей книге «Знак и печать». Впрочем, эта смелая реконструкция заслуживает отдельного рассказа. >ЧАСТЬ 5 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ >ГЛАВА 1 ВЕЛИКИЙ ИЕРИХОН Опустевшая синагога в Иерихоне находится теперь на территории палестинского автономного анклава. Доступ евреям в город временно, запрещен. В один день древний Иерихон, некогда взятый еврейскими войсками, перед которыми, по преданию, пали его стены, превратился в палестинский административный центр. Что называется — росчерком пера. Предание о стенах, павших от рева еврейских военных труб, увековечило имя Иерихона в человеческой памяти. Но для историков это название звучит еще весомее. Иерихон — одна из важнейших вех на пути человечества из древнего каменного века в век бронзовый. Это один из древнейших, а может быть — и самый древний город на Земле. В сокровищнице исторических ценностей, которыми столь богата Земля Израиля, Иерихон — одна из ценнейших. Самому древнему из сохранившихся народов западной цивилизации вполне приличествовал самый древний ее город. Это не говоря уже о собственно еврейских памятниках Иерихона. Хотя бы о тех же Иродовых дворцах. По странной случайности совпало так, что одновременно с этой утратой вышел в свет специальный номер журнала «Сайентифик америкэн», под обложкой которого были собраны все ранее опубликованные в журнале статьи, посвященные древним городам мира. И конечно, открывала этот сборник статья, рассказывающая о раскопках в Иерихоне. Принадлежала она перу Кэтлин Кеньон, дочери бывшего директора Британского музея и знаменитой исследовательнице, которая в середине нашего века впервые открыла миру долгую и славную историю древнего Иерихона. Листая эту по существу мемориальную статью, вглядываясь в фотографии раскопок и найденных предметов, вчитываясь в рассказ автора, невольно ощущаешь, как ты все глубже и глубже опускаешься по ступеням веков в прошлое. Вот уже скрылись из виду гигантские метрополии современности, пустыннее стала Земля, все меньше на ней людей и людских поселений, в сотнях и тысячах километров находятся они друг от друга, разделенные безлюдными и дикими пространствами; вот уже одни только охотничьи племена с их каменными орудиями остались на поверхности планеты, и именно тут, в этой дали туманного прошлого, взгляд натыкается на нечто неожиданное и явно искусственное: мощные каменные стены, взметнувшиеся к небу из пустыни. Иерихон… Человечество не сразу перешло к оседлому образу жизни. Этот переход произошел лишь с окончанием последнего ледникового периода, «каких-нибудь» десять тысяч лет назад, в конце каменного века. Именно тогда в Западной Азии возникли первые оседлые поселения — то, что впоследствии стало называться городами. Значение их в истории цивилизации огромно — недаром англичане подчеркивают, что слово «city» одного корня со словом «цивилизация». Город — это нервный узел любой цивилизации, средоточие ее административных, религиозных, культурных и всех прочих функций, символ ее непрерывности и преемственности. Сегодня две трети человечества живет в городах. Но так было не всегда. Первые деревни сосредоточивали в себе каких-нибудь несколько сот, а то и всего несколько десятков жителей. Первым городом на Земле стало место, население которого впервые в истории перевалило за тысячу. Это и был Иерихон. На приведенной в журнале исторической шкале, протянувшейся от 8000 года до новой эры к 1000 году после ее начала, длинной цепочкой вытянулись самые древние города Земли. Открывает этот список Иерихон. За ним с разрывом в полтысячи лет следует Тель-Абу-Хурейра, что в Сирии. Проходят еще полторы тысячи лет, и появляются Чатал Хююк в Анатолии (современная Турция) и Мергар в нынешнем Пакистане. Только за пять с половиной тысяч лет до нашей эры возникли первые города Месопотамии — знаменитые Ур, Урук и другие, а за ними, с разрывом еще в три с половиной тысячи лет — Иерусалим и Кноссос (в русском написании Кнос) на Крите. Большинство этих городов ныне занесены песками, а Кноссос — вулканическим пеплом. И только в Иерихоне и Иерусалиме все эти нескончаемые тысячи лет-непрерывно продолжают жить люди — до наших дней. Что уж тут говорить о Помпеях или Петре, а тем более о первом русском городе Новгороде, возникшем практически уже в «наши» исторические времена, где-то на рубеже первого тысячелетия новой эры! Младенцы… Как ни странно, еще несколько десятков лет назад такой список немыслимо было себе представить. Историки знали, конечно, что Иерихон существовал еще во времена завоевания евреями Ханаана, но никогда не думали, что его стены уходят в такую седую древность. Да и стен этих давно уже не было. Первых археологов привела в Иерихон вовсе не эта древность (о которой никто не догадывался), а жгучее желание проверить библейскую легенду. Поиски рухнувших от «иерихонского рева» стен начал британский археолог Джон Гарстанг, который прибыл сюда в 1930 году. Именно он первым обратил внимание на древний холм неподалеку от города и пришел к выводу, что именно под этим холмом должны скрываться остатки библейского Иерихона. Холм (или курган) в семитских языках — «тель» — созвучен английскому «teil», что означает также «рассказывать». И раскопанный Гарстангом тель Иерихо действительно рассказал о прошлом города. Нет, археолог не нашел подтверждения библейской легенды. Зато он нашел кое-что куда более важное для исторической науки. Глубоко в раскопе его сотрудники обнаружили бесспорные свидетельства того, что люди жили в этих местах уже в конце каменного века. Иерихон стал сенсацией в мировой археологии. Не удивительно, что вслед за Гарстангом сюда пожаловала следующая археологическая экспедиция, которую возглавляла Кэтлин Кеньон. К тому времени она уже прославилась своим участием в раскопках в Родезии и Англии. В январе 1952 года ее сотрудники первый раз вонзили свои лопаты в землю Иерихонского теля и стали слой за слоем снимать его покровы. Основы современной археологии заложил еще в прошлом веке английский ученый Флиндерс Петри. Он указал, что датировка прошлого может производиться с помощью оставшихся от этого прошлого предметов, т. н. артефактов. В особенности красноречива в этом смысле глиняная посуда. Петри показал, что. каждой стадии истории Востока соответствовала своя особая посуда, виды которой можно классифицировать по эпохам и сопоставить с клинописными и иероглифическими надписями Египта и Месопотамии. Это позволяет в конечном счете датировать все такие эпохи, а с ними и те слои, в которых были обнаружены «говорящие артефакты». Важно только снимать эти слои один за другим, тщательно и терпеливо отделяя эпоху от эпохи. Разумеется, это не очень удобный, а главное — не очень точный метод. Отдельные слои порой идут под наклоном, углубляясь в землю и пересекаясь там с другими слоями. Черепки нередко перемешиваются временем и человеческой рукой. Впоследствии методы Петри были усовершенствованы и дополнены приемами радиографического (радиоуглеродного) определения дат, которые оказались несравненно более точными. Именно с их помощью удалось доказать, что даже Кеньон ошиблась в своей датировке иерихонских руин. Она определила возраст города в 7000 лет, тогда как радиографические методы показали, что он на добрую тысячу лет старше. Ошиблась Кеньон и во многом другом. Тем не менее ей принадлежит несомненная заслуга: она извлекла из небытия доселе практически неведомый древний город и показала его человечеству. Процесс раскопок — это нечто вроде послойной вивисекции прошлого. Снимая слой за слоем, археологи уходят в глубь истории, порой на десятки метров, если в данном месте, как в раскопанной Шлиманом Трое, каждое следующее поселение строилось на развалинах предыдущего. В Иерихоне глубина культурного слоя оказалась чудовищной — до 70 метров! Уже одно это говорило о глубочайшей древности и непрерывной преемственности жизни в этих местах. Оно и не удивительно. В раскаленной Иудейской пустыне первобытные охотники, первыми сменившие кочевой образ жизни на оседлый, могли поселиться только там, где есть вода и подходящая для земледелия почва. Иерихон — оазис среди пустыни, это видно еще и сегодня, когда спускаешься с Иудейских гор и едешь в сторону Мертвого моря. Зеленый пальмовый остров Иерихон кажется маревом среди окружающей каменистой пустыни. Оазис обязан своим существованием многочисленным подземным источникам, среди которых еще в древности выделялся т. н. «Фонтан Элиши». Экспедиция Гарстанга вскрыла неолитические слои только на самом крайнем, северо-западном углу холма. Да и то пришлось для этого рыть глубокую шахту. Кеньон сразу же обнаружила, что артефакты каменного века находятся и на западной оконечности холма, где древние слои подходят намного ближе к поверхности земли и залегают на глубине всего четырех метров. Первое поразительное открытие не заставило себя ждать: оказалось, что площадь поселения уже в каменный век была куда больше, чем думалось. По размеру оно явно превосходило примитивные поселения той эпохи (вроде Чатал-Хююка), которые археологи время от времени раскапывали на Ближнем Востоке. Это означало, что и по количеству жителей Иерихон уже в те времена значительно превосходил обычную деревню. Кеньон оценила его первоначальное население примерно в 2000 человек. Произвести эту оценку ей позволило второе крупное открытие. Доведя раскопки до скального слоя, то есть до максимальной глубины, сотрудники экспедиции вскрыли в этом первом, самом раннем слое остатки глиняных сооружений — те грубые хижины, в которых жили основатели Иерихона. Эти хижины напоминали собой глийяные подобия круглых шатров кочевых охотников. Но эта фаза иерихонских построек оказалась довольно короткой. Уже следующий период (следующий слой) продемонстрировал исследователям огромный прогресс в строительстве и архитектуре. Дома (а их уже можно было без преувеличения назвать не хижинами, а настоящими домами) приобрели прямоугольную форму, стены стали толще и солиднее, в них появились четко прорезанные входы, а внутреннее пространство жилья было разбито на отдельные комнаты, тесно группировавшиеся вокруг общего двора. Но самым интересным было то, что во многих таких домах стены и полы хранили следы штукатурки, что придавало им законченный, даже отчасти современный вид. Это уже были жилища прочно устоявшейся, сложившейся общины. К тому же общины весьма организованной, судя по тому, что все поселение было, по-видимому, обнесено массивной каменной стеной. У иерихонцев каменного века еще не было посуды, и этот вроде бы малозначительный факт показывает, как глубоко ушли археологи в глубь времен, к самому началу оседлой жизни человечества: ведь горшки и миски — это одно из первых изобретений оседлых людей. Несомненно, причиной, по которой бывшие охотники облюбовали и решили укрепить это место, была прежде всего его пригодность для земледельческой жизни. Обилие воды и тропический климат оазиса делали необычайно плодородной его землю, и пришельцы могли рассчитывать, что сумеют добыть себе здесь пропитание. Судя по тому, как расцвел и продолжал расти Иерихон впоследствии, они не обманулись в этих ожиданиях. Но прогресс этих первых поселенцев не ограничивался только областью материальной культуры. Одно из самых поразительных открытий, совершенных экспедицией Кеньон, состояло в обнаружении среди руин каменного века особого помещения, явно служившего ритуальным, то есть религиозным целям. В глубине небольшой комнаты археологи нашли нишу, где возвышался грубо обработанный каменный пьедестал, а рядом с ним — тщательно обработанный кусок вулканического камня, который, судя по виду и месту обнаружения, когда-то был предметом неизвестного нам религиозного культа. Окружавшие камень глиняные фигурки животных свидетельствовали о том, что религия первых иерихонских поселенцев скорее всего представляла собой культ плодородия. По сути, эта находка в Иерихоне позволила историкам воочию увидеть, как зарождались древнейшие религии оседлого человечества и как возникали их первые храмы. Но что еще более поразительно — оказалось, что культура древнейших земледельцев каменного века не исчерпывалась одним лишь культовым поклонением богам плодородия. Кеньон нашла целую галерею портретных масок! Их было семь, и каждая представляла собой высохший череп, на который какой-то неведомый древний художник наложил слой глины, грубо изобразив на нем черты человеческого лица. До сих пор историки искусства знали только о раскрашенных человеческих портретах из знаменитого Фаюмского оазиса в Египте. Теперь перед ними предстали, на несколько тысячелетий более древние, возможно первые в мире, изображения людей, к тому же — людей каменного века. Археологи увидели не просто глиняные или каменные фигурки божков и богинь — перед ними были лица реальных людей, живших семь — восемь тысяч лет назад! Иерихон оказался настоящей «машиной времени». Кто же были эти люди? Почему они удостоились такой почести? Не исключено, что это были портреты почитаемых в поселении предков-основателей вроде римских Ромула и Рема. Но если это так, то значит, искусство живого портрета (а не просто схематического изображения оленей и охотников, как во французских пещерах) возникло уже в седой древности. Уже тогда первобытный Рембрандт вглядывался в лица своих соплеменников, чтобы запечатлеть их для вечности. И видимо, отдавал себе отчет в том, что он творит… Говорят, что искусство особенно расцветает в суровые и опасные эпохи. Судя по толщине каменных стен первого города, иерихонский Рембрандт жил именно в такую эпоху: стены не воздвигаются для защиты от друзей. Иерихонцы одними из первых на Земле перешли к оседлому земледелию; вокруг еще бродили дикие охотничьи племена, и врагов у горожан, надо думать, было предостаточно. Тем не менее первый город просуществовал на удивление долго — об этом свидетельствует толщина культурного слоя, в пределах которого техника изготовления изделий практически не меняется. Жизнь людей в ту пору была короткой, умирали (или погибали) в среднем в возрасте тридцати лет. В городе успело смениться не одно поколение: сложились традиции, устоялись обычаи, проглядывалась в смутной дали непонятного времени какая-то своя легендарная история, о которой рассказывали детям и внукам. Всему этому пришел внезапный конец где-то в начале раннего бронзового века. Палестина, как ее станут в будущем называть, стала тогда местом бурного городского строительства. Как грибы после теплого дождя поднимались вокруг поселения, защищенные стенами, воздвигались дома и жилища, строились храмы и капища; там, где раньше на всю огромную пустынную округу был один Иерихон, слухи о котором наверняка уже обросли сказками и легендами, теперь появилось множество конкурентов. А где города, там цивилизация, а где цивилизация, там войны. К тому времени неолитический Иерихон уже высоко поднимался на своем холме — ведь столько поколений оставляли здесь следы своего пребывания на Земле. Примерно к 3000 году до новой эры (когда настоящие города на всей планете еще можно было пересчитать на пальцах) стены Иерихона окружал холм 20-метровой высоты. Из ворот города в разные стороны разбегались торговые дороги. Об этом можно судить по тому факту, что в слоях этой эпохи уже обнаруживается не только местная посуда, на и черепки глиняных изделий из других мест, подальше к северу, западу и востоку. Сотрудники Кэтлин Кеньон нашли в раскопках и другие признаки цветущей и широкой торговли. Город еще более расширился — видимо, разбогател. Надо полагать, что окрестное население массами тянулось под прикрытие иерихонских стен: ведь город защищал вход в Ханаан со стороны южных и восточных пустынь, откуда непрестанно рвались к этим плодородным землям племена кочевых охотников. С каждым разом они все ближе подступали к городу, а порой даже нападали на него. Судя по раскопкам Кеньон, стены Иерихона разрушались не менее 17 раз! И далёко не всегда виной этому были землетрясения. В 2100 году до н. э. стены были разрушены полностью и до основания. На сей раз виновники известны точно — это были воинственные племена амореев, именно в ту пору захватившие большую часть здешних земель. Они не только разрушили стены Иерихона — они еще вдобавок сожгли город дотла. После слоев с обожженными пламенем остатками стен пошли «пустые» слои — видно, жители бежали из города или были уведены в рабство. Почти двести лет угрюмые и безлюдные руины Иерихона одиноко высились в пустыне. Другие города, помоложе, став жертвой такой катастрофы, уходят в небытие, заносятся песками. Но не таков этот древнейший город. Уже на рубеже 2000 года до н. э. в археологических слоях снова стали появляться остатки жилищ. И опять, как в начале заселения, это грубые, примитивные постройки. Их явно создавали пришельцы, не знавшие навыков городской жизни, ее архитектуры и методов строительства. Видимо, на развалины Иерихона пришли жители других мест, привлеченные древней славой города и его плодородными землями. А к 1900 году до н. э. появляются новые крепостные стены и добротные, просторные дома. В развалинах этих построек археологи нашли бронзовое оружие и украшения из бронзы. Это позволило установить, что новые поселенцы пришли откуда-то с севера, несколькими волнами, причем каждая следующая волна несла с собой всё более высокую культуру бронзового века. Не удивительно, что город стремительно разрастался, и уже через несколько сотен лет периметр городских стен охватил огромную по тем временам площадь — самую большую, которую когда-либо занимал Иерихон. Сами стены тоже были построены по новой системе — вдоль основания их был насыпан вал, для того, видимо, чтобы воспрепятствовать приближению боевых колесниц. Культуру новых жителей Иерихона сохранили их гробницы. Археологи раскопали десятки таких гробниц с уцелевшими в них остатками изделий из дерева, текстиля, плетеных корзин и даже пищи. И снова Иерихон оказался непохожим на других: во всех остальных местах здешней земли такие артефакты давно истлели, а здесь время их совершенно не тронуло. Благодарить за это следует сухой и жаркий климат Иорданской долины. Он — и только он — позволил историкам узнать, как жили люди в Святой Земле в эпоху прихода сюда праотца Авраама. Каждая гробница содержала богатый набор вещей и провизии. Можно думать, что люди того времени верили в загробную жизнь и старались снабдить покойников всем необходимым для продолжения существования на том свете. Предполагалось даже, что они будут есть, сидя за столами, и поэтому в гробницах были обнаружены целые комплекты тогдашней мебели — деревянные столы, стулья и кровати, отделанные с немалым искусством. Деревянные и глиняные горшки и кувшины содержали запасы пищи, а большие, с четырьмя ручками сосуды — питье. На полах были расстелены плетеные матрацы, в деревянных чашках или алебастровых сосудах были приготовлены туалетные принадлежности, в плетеных корзинах навалом лежали деревянные и металлические гребни вперемежку с одеждой. Разумеется, все это сохранилось лишь фрагментарно, но и в таком виде позволяет увидеть, что люди в Иерихоне жили зажиточно. То была уже настоящая и довольно высокая по тем временам цивилизация. Конец ее наступил вместе с концом среднего бронзового века, с началом становления и расширения великих ближневосточных империй. Лежавший на скрещении путей Ханаан оказался, как и сейчас, предметом внимания и интереса великих держав. Около 1560 года до н. э. (Иерусалим уже был тогда столицей племени иевуситов) в страну вторглись египтяне. Иерихон был захвачен, разграблен и сожжен; С этого момента культурный слой снова становится стерильным. Предшественник Кэтлин Кеньон, уже упоминавшийся выше Гарстанг, нашел, правда, на краю иерихонского холма какие-то жалкие остатки невысоких стен и временных жилищ, которые он датировал 1350 годом до новой эры, но можно с почти полной уверенностью утверждать, что к концу этого столетия, то есть ко времени, которым большинство современных историков датирует завоевание Ханаана евреями, не высился вблизи Мертвого моря богатый и сильный город и не было тех стен, которые мог бы сокрушить рев еврейских боевых труб. Предание о рухнувших от трубного гласа стенах Иерихона — всего лишь красивая легенда. Йегошуа бин-Нун не был ни первым, ни последним среди тех полководцев, кто слегка преувеличил свои боевые заслуги, — достаточно глянуть на победные стелы египетских фараонов и ассирийских царей того времени. Впрочем, у бин-Нуна были вполне реальные причины гордиться взятием Иерихона — вступив в этот древний город, он вместе со своим народом вступил в историю. С этого времени первый город на планете продолжил свою жизнь уже как еврейский город. Пока в наши дни не стал палестинским. >ГЛАВА 2 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ А вот еще кое-что о древних строителях, хотя, скорее, из области забавного. Как многим, наверно, известно, по всей территории Британского королевства рассеяно множество древних каменных монументов, состоящих из ряда вертикальных подпорок, поддерживающих поперечную. Они получили название «хедж». Самый знаменитый и интересный из них, Стоунхедж, расположен на равнине Солсбери, что на юго-западе Англии. Историки полагают, что его строительство заняло примерно четыреста лет и закончилось 4800 лет назад. Комплекс Стоунхеджа состоит из наружного кольца П-образных каменных сооружений из песчаника — это вертикально стоящие камни высотой около 4,5 м, которые поддерживают горизонтальные каменные «перекладины». Кроме того, имеется также внутреннее кольцо из камней пониже, которое повторяет форму наружного. Множество разнообразных гипотез высказывалось по поводу назначения этого монумента. Многие ученые считают, что это был храм, в котором в период неолита происходили культовые процессии священников и мистические празднества, а вокруг, в открытом поле, располагались зрители. Возможно также, что это было место для некультовых зрелищных представлений. Так вот, недавно была выдвинута новая, весьма забавная гипотеза, согласно которой дизайн Стоунхеджа основан на женской сексуальной анатомии. Автор гипотезы — доктор Антони Перке, отставной профессор гинекологии и акушерства университета Британской Колумбии в Ванкувере и врач университетской женской больницы. Внимательно рассматривая камни Стоунхеджа, он заметил, что некоторые из них тщательно отполированы, а другие остались необработанными. Это навело его на мысль о связи отполированных камней с профессионально хорошо знакомыми ему особенностями женской кожи. Гладкость женской кожи по сравнению с мужской давно известна и связана с женским гормоном эстрогеном. «Каких же гигантских усилий стоило древним людям шлифовать камни вручную», — подумал доктор Перке и решил проанализировать весь монумент в анатомических терминах женского полового аппарата. Он увидел, что камни внутреннего кольца расположены скорее по эллиптической, яйцеобразной кривой, нежели по кругу. Сравнение ее формы с формой женских половых органов показало неожиданный параллелизм. Дальнейшее изучение монумента выявило другие интересные детали, и в результате у Перкса родилась законченная и оригинальная гипотеза. Согласно, этой гипотезе, наружный каменный круг и невысокий холм в его центре, возможно, имитируют т. н. большие срамные губы (две покрытые волосами кожные складки, которые окаймляют отверстие влагалища и сзади от него срастаются вместе) и лобок, тогда как внутренний круг изображает малые срамные губы (две другие складки, не покрытые волосами, вокруг женского влагалища, у передней точки соединения которых находится клитор). Тогда камень алтаря (или жертвенника) должен соответствовать самому клитору, а пустой геометрический центр, очерченный камнями малого круга, — символ детородного канала. При всей своей кажущейся забавности гипотеза Перкса содержит некое здравое научное зерно. Перкс обращает внимание на тот факт, что, в отличие от других холмов на просторах Англии, в холмах, окружающих Стоунхедж, найдено очень мало захоронений. Он трактует это как подтверждение своей гипотезы: «Я думаю, что это место было символом жизни, а не смерти». По мнению Перкса, комплекс Стоунхеджа был посвящен богине Матери-Земле. Поклонение этой богине было распространено среди ранних кельтов и людей других европейских неолитических культур. В Европе найдены сотни статуэток, так или иначе выражающих идею богини-Матери. Они были созданы в те времена, когда роды сопровождались высочайшей смертностью младенцев, и поэтому вполне возможно, что богине-Матери молились также о выживании новорожденных и вообще о плодородии. Поэтому Стоунхедж, по мнению Перкса, мог служить для таких «церемоний плодородия», которые связывали рождение и выживание человека с рождением и выживанием растений и животных, от которых зависели тогдашние люди. Любопытно, что почти одновременно с Перксом проблемой Стоунхеджа занялся другой ученый, голландский профессор философии Джон Давид Норт. Он выдвинул совершенно иное (и более консервативное) предположение, заявив, что камни Стоунхеджа расположены так, что образуют точную проекцию определенных звезд, а потому следует думать, что Стоунхендж служил астрономической обсерваторией и картой звездного неба. Доктор Перке признает, что монумент, возможно, был связан и со звездным небом, но видит это в ином свете. «В Стоунхедже мы видим на открытой равнине Солсбери небесный свод вместе с Землей. Как будто бы Отец-Солнце встречается с Матерью-Землей на середине пути, в месте, обращенном к будущему». Так что правило «Шерше ля фам», то бишь «Ищите женщину», иногда, как видим, помогает и в поисках разгадок доисторических тайн. Если и не очень убедительных, то весьма увлекательных разгадок. Не оглянуться ли и нам на иные наши древности? >ГЛАВА 3 СЕКСУАЛЬНЫЕ РАБЫ ИШТАР В гипотезе доктора Перке есть и другое рациональное зерно. Древние люди действительно много размышляли о женщинах. Оно и понятно — женщины рожали детей, т. е. были залогом будущего. Может быть, потому и секс играл огромную роль в древней культуре — чему доказательством нижеследующая занимательная история. Она начинается словами (кое-где попорченной) вавилонской рукописи:
Эта пространная эротическая поэма, лишь небольшой отрывок из которой приведен выше, описывает длинную череду сексуальных сношений вавилонской женщины по имени Иштар со 120 юношами ее города. Сей примечательный текст, в котором то и дело повторяется припев: «Вот так милуются девки с парнями в нашем городе!», был обнаружен в собрании клинописных текстов религиозного толка в развалинах главного центра вавилонской религии, города Ниппур, который историки иногда называют «Ватиканом Ново-Вавилонского царства». Глиняная табличка с текстом поэмы была найдена во время раскопок древнего Вавилона в 1880 году одним из пионеров современной археологии Германом Хильпрехтом. Судя по всему, поэма была написана во время царствования знаменитого Хаммурапи, но найденный Хильпрехтом текст, представлял собой более позднюю копию, что свидетельствует о большой популярности данного произведения. Сорок лет царствования Хаммурапи (XVIII век до н. э.) были временем расцвета Вавилонии. В те времена царство это было религиозным, культурным и научным центром всего Ближнего Востока. Именно тогда было создано первое в истории собрание законов, известное под названием «кодекса Хаммурапи». И одновременно то была эпоха бурного расцвета литературного творчества. «Тексты, описывающие сексуальные отношения вавилонян, представляют собой органическую часть этой богатой литературной традиции, — говорит профессор израильского Беэр-Шевского университета Авигдор Гурвиц, посвятивший этому гимну древнего распутства статью в вышедшем недавно в США сборнике «Разгадывая загадки и распутывая узлы». — Секс был такой же законной темой искусства, как в наши дни, когда, например, в кинофильме, не имеющем никакого отношения к порнографии, можно встретить постельные сцены. Так же и в знаменитой вавилонской поэме «Деяния Гильгамеша» имеется эпизод, в котором дикое лесное существо Энкиду семь суток подряд совокупляется с блудницей». По словам проф. Гурвица, вавилонское общество было значительно более терпимым и открытым в отношении секса, чем еврейское или христианское, и вавилоняне свободно обсуждали любые сексуальные проблемы. Секс был также и куда более доступен. Так, например, в городе Ашшур (на территории нынешнего Ирака) существовал храм богини любви Иштар, в развалинах которого были найдены медальоны с изображениями храмовых проституток мужского и женского пола; как полагают исследователи, сношения с ними считались своего рода магическим ритуалом. «Напротив, в еврейских источниках, — продолжает Авигдор Гурвиц, — о сексе, как правило, говорится весьма сдержанно, и всякое описание сексуальных отношений, выходившее за рамки общепринятого, считалось предосудительным». Так, в известном рассказе Книги Судей о Яэли и Сисаре так и не сказано напрямую, сопровождалась ли их встреча половым актом. Впрочем, согласно талмудическому комментарию рава Йоханана, стих «Между ног ее встал на колени, опустился и лежал, между ног ее встал на колени и опустился, там, где встал на колени, лежал, убитый» следует понимать в том смысле, что Сисара успел семь раз овладеть Яэлью, прежде чем она его убила. Подобно древним еврейским авторам, современные ассириологи относятся к проблеме секса весьма консервативно, и, например, в одном из известнейших английских переводов «Деяний Гильгамеша» переводчик Александр Хейдель предпочел перевести слишком скабрезную сцену… по-латински! Возможно, по тем же причинам и эротические гимны, повествующие о вавилонском разврате, оставались неизвестными в течение многих лет (с самого момента их обнаружения), и лишь в самое последнее время они нашли своих переводчиков. Немецкий ассириолог Вольфрам фон Зоден перевел их на немецкий, но при этом ограничился обсуждением лишь грамматических особенностей текста. Тем не менее даже на основании этого анализа фон Зоден пришел к выводу, что найденная глиняная табличка, по всей видимости, представляет собой отрывок более обширного текста — возможно, культового или ритуального характера. Исследование Авигдора Гурвица основывается на переводе фон Зодена, но, в отличие от труда немецкого исследователя, представляет собой первый в ассириологии чисто литературный анализ поэмы. По мнению Гурвица, «этот текст представляет собой одно из древнейших порнографических произведений вавилонской письменности. А то, что текст этот написан по-аккадски — на древнем языке богослужения, — не более чем прием. В поэме масса юмористических моментов и остроумной словесной игры, что свидетельствует об определенной литературной изощренности автора». В процитированном отрывке речь идет о женщине по имени Иштар (судя по всему, вполне обычной, живой женщине, а не одноименной богине), с которой хотят совокупиться юноши города. Один из них предлагает, ей усладить себя. Его товарищ, видимо, сочтя, что это вежливое предложение не будет оценено по достоинству, добавляет перца и предлагает Иштар нечто более грубо-откровенное. Ответ Иштар превосходит все ожидания юношей: она предлагает себя не только им, но и всему городу, и приглашает городских юношей «в тень стены». Речь идет, по-видимому, о том районе, который в древности служил эквивалентом современных «кварталов красных фонарей», ибо и о блуднице Рахав в Библии сказано, что «дом ее вблизи стены и у стены она живет». 120 юношей решают воспользоваться соблазнительным предложением Иштар, и каждый из них совокупляется с ней по «семь раз спереди и семи раз сзади». Но даже эти сотни половых актов не удовлетворяют женского сластолюбия. Юноши изнемогли, но Иштар требует еще. Рассказ кончается тем, что изнуренные юноши все же удовлетворяют ее желание. «Все мужчины хотят послужить этой женщине, но Иштар оказывается сильнее и выносливей своих сексуальных рабов», — отмечает проф. Гурвиц. По его мнению, автор поэмы выражает здесь — быть может, впервые в истории — феминистскую позицию: «Иштар — это высшее воплощение сексуального объекта; она предлагает всем свое тело, но на самом деле никому не подчиняется и никому не принадлежит. Женщина здесь изображена существом высшего ранга, а мужчины — низшими существами, которые служат ей и подчиняются ее воле». Вместе с тем профессор Гурвиц признает, что поскольку мы имеем дело с литературой, всегда существует опасность переноса наших нынешних представлений на древний текст со всеми его очевидными и неизбежными неопределенностями. Что, может быть, и так. >ГЛАВА 4 ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ В АККАДЕ Поскольку мы уже упомянули об аккадском языке, поговорим об Аккаде. Катастрофы, как известно, происходят не только в природе. Вопросительными знаками загадочных катастроф кончаются также страницы человеческой истории, посвященные взлету и упадку многих великих империй прошлого. И эта история — как раз об одной такой загадке, связанной с древним Аккадским царством великого Саргана, и о новейшей гипотезе, предлагающей ее объяснение. Одна из самых популярных книг об истории Древнего Ближнего Востока называется решительно и кратко — «История начинается в Шумере». В пику этому — и со значительно большим правом — наш рассказ можно назвать «История начинается в Аккаде», ибо если Шумер и был самой процветающей частью древней Месопотамии, то все же первыми объединили все города Двуречья, включая шумерские Ур, Лагаш, Урук и другие, именно цари Аккада. Давайте, однако, для начала поставим, как говорится, текст в контекст. Набросаем общие историко-географические контуры происходящего. Итак, место действия — Месопотамия, или Двуречье (долина Тигра и Евфрата); время действия — 3-е тысячелетие до новой эры. Еще должны пройти добрые полтысячи лет, прежде чем древние евреи переселятся в Египет, и почти тысячелетие до того, как они совершат Исход оттуда. Но уже и в. середине 3-го тысячелетия в Египте существует могущественное государство, именуемое сегодня Древним царством; в нынешней Палестине и Сирии там и сям возникают торговые города и земледельческие поселения; на Крите и Эгейских островах развивается культура раннего бронзового века. Свой островок цивилизации существует и в Двуречье. Южная часть страны, или Шумер, с ее Уром, Уруком, Лагашем и другими городами пересечена ирригационными каналами — благодаря им речные воды оплодотворяг ют пахотные земли, на которых дважды в год ячмень приносит 50-кратные урожаи; северная часть, Аккад, славится бескрайними пшеничными полями, среди которых высятся города-государства Вавилон, Киш, Сиппар, Кута, Акшак. В сущности, все это — территория нынешнего Ирака, пограничная с нынешним Ираном, и вот здесь-то и начинается в те времена трехтысячелетняя история великих империй Древнего Ближнего Востока. Перечислим их в порядке появления и смены друг друга: Аккадское царство; Вавилонское царство; Ассирийское царство; Нововавилонское царство; Персидская империя; империя Александра Македонского. На этом фоне со 2-го тысячелетия до н. э. развивается и более знакомая нам история древних евреев. А началось все, как уже было сказано, в Аккаде. В 2360 году до н. э. царь аккадских земель Сарган (позднее прозванный Великим) завоевал не только все города шумеров, но и раздвинул границы созданного этими завоеваниями государства на восток далеко за Персидский залив, в земли Элама; на запад — до берегов Средиземного моря (так что в пределах этих границ оказались Сирия, Ливан и Палестина); на юг — до нынешнего Омана; и на север — до равнин. Анатолии, что в сердце нынешней Турции. Поистине грандиозная получилась империя, территориально, вероятно, самая большая в мире по тем временам. Историкам известно (из надписей и раскопок), что при сыновьях и внуках Саргана (сам он умер в 2305 году до н. э.) созданное им государство процветало и укреплялось. Вдоль северных границ, откуда то и дело пытались прорваться воинственные племена горцев, были воздвигнуты многочисленные могучие крепости; на юге расширялась и совершенствовалась система оросительных каналов; повсюду строились ступенчатые храмы-зиккураты и величественные дворцы для придворной аристократии и бюрократической элиты. Так продолжалось ещё около ста лет после смерти Саргона, а затем произошло что-то непонятное: почти внезапно и одновременно все эти цветущие города, могучие крепости и плодородные поля были заброшены и отданы во власть свирепым песчаным ветрам; люди, населявшие северную часть Аккада, покинули свои жилища и бежали на юг, словно гонимые каким-то непонятным страхом; великое царство в одночасье развалилось и стало добычей варваров, спустившихся с гор. Крушение Аккадского царства было таким основательным, что больше оно уже не возродилось, а первые робкие признаки возрождения Двуречья появились лишь спустя 300 лет, в 1900 году до н. э.! И понадобилось еще целое столетие, прежде чем земли Двуречья снова объединил (на сей раз уже в виде Вавилонского царства) великий завоеватель и законодатель Хаммурапи. Вот это и есть та загадка, которой посвящен наш рассказ. Что вызвало бегство горожан и крестьян Аккада на юг? Что вообще вызвало этот неожиданный, ничем вроде бы не предвещавшийся крах Аккадского царства? И почему все это произошло не просто «очень быстро», а буквально «в одночасье», в течение нескольких считанных лет (сегодня это событие датируется вполне точно — оно произошло около 2200 года до н. э.)? Первая мысль — вторжение каких-нибудь пришлых завоевателей. Но нет, исторические памятники и данные раскопок не подтверждают такой гипотезы. Вторжение с гор действительно произошло, только не до, а после развала империи; иными словами, оно было не причиной этого развала, а его следствием. Мысль вторая — какой-нибудь гигантский природный катаклизм вроде того, который, как сегодня все более уверенно считается, 65 миллионов лет назад уничтожил динозавров. Но нет, не сохранились в истории следы такого катаклизма, а должны были бы обязательно сохраниться, если бы он был столь грандиозных масштабов — ведь Аккадское царство охватывало практически весь Ближний Восток. Надо заметить, что большинство историков — «древнеближневосточников» долгие десятилетия весьма единодушно игнорировали все эти вопросы. Более того — они вообще не видели здесь загадки. По их мнению, развитие Аккада следовало обычному закону развития всех древних империй: они оказывались не способны интегрировать завоеванные ими отдельные города-государства в рамки единого государственного целого; в результате в их основах рано, или поздно обнаруживалась «имперская слабость» и они становились легкой добычей очередных, вторгавшихся извне варваров. В случае Аккада эта схема была сформулирована авторитетнейшим ассириологом Норманом Иоффе из Мичиганского университета, который даже не потрудился хоть как-то ее конкретизировать, заявив без всякого стремления к оригинальности: «Неспособность включить традиционную знать городов-государств в процесс расширения империи усилила центробежные тенденции и тем самым сделала фланги империи чересчур уязвимыми». Понятно, что подобные теории могли держаться лишь до тех пор, пока датировка Аккадской катастрофы была расплывчатой и туманной. Но постепенно в археологии Ближнего Востока стали накапливаться данные, свидетельствовавшие о том, что эта катастрофа была исторически «внезапной» и явно связанной с какими-то природными причинами… На такие причины издавна указывала народная традиция — например, знаменитая древняя поэма «Аккадское проклятие», приписывавшая падение Аккада гневу бога Энлиля, храм которого якобы разрушил последний из аккадских царей, в наказание за что, Энлиль-де наслал на Аккад засуху, голод и вторжение варваров. Разумеется, поэма, да еще древняя, не очень серьезное свидетельство, согласимся. Однако в конце 40-х — начале 50-х годов с аналогичными «стихийно-природными» объяснениями Аккадской катастрофы выступили некоторые серьезные ученые. Например, французский археолог Шеффер высказал предположение, что эта катастрофа была вызвана повсеместными землетрясениями, а британский археолог Мелларт выдвинул гипотезу, что ее основной причиной были затяжные засухи. Однако в те времена большинство специалистов сочли эти объяснения чересчур «фантастическими». Ученые, подобные Иоффе, продолжали считать причиной катастрофы постепенное накопление неблагоприятных социально-политических факторов; другие, как израильский археолог Арлена Розен из университета имени Бен-Гуриона, признавая возможную «частичную роль» экологических причин, тем не менее, основную вину возлагали на «негибкость древних властителей», не сумевших-де «приспособиться к изменившимся условиям»; наконец, третьи, как американский археолог Бутцер, соглашаясь признать за экологическими причинами «весьма значительную» роль, все же объявляли их чем-то вроде последней соломинки, сломавшей спину уже до того перегруженного «имперского верблюда». А меж тем ни одна из этих групп ученых не могла объяснить тот важнейший, к тому времени неоспоримо установленный факт, что в 2200 году до н. э. «что-то» произошло не только в Аккаде, но одновременно чуть ли не на всей территории тогдашнего средиземноморского мира. И раскопки с применением более точных методов датировки, и углубленное изучение новонайденных памятников действительно показали, что практически одновременно с крахом Аккадского царства в Месопотамии произошло и падение Древнего царства в Египте, и массовое и повсеместное обезлюдение городов и поселений Сирии и Палестины, и почти внезапное крушение раннебронзовой крито-эгейской культуры. Тут уже «центростремительными процессами» и «уязвимостью имперских флангов» ничего не объяснишь. Налицо была серия несомненных и весьма масштабных исторических катастроф, практическая одновременность которых требовала каких-то иных, столь же крупномасштабных объяснений. Может быть, историки и археологи по-прежнему продолжали бы держаться за свои излюбленные социально-политические концепции постепенно нараставшего «имперского кризиса», но к этому времени в науке произошло еще одно существенное изменение: стал ощутимо меняться характер представлений о ходе исторических процессов в целом. Прежние представления о постепенном, медленном, «градуальном» характере биологической и исторической эволюции стали все более уступать место новым теориям, подчеркивавшим чрезвычайно важную, порой, возможно, решающую роль «точечных», «одномоментных» событий катастрофического характера. Короче, в науку стал возвращаться «катастрофизм», сформулированный в Начале XIX века Жоржем Кювье, а после Дарвина изгнанный из научного обихода. Важнейшей вехой этого поворота стала выдвинутая в 1980 году отцом и сыном Альварецами гипотеза о столкновении Земли с астероидом (или крупным метеоритом) как главной причине внезапной, массовой и практически одновременной гибели динозавров. Поначалу высмеянная чуть ли не всеми специалистами, эта гипотеза спустя десять лет была блестяще подтверждена обнаружением вполне реальных следов такого столкновения, сохранившихся во многих местах планеты (в частности, следов иридия метеоритного происхождения), а затем и остатков соответствующего кратера на дне Мексиканского залива. Успех Альварецов вдохновил тех молодых историков и археологов, которым давно не давала покоя загадка Аккадской катастрофы и которых не удовлетворяли ее традиционные объяснения, и в 1993 году группа этих ученых (американец Харви Вейсс, француженка Мари-Агнес Курти и другие) выступила в журнале «Сайенс» с оригинальной гипотезой, основанной на совокупности множества новых фактических данных и предлагавшей новое решение давней исторической проблемы Аккада. Те фактические данные, которые легли в основу этой нашумевшей (и открывшей длящийся по сей день яростный спор историков), статьи, были собраны ее авторами в течение почти 15 лет раскопок на холме Тель-Лейлан в Северной Сирии. Здесь, под многовековыми песками, были обнаружены остатки древнего города, который в свое время был одним из торговых и политических центров Аккадского царства. Результаты раскопок Тель-Лейлана во многом перевернули прежние представления специалистов о развитии цивилизации Двуречья. Раньше считалось, что хотя объединителями здешних земель были цари Аккада, но подлинную культуру — земледелия, строительства и т. д. — привнесли; в Аккадское царство жители юга — шумеры (отсюда. и упомянутое в начале этого рассказа название — «История начинается в Шумере»). Теперь выяснилось, что в действительности развитие севера и юга Месопотамии происходило практически одновременно и параллельно. Тель-Лейлан начал стремительно расширяться и застраиваться уже в 2600 году до н. э., задолго до объединения страны под властью Саргона Великого и появления на севере шумеров. К 2400 году до н. э. город увеличился в шесть раз, заняв общую площадь в 20 гектаров. Его жилые кварталы были тщательно распланированы, прямые улицы — пересечены дренажными каналами, в центре высился величественный акрополь. При Саргоне, его детях и внуках этот рост продолжался за счет переселения в Тель-Лейлан жителей окрестных городов. Судя по найденным документам, такие переселения одновременно происходили и в других местах царства; переселенцы направлялись затем на государственные работы по освоению новых земель и прокладку торговых дорог, что способствовало дальнейшему росту процветания страны. Иными словами, вплоть до 2200 года до н. э. ни раскопки, ни документы не содержат и намека на какой бы то ни было «подспудный кризис империи», который якобы стал причиной ее последующего краха. Второе обстоятельство, неопровержимо установленное раскопками в Тель-Лейлане, — несомненная историческая «внезапность» этого краха. Вот только что (в 2250 году до н. э.) были воздвигнуты новые, мощные крепостные стены и переселены в город окрестные жители, а спустя каких-нибудь 40–50 лет Тель-Лейлан уже покинут и занесен песком! Исследователи обнаружили, что песчаные слои, покрывающие рухнувшие городские строения, не содержат ни малейших признаков человеческой деятельности на протяжении всех последующих 300 лет — только около 1900 года до н. э. в этих слоях вновь появляются следы пепла, бытового мусора, а затем и развалины новой имперской крепости. Любопытно также, что первыми на руины аккадского Тель-Лейлана легли слои песка, смешанного с вулканической пылью. Откуда она взялась в этих местах, где уже сотни тысяч лет не было никаких вулканов, непонятно, но еще интереснее, что та же картина была обнаружена и во многих других местах, где молодые исследователи подняли древние песчаные слои. Развалины Тель-Тайя, Хагар-Базара, Тель эль-Хавы и других древних аккадских крепостей тоже оказались засыпаны смесью песка и вулканической пыли, а затем — безжизненными слоями чистого песка толщиной около 20 см. Применяя методы радиоактивной датировки, исследователи установили, что начальный слой песка во всех этих местах относится к 2200-у, а последний — к 1900 году до н. э. Иными словами, все данные свидетельствовали о том, что равнины Северной Месопотамии были покинуты их жителями на целых 300 лет, начиная с 2200 года до н. э. Те же методы датировки, примененные другими археологами к развалинам других великих культур Средиземноморья (в Египте, на Крите и т. д.), показали, что и там крах первых цивилизаций произошел в то же самое время. Более того, обнаружены следы «разрыва исторической непрерывности», а проще говоря — некой загадочной исторической катастрофы, причем в столь отдаленных от Средиземноморья местах, как долина Инда и равнины Кении. И опять в то же самое время — около 2200 года до н. э. Добавим к этому, что результаты недавнего (1996 год) исследования отложений на дне Оманского залива обнаружили и там следы того же катаклизма: слой этих отложений, относящийся к 2300–2200 годам до н. э., оказался впятеро более богат осадками, чем все предыдущие и последующие, и к тому же насыщен все той же вездесущей вулканической пылью. Таким образом, картина катаклизма 2200 года до н. э., первые штрихи которой были прочерчены загадочной «Аккадской катастрофой», постепенно расширилась, охватив почти все известные тогда очаги человеческой цивилизации. Аккадская катастрофа оказалась не только вполне реальным историческим событием, но и одним из многих аналогичных катастрофических событий того же времени. Толчок, полученный исторической мыслью в результате новых исследований молодых западных археологов в покинутых городах Аккада, постепенно привел к становлению совершенно неожиданной концепции крупномасштабного катаклизма, одновременно затронувшего весьма отдаленные друг от друга регионы земного шара. И в этом смысле можно лишь повторить, что вся эта история, действительно, началась в Аккаде. Но что же все-таки было причиной данного катаклизма? Несомненно, главную, так сказать, непосредственную роль в нем сыграло наступление длительного периода устойчивых песчаных бурь и засух, растянувшихся на долгие десятилетия и сделавших невозможной жизнь в городах Северной Месопотамии. Бегство тамошних жителей на юг было, видимо, прямым следствием этих экологических бедствий. Можно думать, что какие-то аналогичные причины привели к произошедшим в те же времена изменениям в течениях Нила и Инда. Все это, вместе взятое, ознаменовало наступление длительного, почти трехвекового периода засух и холодов на огромном пространстве Азии, Северной Африки и Южной Европы. Но исходной причиной катаклизма были, надо думать, еще более масштабные события. Некоторые указания на их возможный характер дают последние результаты, полученные при исследовании отложений на дне Атлантического океана между Гренландией и Исландией. В этих отложениях обнаружены слои того же времени, особенности которых свидетельствуют о резком изменении климата всего северного полушария. Некоторые климатологи высказывают на этом основании гипотезу о связи этого похолодания с неким длительным и устойчивым «эффектом Эль-Ниньо». Ведь и в наше время этот эффект, вызываемый изменениями океанских течений, оказывает существенное влияние на погоду в общепланетарном масштабе. Однако окончательного ответа на вопрос о причинах катаклизма 2200 года до н. э. пока еще нет, и, как выразился один из исследователей, тот, кто этот убедительный и однозначный ответ найдет, может наверняка рассчитывать на Нобелевскую премию. Так что загадка «Аккадской катастрофы» все еще ждет своего решения. >ГЛАВА 5 ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПОТОПУ Перефразируя начало предыдущей истории, можно сказать: катастрофы происходят не только в человеческой истории, куда чаще они происходят в природе. О многих мы знаем, другие остаются предположительными. Об одной из таких «предположительных катастроф» шла речь на конференции Археологического института Соединенных Штатов, состоявшейся в городе Сан-Диего. Главным событием конференции была встреча американских археологов и историков с геологами Вильямом Райаном и Уолтером Питманом — авторами нашумевшей книги «Ноев потоп, или новые научные открытия, связанные с событием, которое изменило мир». Чем же прославились эти геологи, что с ними захотели встретиться специалисты совсем другой профессии, казалось бы, от геологии весьма далекой? Десять лет назад, в 1996 году, Райан и Питман, специалисты по геологии морей, выдвинули дерзкую гипотезу, согласно которой Ноев потоп действительно происходил — только не на всей Земле, а лишь в определенной ее части, в Черном море. Опираясь на результаты своих многолетних исследований подводной периферии этого моря и древних осадков вдоль нее, Райан и Питман пришли к выводу, что примерно 7600 лет тому назад (то есть около 5600 года до н. э.) Черное море весьма быстро и резко изменило свою акваторию. Найденные авторами факты указывали, что площадь моря за какие-нибудь считанные месяцы (максимум — за два года) увеличилась почти на 30 процентов, залив при этом свыше 150 тысяч квадратных километров прибрежных земель. По мнению Райана и Питмана, это произошло в результате внезапного прорыва скалистого перешейка, который до того отделял Черное море от Средиземного. В образовавшийся пролив (ныне мы его называем Босфорским) хлынули средиземноморские воды. Обрушиваясь в более низко лежавший черноморский бассейн, они создали гигантский водопад, по мощности превышавший двадцать Ниагарских водопадов, который в короткое время изменил не только облик самого Черного моря, но и всю культурную географию региона. Спасаясь от быстро наступавшей воды, прибрежные жители вынуждены были покинуть давно освоенные и обжитые берега и в панике рассеяться кто куда. Райан и Питман высказали убеждение, что именно это «великое бегство народов» привело к тому, что-навыки сельского хозяйства, впервые выработанные людьми как раз у берегов благодатного Черного моря, были перенесены, с одной стороны, в Центральную и Западную Европу, а с другой — на Ближний Восток и в Месопотамию. Такое огромное бедствие, такой гигантский природный катаклизм не мог не запечатлеться в памяти перенесших его людей, и вот сказание о потопе, содержащееся как в библейском рассказе о Ноевом ковчеге, так и в предшествовавшем ему месопотамском мифе о Гильгамеше (там роль Ноя играет бессмертный Утнапиштим) как раз и является, по словам авторов, отражением и косвенным свидетельством реальности «черноморского потопа». Впечатляющая гипотеза Райана и Питмана не могла не вызвать споров и дискуссий, и таковые не замедлили последовать. Геологи, ознакомившиеся с доводами коллег, нашли их достаточно убедительными. С гипотезой согласились и некоторые археологи и историки. Так, Альберт Аммерман из университета Колгэйт заметил, что первое появление оседлых поселений и признаков сельского хозяйства в современной Венгрии датируется временем, на 200 лет более поздним по сравнению с предполагаемым «потопом», что вполне согласуется с гипотезой об «исходе» носителей оседлости и агрикультуры с берегов Черного моря. Сами авторы гипотезы, продолжая свои изыскания, обнаружили в донном иле у берегов Черного моря раковины, принадлежащие мелким морским животным, характерным именно для Средиземного моря, причем, судя по радиоактивной датировке, животные эти погибли как раз 7600 лет тому назад. Еще более интересное и отчасти загадочное открытие Райан и Питман сделали вблизи пролива Босфор, в Мраморном море. Они нашли здесь на морском дне странное подводное образование, имеющее характер длинной (почти полукилометровой) дамбы, постепенно поднимающейся на высоту пятиэтажного дома. Если дальнейшее изучение покажет, что дамба имеет искусственный характер, это может быть еще одним свидетельством того, что в древние времена на месте Мраморного моря была обжитая суша, разделявшая Черное и Средиземное моря. Но самые любопытные доказательства в пользу справедливости гипотезы «черноморского потопа» нашел пенсильванский археолог Фредрик Хиберт, в течение нескольких лет изучавший подводное побережье Черного моря вблизи турецкого города Сйноп. В ходе своих исследований он применял подводные эхолокаторы и другие средства дистанционного фотографирования. Недавно на телеэкранах был показан сенсационный научно-документальный фильм, сделанный Хибертом с помощью этих методов. На снимках отчетливо видны наполовину ушедшие в донный ил остатки обработанных камней, образующих нечто вроде древнего жилища, и другие приметы явно существовавшего здесь в древности и позже затопленного поднявшимся морем оседлого человеческого поселения. Ободренные всеми этими доказательствами справедливости своей гипотезы, Райан и Питман собрали их в книгу под вышеупомянутым заглавием. Именно эта книга и послужила предметом споров, развернувшихся вокруг гипотезы «черноморского потопа» на конференции Национального археологического института в Сан-Диего. Дело в том, что, в отличие от немногочисленных энтузиастов вроде Хиберта, большинство историков и археологов и прежде не соглашалось с далеко идущими выводами Райана и Питмана; теперь же, после выхода в свет их обобщающего труда с «новыми научными доказательствами», это большинство и вовсе восприняло идею в штыки. Надо, однако, заметить справедливости ради, что главные возражения историков и археологов вызывает не столько геологическая сторона аргументации авторов, сколько их культурно-исторические выводы. Выступая на конференции в Сан-Диего, английский историк Стефани Далли из Оксфорда указала, что намеченные Райаном и Питманом параллели между их описанием «потопа» и его описанием в ближневосточных мифах крайне сомнительны. Как в истории Гильгамеша, так и в рассказе о Ное говорится, что потоп был вызван дождём, который шел непрерывно в течение длительного времени, так что покрыл «всю землю»; между тем в случае постепенного, пусть даже быстрого подъема уровня моря суша все время должна была быть видна. Весьма странно также, что память о потопе сохранилась почему-то лишь в ближневосточных мифах: если бы он происходил так, как описано у Райана и Питмана, воспоминания о нем должны были отразиться и в легендах Центральной Европы, куда, если верить авторам, ушла значительная часть «беженцев». Но в европейской мифологии следы «потопа» начисто отсутствуют. Поэтому куда более вероятно, что ближневосточные мифы о потопе были все-таки порождены не «черноморским потопом» Райана — Питмана, а теми катастрофическими наводнениями, которые в древности периодически происходили на месопотамских землях в устье Тигра и Евфрата. А если это так, то следует признать, что культурное влияние «черноморского потопа» (предположим, что он имел место) было куда менее значительным, чем это утверждают авторы гипотезы. И, скорее всего, появление сельского хозяйства в Европе вызвано другими миграциями и более сложными культурными процессами. Мнение осторожного большинства подытожил на конференции в Сан-Диего ее председатель, археолог Эндрю Мур, заявив, что «преувеличенные заявления, связывающие затопление Черного моря и Ноев потоп, не нашли поддержки в исторических и культурных фактах». Но энтузиасты не согласились с. этим приговором. По их мнению, проблема потопа по-прежнему остается актуальной. >ГЛАВА 6 ЕЩЕ ОДНА АТЛАНТИДА Актуальной, судя по всему, остается и загадка знаменитой Атлантиды. С тех пор как более 25 веков назад великий Платон в своем диалоге «Тимей» рассказал о затонувшей стране Атлантиде, поиски местонахождения этой легендарной страны никогда не прекращались. Хотя многие ученые считали рассказ Платона попросту отголоском древних мифов, энтузиасты продолжали (и, как мы сейчас увидим, продолжают) выдвигать различные догадки о том, где могла находиться затонувшая держава атлантов. Атлантиду помещали вблизи острова Куба, у побережья Великобритании, на месте нынешних Азорских островов и т. п. Впрочем, сам Платон указал это место вполне однозначно: «Остров, находившийся впереди Геркулесовых Столбов», если пользоваться терминологией Платона (сегодня они называются Гибралтарскими) т. е. западней нынешнего Гибралтарского пролива, в Атлантическом океане. Но так как одновременно он утверждал, что остров этот был «больше Ливии и Азии, вместе взятых, и с него можно было перейти к другим островам и по ним проделать весь путь к противоположному континенту, а с них перебраться», то речь могла идти лишь об обширном архипелаге или даже целом континенте. Однако никакие глубоководные поиски в восточной части Атлантики не показали там наличия архипелага или затонувшего материка. И хотя Атлантиду так и не находили, она постепенно стала для многих своего рода исчезнувшей утопией — страной высочайшей культуры и цивилизации, которой кое-кто приписывал все культурные и технические достижения древнего человечества. В подтверждение ее существования привлекались различные аргументы — от смутных указаний древних источников до общности определенных скал, растений и животных по обе стороны Атлантического океана. Что касается этой общности, то сегодня после утверждения в науке теории дрейфа континентов уже ясно, что общность геологического и животно-растительного мира двух отдаленных материков может объясняться просто тем, что в давние времена Северная Америка и Евразия составляли единый сухопутный массив. Однако в последнее время в качестве доказательства реальности Атлантиды были выдвинуты новые аргументы. Французский историк Жак Коллина-Жерар обратил внимание на тот факт, что, согласно некоторым археологическим данным, во время последнего ледникового периода, около 19 тысяч лет назад, имела место значительная миграция населения тогдашней Европы в Северную Африку — часть древних людей бежала на юг от наступающих на Европу ледников. Такая заметная миграция, по мнению Коллина-Жерара, могла происходить лишь в том случае, если между Европой и Северной Африкой в те времена существовал сухопутный мост, расположенный либо в Средиземном море, либо в прилегающем к нему районе Атлантики, то есть впереди Геркулесовых Столбов, если пользоваться терминологией Платона. Таким мостом могла быть как раз Платонова Атлантида. Эти соображения побудили ученого заняться новыми поисками, и на сей раз эти поиски как будто увенчались неожиданным успехом — вблизи Гибралтарского пролива Коллина-Жерар обнаружил место, подозрительно напоминающее искомую и доселе ускользавшую от внимания всех других исследователей «Атлантиду». Увы, не совсем такую, как описывал Платон, но все же… Место это — находящийся в самой близкой к Гибралтару части Атлантики грязевой остров Спартель, лежащий на глубине около 100 метров ниже уровня моря. К поискам именно в этой точке профессора Коллина-Жерара привели не только литературные источники, но и строго научные рассуждения. Он использовал геологические данные о наиболее вероятной скорости подъема воды в Атлантическом океане после таяния последних европейских ледников, наступившего 11 тысяч лет тому назад. Правда, оказалось, что эта скорость составляла всего два метра в столетие, так что погружение Атлантиды, если она находилась именно здесь, должно было растянуться на столетия, а не произойти в одночасье, в один день, как описывает Платон. Но зато совпадает другое важное обстоятельство. Платон, живший почти две с половиной тысячи лет назад, в рассказе о гибели Атлантиды указывает, что он говорит о событии, которое произошло за 9 тысяч лет до него. Это означает, что Платонова Атлантида затонула примерно 11 тысяч лет назад. А это как раз то время, когда начали подниматься атлантические воды, отмечает Коллина-Жерар. К профессору Коллина-Жерару с энтузиазмом примкнули известные искатели «Титаника» Джордж Тулок и Поль-Анри Наржело. Они встретились с ним на археологической конференции, где профессор делал доклад о своей гипотезе, и были ею впечатлены. Незадолго до этого их подводная экспедиция к этому затонувшему кораблю, не менее легендарному, чем Атлантида, увенчалась триумфальным успехом — были найдены и подняты со дна многочисленные останки, переданные затем в специальный музей. И теперь, услышав о (вероятном) обнаружении Атлантиды, они сочли ее поиск таким же перспективным и стоящим делом, как поиск «Титаника», и предложили Коллина-Жерару свои услуги и свой двухместный батискаф. «Я слушал его на конференции, — рассказывает Наржело, — и, по-моему, я был его единственным слушателем. Но я тогда же подумал: «Это стоящая штука!» Ребенком я много читал об Атлантиде и, разумеется, был увлечен прочитанным, а то, что рассказывал Жак, открывало совершенно новый взгляд на вещи. Район, который он описывал, выглядел точно так, как его описывал Платон, — прямо за Геркулесовыми Столбами. Как только я это увидел, я подумал: «Это оно, Господи!» Я не мог поверить, что никто до сих пор не пришел к тому же выводу». В настоящее время остров Спартель представляет собой грязевую отмель длиной около 8 км и шириной 3,5 км, лежащую в Атлантике примерно в 100 км к западу от Гибралтара, и, как уже сказано, его максимальная глубина составляет около 100 метров ниже уровня океана. Исследователи намереваются в скором будущем произвести там двухнедельную разведку, главная цель которой — выявление каких-то следов древней жизни на острове. «Мы уже обнаружили место, которое могло быть гаванью острова; — утверждает Наржело, — и если это подтвердится, то там же должен был быть и населенный пункт, а может, и центр тамошней цивилизации». Он признает, что в истинной Атлантиде вряд ли существовали величественные храмы и дворцы — ведь речь идет о культуре раннего каменного века, — но собирается искать с помощью подводной фотосъемки пещеры и другие места, где могли бы жить древние люди 11 тысяч лет назад. «Если мы найдем их, то вернемся на более длительный срок для более подробного исследования». Деньги, необходимые для такой разведывательной экспедиции — порядка 250–500 тысяч долларов, — Наржело намерен собрать из частных пожертвований и научных грантов. Что ж, остается пожелать удачи этим искателям очередной Атлантиды. Их успех может принести много интересных сведений для науки. Если же они не обнаружат свою Атлантиду, нам тоже нечего беспокоиться — обязательно объявится следующая. >ГЛАВА 7 ТАК ВСЕ ЖЕ — КОЛОМБО ИЛИ КОЛОННО? Проплывем над (возможной) грязевой Атлантидой и направимся дальше, по пути Колумба. На этом пути тоже много занимательных загадок, и главная из них, конечно, связана с самим Колумбом. На протяжении столетий, прошедших с его смерти (в 1506 году в испанском городе Вальядолиде), сложилась и утвердилась легенда, будто этот великий мореплаватель и первооткрыватель Америки родился в итальянском городе Генуя, в ту пору — независимой и богатой морской державе, обладавшей многочисленными колониями в Средиземном море и спорившей за гегемонию в этом ареале с Венецианской республикой. Генуя охотно эксплуатировала эту легенду, щедро воздавая хвалу своему великому сыну и поминая его везде, где только возможно — от памятника в морской гавани до названия своего главного аэропорта. Туристам показывали увитый плющом «домик Колумба» в пригороде Порта Сопрана, где якобы прошло Колумбово детство, и рассказывали трогательные истории: о том, как он пристрастился к плаваниям, глядя на корабли, возвращавшиеся из дальних плаваний в генуэзскую гавань; как в возрасте 21 года впервые сам отправился в море; как три года спустя участвовал в морском сражении при мысе Сан-Винцент; как был ранен и спасся вплавь, держась за обломок бревна с утонувшего судна, и как чудесным образом был вынесен на побережье Португалии. Существовала, правда, небольшая деталь, которая слегка нарушала стройность и убедительность этого рассказа: в документах тогдашней Генуи практически отсутствовали какие бы то ни было упоминания о семействе «Коломбо» (как, согласно генуэзской легенде, назывался Колумб в Италии), не говоря уже о самом «Кристофоро Коломбо» (как, по той же легенде, должен был именоваться Колумб). Некоторых исследователей это наводило на малопочтительные (по отношению к легенде) предположения, вплоть до того, будто «Христофор Колумб был на самом деле Христофор Коломб, генуэзский еврей», как писал в эпиграфе к своему известному стихотворению Владимир Маяковский. Отсюда было рукой подать до совершенно уж непочтительных гипотез новейших русских авторов, которые вообще отрицают, будто Колумб куда-то плавал и что-то открыл (А. Бушков: «Россия, которой не было», стр. 36–44). Легко понять, до какой степени эти домыслы и предположения оскорбляли слух и вкус исследователей — уроженцев Иберийского полуострова, ревнивая национальная гордость которых уступает разве что их же титаническому национальному самоуважению. Здесь, в Иберии, давно уже считали, что Колумб всецело принадлежит Испании или, на худой конец, Испании и Португалии, месте взятым, что и составляет упомянутый полуостров. Считали, но доказать не могли. И вот сенсация. Профессор Альфонсо Энсенат де Вильялонга из департамента американских исследований в университете города Вальядолида (того самого, где умер наш герой) выступил в газетах с утверждением, что его многолетние исследования неопровержимо свидетельствуют, что Колумб был фактически испанцем. Историки ошиблись в отождествлении генуэзской семьи, к которой он якобы принадлежал. Он родился не в 1451-м, как всегда считали, а в 1446 году. И его семья эмигрировала из Генуи на Иберийский полуостров вскоре после этого, так что называть его итальянцем просто смешно. Он говорил только по-кастильски и по-португальски, а не по-итальянски, и никогда не возвращался в Италию. А как же корабли в генуэзской гавани, средиземноморские плавания, связи с пиратами, служба при дворе герцога Рене, сражение при мысе Сан-Винцент, ранение, чудесное спасение? А никак, говорит профессор Вильялонга. Всего этого просто не было. А если и было, то относилось к другому человеку — какому-то «Коломбо». А наш — испанский великий мореплаватель — должен по справедливости именоваться «Христофор Колон» — и в этом-то вся загвоздка! Как говорится, «Что в имени тебе моем?» А все в нем! И мы сейчас это увидим. Профессор Вильялонга, который последние 10 лет своей 71-летней жизни затратил на изучение ранней биографии Колумба, утверждает, что все прежние исследователи ошибались в своем предположении, будто Колумб родился Христофором Коломбо и только в Испании превратился в Кристобаля Колона. Коломбо, говорит профессор, не мог превратиться в Колона — для этого он должен был звучать по-итальянски Колонно или даже просто Колон. Не случайно многовековые поиски генуэзских документов, проливающих свет на детство и юность «Христофора Коломба», оказались безрезультатны. Нужно было искать документы о семье «Колонно» или что-то в этом роде. И действительно, стоило профессору заняться такими поисками, как он тут же-обнаружил, что в архивах Генуи, Мадрида и Барселоны сохранилось нетривиальное число документов о богатой генуэзской купеческой семье Колонне, проживавшей в Генуе XV века и имевшей тесные связи с правительством Генуэзской республики. Обнаружился также и документ о том, что некий разорившийся купец Доменико Скотто попросился под покровительство рода Колонне и в благодарность за оказанную ему милость изменил свою фамилию на Доменико Колонне. У этого-то Доменико был, как показывают другие документы, сын Христофоро, 1446 года рождения, вместе с которым Доменико и его жена Мария Спинола эмигрировали в 1451 году в Лиссабон, надеясь поправить свои дела в Португалии. Здесь Кристобаль Колон, как стали называть 5-летнего мальчика, был отправлен для изучения латыни в училище португальского (а не итальянского, как ошибочно считалось до сих пор) города Павия, а затем — в мореходную школу, некогда основанную португальским принцем Генрихом Мореплавателем. Свое образование он завершил кратким пребыванием во францисканском монастыре в религиозном португальском центре Эвора (чем, возможно, и объясняется то, почему на свою первую встречу с королевой Изабеллой и королем Фердинандом он явился в рясе францисканского монаха). Свои изыскания профессор Вильялонга изложил в подготовленной к печати книге «Жизнеописание Христофоро Колонне», которая должна, по его мнению, положить конец всем прежним легендам, развеять вековые предрассудки и вернуть Колонне-Колона в испано-португальское лоно. Что же до того, почему великого мореплавателя так долго называли Колумбом, то профессор Вильялонга объясняет, что в некоторых документах имя «Колон» было ошибочно записано как весьма созвучное «Колом», откуда уже было недалеко и до «Колумба». Можно думать, что следующим шагом испанских историков будет требование именовать первооткрывателя Америки только «Колоном» — и никаких «Колумбов». Не исключено, что некоторые пылкие головы потребуют и государство Колумбию переименовать в «Колонию»… Что же до нас, то мы позволим себе остаться при мнении, что историческая истина, конечно, важна, но не до такой же степени, как историческое деяние. Назовите хоть горшком, только в печку не сажайте. И не преувеличивайте значение родословных. Допустим, не был Христофор Колумб ни Христофором Коломбом, ни генуэзским евреем, ни даже итальянцем Христофоро Коломбо — ну так что? Америку все-таки открыл он, а не мы с вами… >ГЛАВА 8 ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ КИТАЙЦЫ Если вы думаете, что открытие профессора Вильялонга исчерпало все загадки, связанные с Колумбом, то глубоко заблуждаетесь. Как мы предупреждали выше, на колумбовом пути есть много проблем. К примеру, в осведомленных кругах давно уже поговаривают, что Америку вообще открыли задолго до Колумба. Одни грешат на исландских викингов, другие на островитян Тихого океана, этих «мореплавателей солнечного восхода», как красиво назвал их некогда некий писатель, третьи — на неведомых уроженцев Древней Африки. Кто бы это ни был, все они уходили на своих парусных кораблях, катамаранах или выдолбленных из бревна лодках в тысячекилометровые плавания и порой, гонимые ветрами и течениями, оказывались совсем не там, куда плыли. Все эти доколумбовы гипотезы одинаковы тем, что их авторы никаких достоверных доказательств представить не могут, так — одни лишь скудные исторические намеки да блеклые следы. Но чем меньше у них доказательств, тем больше свобода и полет их фантазий и тем более они волнуют и разжигают наше воображение. Да и вообще, разве рассказы о неведомых плаваниях неведомых корабелов в поисках неведомых земель в неведомые времена — не один из самых увлекательных жанров историко-географической беллетристики? У меня самого была когда-то замечательная книга, посвященная всем этим гипотетическим плаваниям, книга, которую я регулярно перечитывал, — она называлась «Неведомые земли», автор Хеннинг, четыре объемистых тома в сине-красном твердом переплете, — но я однажды, дурак, этаким широким жестом подарил все эти тома случайному гостю-коллекционеру с радиостанции «Свобода». Он так долго и нудно у меня их выпрашивал за деньги, что я не смог устоять от соблазна шикануть, о чем теперь мучительно жалею. Тем более что гость этот впоследствии оказался советским шпионом на «Свободе» — в прямом и переносном смысле. Недавно в этом замечательном жанре «историй мореплаваний» появилась очередная гипотеза. Автор ее — британский моряк, бывший командир подводной лодки, а также эксперт по навигации Гэйвен Мензис. Свои изыскания он проводил много лет и вот некоторое время назад доложил наконец о результатах этих исследований на очередном заседании Королевского географического общества Великобритании. Сам факт, что его заслушали в столь уважаемом и авторитетном кругу, включавшем ученых-географов и историков, специалистов по картографии, морских офицеров и дипломатов, свидетельствует, что к гипотезе Мензиса и нам стоит отнестись, по крайней мере, с благожелательным вниманием. Чем мы хуже дипломатов? Тем более что гипотеза и впрямь весьма любопытна. Подобно многим другим выступавшим на этом поле до него, Мензис говорит, что все началось со случайного обнаружения им такого факта: уже в 1428 году в распоряжении португальцев имелась карта, на которой (обратите внимание — за 70 лет до Колумба!) были показаны Африка, Австралия, Америка и множество островов — и все это в поразительно точных деталях. Например, на карте явственно виднелись мысы Доброй Надежды (оконечность Африканского материка) и Горна (оконечность Южной Америки), хотя, как известно, португальцы не проплывали там вплоть до конца XV века. По утверждению Мензиса, именно эта карта, попав каким-то образом в Венецию, а из Венеции, в 1428 году, в Португалию, стала предшественницей нескольких аналогичных ей карт, получивших хождение в Европе в конце XV — начале XVI века. На основании 14-летнего изучения вопроса Мензис утверждает, что первые европейские мореплаватели, включая Колумба и Магеллана, имели в своем распоряжении такие карты. По мнению Мензиса — и тут начинается самая интересная и оригинальная часть его гипотезы, — загадочную карту привез в Венецию богатый купец и путешественник, некий Николо де Конти, только что вернувшийся тогда в родной город из Китая. А в Китае, продолжает Мензис, де Конти, видимо, был знаком (не исключено, что в силу личного участия) с географическими открытиями, сделанными во время недавно закончившегося плавания адмирала Чэнг Хе. Дальше следует рассказ. В начале XV века, напоминает Мензис, Китай был крупной морской державой и располагал большим флотом. Командовал этим флотом ближайший доверенный человек императора, его евнух Чэнг Хе. Адмиралу было поручено двинуться во главе могучей эскадры из 100 с лишним судов в плавание на запад! чтобы проложить новые торговые (а возможно, и завоевательные) пути по Индийскому океану, омывающему земли Южного Китая. Корабли Чэнг Хе достигли восточных берегов Африки, говорит Мензис, но не вернулись на родину, а поплыли дальше, обогнули мыс Доброй Надежды и двинулись на запад через весь Атлантический океан. Они добрались до Карибских островов, которые Колумб открыл лишь 70 лет спустя, спустились оттуда вдоль берегов Южной Америки, обогнули мыс Горн, поднялись снова на север, вошли в нынешний Калифорнийский залив, оттуда опять спустились на юг и повернули на запад, в результате чего наткнулись на Австралию, открыв ее чуть ли не за 200 лет до европейцев, и лишь оттуда наконец двинулись на родину, обогнув тем самым весь земной шар почти за 100 лет до Магеллана. Это во всех отношениях выдающееся плавание состоялось, по расчетам Мензиса, с марта 1421 по октябрь 1423 года. В доказательство правильности проложенного им гипотетического маршрута экспедиции Чэнг Хе Мензис указывает на упомянутые выше особенности карт (очертания Южной Африки, Австралии и Калифорнийского залива, мысов Доброй Надежды и Горна, правильные определения широты и долготы этих пунктов земного шара), а также на остатки огромных старинных деревянных кораблей, найденные на берегах некоторых островов Карибского моря и в Австралии, й некоторые китайские предметы того времени, обнаруживаемые в весьма удаленных местах Америки и Африки. Он выражает предположение, что китайские навигаторы определяли свое положение в море, а также широту и долготу посещаемых ими мест как с помощью Полярной звезды (когда их путь проходил в Северном полушарии), так и руководствуясь звездой южного ночного неба — Канопусом. К этому выводу он пришел, реконструировав на своем домащнем компьютере возможную систему небесной навигации, которую могли применять китайские мореплаватели начала XV века. Судя по отчетам газет, сенсационное сообщение Мензиса (подкрепленное семнадцатью страницами документальных доказательств и обещанием привести все остальные доказательства в готовящейся к публикации книге) было встречено со смешанными чувствами. Историческая его часть не нашла оппонентов, географическая и собственно «корабельная» стороны тоже были признаны вполне правдоподобными. Больше всего сомнений вызвали его рассуждения о «секретных» китайских картах, якобы имевшихся у Колумба и Магеллана, а также сообщения о найденных им остатках девяти китайских судов на карибских берегах. Тамошние берега так хорошо обследованы, заявили некоторые оппоненты, что такие остатки были бы наверняка замечены много раньше. Но более всего против гипотезы Мензиса говорил тот факт, что ни одна современная история картографии не упоминает о том, будто Чэнг Хе посещал какие-либо иные земли, кроме берегов Восточной Африки. Стоит, однако, сказать, что, невзирая на эти скептические замечания, издатели, присутствовавшие на заседании, сразу же по окончании прений заторопились в зал, где был назначен аукцион на покупку прав для издания книги Мензиса. Их можно понять — мы ведь тоже живем сейчас в век великих географических открытий, не менее великих, чем во времена Колумба и Магеллана: то кто-то откроет местоположение Рая, то другой, прямо с самолета — остатки Ноева ковчега, то третий — гору Синай в Аравийской пустыне — и жадное до сенсаций человечество хочет обо всем этом узнать — и поскорее, чтобы потолковать на очередной «тусовке». И правильно. Ведь этого даже у Хеннинга не узнаешь… >ГЛАВА 9 ЗАГАДКИ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ Не только Королевское географическое общество интересуется всякими загадками прошлого (см. предыдущий рассказ) — Королевское астрономическое общество, оказывается, тоже их не чурается. Иллюстрацией этого является нижеследующая история, связанная не просто с какой-нибудь обычной загадкой прошлого, а с тайной самой Вифлеемской звезды. Евангелии, рассказывающие о жизни Иисуса Христа, утверждают, что его рождение сопровождалось появлением над Вифлеемом (тогдашним и нынешним Бейт-Лехемом) чудесной звезды. Вот как описывает это событие апостол Матфей: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться Ему… Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и, когда найдете, известите меня… Они, выслушав царя, пошли: и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец». Люди, убежденные в правдивости каждого слова Боговдохновенных книг, вроде Евангелий, разумеется, не нуждаются ни в каких объяснениях этого необычного феномена, поскольку знают, что в мире нет ничего необычного или «чудесного», ибо все в нем — одни только деяния Всевышнего — и ничего больше. Люди, совершенно не верящие во Всевышнего, не верят также в Боговдохновенность каких бы то ни было книг, и поэтому для них загадка Вифлеемской звезды — тоже не загадка, а просто «очередная выдумка мракобесов». Трудность возникает для тех, кто посредине и хотел бы согласовать каждое слово этих книг с представлениями современной науки, или, иначе говоря, дать этим словам некое «научное объяснение». Самую внушительную попытку такого рода предпринял не так давно сэр Патрик Мур, бывший британский королевский астроном, опубликовавший в сентябре 2001 года книгу «Вифлеемская звезда». В ней он последовательно проанализировал все возможные небесные явления, которые могли бы лежать в основании «мифа о Вифлеемской звезде»: вспышка сверхновой, совмещение нескольких планет, прохождение кометы и т. п. — и пришел к оригинальному заключению, что наиболее удачно удовлетворяет всем описанным в Евангелии обстоятельствам явление «падающих звезд», то есть потока метеоров, представляющихся земному наблюдателю вылетающими из одной точки неба, из одного созвездия. Еще до выхода в свет книги сэра Мура та же проблема была рассмотрена в двух других сочинениях. Британский астрофизик Марк Киджер опубликовал книгу «С точки зрения астронома» (1999), в которой предлагал свое объяснение Вифлеемской звезды как редкого сочетания двух явлений — вспышки сверхновой звезды и необычного совмещения планет. Киджер нашел такой момент в древней истории, когда два этих события произошли почти в одно и то же время. В 5-м году до н. э. на небосводе появилась вспыхнувшая новая звезда, а в 6-м и 7-м годах происходили неординарные совмещения нескольких планет. По убеждению Киджера, появление новой звезды сразу вслед за этими необычными совмещениями планет вполне могло показаться древним людям явным предзнаменованием чего-то незаурядного. Тем, кого насторожит кажущееся несовпадение дат, напомним, что, согласно современным представлениям, Христос родился не в нулевом году той эры, которую христиане называют его именем и отсчитывают со дня его рождения. В результате нескольких ошибок в календарных расчетах средневековых христианских богословов нулевой момент нынешнего календаря несколько сместился. Действительная дата рождения Христа приходится на 4-й или даже на 5-й год «до рождества Христова», так что в этом отношении гипотеза Киджера вполне совпадает с историей. Труднее представить себе, чтобы древние волхвы не бросились в Вифлеем уже по первому зову — совмещению планет — и ждали бы целый год, а то и два до появления новой звезды на небосводе. И вот не так давно в «Ежеквартальнике Королевского астрономического общества» (вот оно, это общество!) — в 36-м его томе, на 109-й странице — появляется вдруг статья американского астронома Майкла Мольнара, в которой утверждается, что хотя гипотеза Киджера абсолютно неверна, поскольку никакая новая звезда в то время на небосводе не появлялась, но Вифлеемская звезда все-таки существовала, причем именно в нужное время и в нужном месте. Только она была не совсем звезда, не совсем тогда, а главное — не совсем видима. Точнее — совсем невидима. Тем не менее нечто незаурядное — по крайней мере, с точки зрения тогдашних астрологов (они же — тогдашние астрономы), — несомненно, происходило. И вот это «невидимое» вполне могло породить рассказ о пресловутой «звезде». В таком описании гипотеза Мольнара выглядит, как попытка одной загадкой объяснить другую. На самом деле, однако, никакой новой загадки тут нет. Мольнар попросту произвел расчет движения видимых небесных тел с 10-го по 1-й годы до новой эры и показал, что во второй половине этого промежутка, а именно в марте — апреле 6 года, произошли два астрономических события, которые не могли не взволновать тогдашних астрологов, в просторечии — «волхвов» (то есть мудрецов). Этими событиями были два подряд затмения Юпитера Луной, причем оба раза в одном и том же месте — в юго-западной части неба, в созвездии Овна. Чтобы понять, почему это могло взволновать астрологов-волхвов, нужно иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, астрология, зародившаяся в Древней Вавилонии и распространившаяся оттуда по всей эллинистической, а позднее — Римской империи, была к тому времени весьма развитой областью знания, и тогдашние астрологи умели рассчитывать движения планет с точностью, которая поражает современных астрономов. Во-вторых, их расчеты всегда имели прикладное значение: они лежали в основе предсказаний, к которым и рядовые люди, и венценосные особы вроде римских императоров относились с глубоким уважением и полным доверием. Поскольку планеты, звезды и созвездия связывались с судьбами отдельных людей и даже целых стран, любые незаурядные астрономические события вроде затмений тотчас объявлялись предзнаменованиями или отражениями незаурядных, житейских и политических событий. Подтверждение последнего тезиса приносят не только сочинения древних авторов, но такие неожиданные, казалось бы, источники, как монеты. Римляне традиционно чеканили на монетах некие символы, отражающие те или иные важные события, и эти символы, как правило, были астрологическими. Например, во времена императора Нерона была выпущена монета с изображением барана (знак созвездия Овна), оглядывающегося на полумесяц и звезду. Это должно было напоминать о затмении Луной Венеры, произошедшем 25 апреля 51 года. Римский историк Светоний сохранил для нас предсказание тогдашних астрологов, которые связали это затмение с судьбой Нерона: они предсказали, что он будет свергнут в Риме, но воцарится вновь в Иерусалиме, потому что созвездие Овна считалось тогда астрологическим символом Иудеи (об этом говорится в сочинении александрийского астролога Клавдия Птолемея «Тетрабиблос» («Четверокнижие»): «Если что-нибудь важное должно произойти в Иудее, то знак этому должен появиться в созвездии Овна»). Мольнар, давний любитель древних монет, хорошо знал всю эту символику, и когда, рассматривая монеты 7 года новой эры, найденные в Антиохии (столице римской провинции Сирия), увидел на каждой из них изображение бога Юпитера, а на оборотной стороне — изображение овна, взирающего на звезду, то сразу же понял, что эти монеты должны были быть отчеканены в честь какого-то астрономического и политического события, связанного с Иудеей. Поскольку Юпитер считался у римлян символом императорской власти, событие, видимо, было связано с каким-то очередным достижением императорской политики. Перелистав исторические труды, он нашел, что в 6 году новой эры римляне сместили Иродова сына и наследника Архелая и присоединили Иудею к провинции Сирия. Монеты же, найденные в сирийской столице, датировались следующим годом, и, исследуя движение планет за этот год, Мольнар обнаружил, что в 7 году новой эры Юпитер сначала виднелся вблизи Меркурия, а затем почти рядом с Луной. Видимо, эти сближения и были сочтены небесными знамениями, свидетельствующими о том, что боги одобряют действия римлян в отношении Иудеи. В честь такого совпадения явно стоило отчеканить специальные монеты. Что же касается собственно «Вифлеемской звезды», то догадка о природе этого явления родилась у Мольнара из случайной находки. Он купил старинную римскую монету, относящуюся к 6-му году до н. э., на которой опять увидел изображение барана («овна»), глядящего, обернувшись через плечо, на звезду. Поскольку знак Овна в зодиаке покрывает период с 21 марта по 20 апреля и поскольку вблизи Луны в 6-м году до н. э. находился Юпитер, Мольнар, будучи астрономом, подумал, что стоило посмотреть, что было с Юпитером и Луной в марте — апреле того года. А посмотрев (т. е. рассчитав движение этих светил вспять), обнаружил, что как раз в те дни, 20 марта и повторно 17 апреля 6-го года до н. э. Юпитер претерпел — редкое совпадение! — два лунных затмения подряд — и притом именно тогда, когда был «на востоке», то есть в восточной части неба. Теперь мы уже можем понять ход дальнейших рассуждений американского астронома. Юпитер, как мы уже видели на примере Нерона, был, по представлениям астрологов, связан с судьбами императоров; не случайно римский астролог Фигулус, увидев знак Юпитера в гороскопе будущего императора Августа, предсказал сенату: «Ныне родился вождь мира». В Иудее же издревле существовало другое пророчество, процитированное апостолом Матфеем как раз в приведенном вначале отрывке о Вифлеемской звезде: «Ибо написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля». Всякий грамотный астролог, увидев такое совпадение, должен был немедленно понять, что у евреев родился (или должен вот-вот родиться) кто-то, кто затмит императоров и царей. Астрологов же в древнем мире хватало. И вера в астрологию была распространена невероятно. Как и сегодня, кстати. Но в наши дни эту веру труднее понять. Ведь людям сегодня прекрасно известно, что планет куда больше, чем думали создатели астрологических расчетов (уже после них были открыты Уран, Нептун и Плутон), так что уже хотя бы поэтому такие расчеты выглядят весьма сомнительно. Впрочем, кому хочется верить, тем ничто не помеха. А во времена, о которых идет речь, были — известны пять планет (не считая Земли), которые вместе с Солнцем и Луной образовывали «семь небес» и своим положением относительно «неподвижных» звезд давали астрологам указания на предстоящие события. Порой даже весьма детальные указания, как, например, то, которое приводит великий астроном древности Птолемей: «Если Венера совместится с Марсом и Юпитер будет виден в то же время, а Марс появится в лучах Солнца, то женщины начнут совокупляться со слугами и вообще всяким низкородным сбродом и даже с чужестранцами и бродягами». Так что уж на рождение «иудейского царя» астрологические книги наверняка могли указать. И потому «Волхвы», т. е. тогдашние мудрецы-астрологи, полагает Мольнар, могли истолковать эти незаурядные астрономические события в свойственном им духе. Вычислив предстоящее затмение Юпитера в созвездии Овна, они могли прийти к выводу, что и оно знаменует собой «рождение Вождя», только среди евреев, — того самого «вождя-спасителя», предсказанного еврейскими пророками. Взволнованные столь выдающимся событием, они явились ко двору Ирода, чтобы выяснить, где именно, по еврейскому пророчеству, оно должно произойти. Узнав, что в Вифлееме, они должны были еще больше взволноваться: ведь Вифлеем находится к юго-западу от Иерусалима, то есть как раз в той стороне, где происходили оба юпитерианских затмения. Судя по тому, что второе из этих затмений произошло, согласно Евангелию, как раз в тот момент, когда волхвы от Ирода направились в Вифлеем, их визит в царский дворец имел место именно 17 апреля 6 года до новой эры: говорит же Матфей, что «звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними». На самом деле, утверждает Мольнар, эта «звезда», то есть Юпитер, как раз и не была видна, но волхвы шли так уверенно, будто она их и в самом деле «вела», — ведь они ее «вычислили». А Матфей, не знавший тайн астрологии, конечно, не мог и помыслить, что волхвы шли согласно своим расчетам, и в простоте душевной записал, что их вела чудесная Вифлеемская звезда. Из гипотезы Мольнара вытекает чрезвычайно важное следствие: если Иисус действительно существовал, то родиться он должен был не в 1 году новой эры, названной его именем, а в день затмения Юпитера, то есть 17 апреля 6 года ДО новой эры (дату 20 марта Мольнар отверг, т. к. она чуть-чуть выходила за границы периода созвездия Овна). И этот свой вывод Мольнар подтверждает еще одним дополнительным совпадением: Ирод умер в 4 году до новой эры и незадолго до смерти приказал перебить «всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от ДВУХ лет и ниже, по времени, которое он выведал у волхвов». Почему «от двух лет», а не старше? Потому что «по времени, которое он выведал у волхвов» (то есть по времени вычисленного ими первого затмения Юпитера), Иисусу в 4-м году до новой эры как раз и должно было быть чуть меньше двух лет — но лишь в том случае, если он родился в 6-м году до н. э. Как говорилось выше, историки давно подозревали, что Иисус, если он существовал, родился раньше исчисленной Церковью даты, и вот сейчас Мольнар нашел дополнительное и независимое подтверждение правоты их сомнений. Все это, разумеется, не доказывает реальности существования Иисуса. Ведь, в сущности, Мольнар всего лишь показал, что в 6 году до новой эры произошли два астрономических события, которые МОГЛИ дать составителям Евангелий повод для создания рассказа о Вифлеемской звезде (которую на самом деле никто не видел, потому что попросту не мог увидеть). Но никаких доказательств связи этих астрономических событий с рождением «реального» Христа Мольнар привести не может. Более того, из его же рассуждений следует, что дело скорее всего обстояло с точностью до наоборот: сначала произошли указанные астрономические события а уже затем эти события в общем духе тогдашней астрологической символики и веры в фантастические «пророчества» были привязаны к рассказу о «рождении Спасителя». Так что достоверность этого главного евангелического рассказа по-прежнему остается под сомнением. Но Мольнар и не ставил своей задачей анализ достоверности евангелий. Он попросту хотел предложить вниманию ученых новую гипотезу, объясняющую миф о Вифлеемской звезде. И с этой задачей, следует признать, он справился весьма успешно. На этом, однако, эта занимательная история не закончилась. Гипотеза Мольнара подверглась критике. Сэр Патрик Мур указал, что затмение Луной Юпитера 17 апреля 6-го года до н. э. происходило средь бела дня и не могло быть увидено никем, даже волхвами. А специалисты по истории астрологии усомнились в том, что «волхвы» могли истолковать невидимое затмение как указание на «рождение царя». Мольнар, разумеется, не сдался, стал искать, как бы опровергнуть возражения критиков, и вот недавно объявил, что ему удалось наконец «решающее» подтверждение выдвинутой им гипотезы. По его словам, это подтверждение содержится в книге астролога Матернуса, написанной в 334 году н. э. По словам Мольнара, ему удалось разыскать творение Матернуса «Матесис», в котором черным по белому описано астрологическое явление, включающее затмение Юпитера Луной, и сказано, что это предвещает рождение великого царя. Правда, царь этот не назван по имени, хотя автор — христианин и книга написана спустя три столетия после рождения Иисуса, но, как говорит Мольнар, «в те времена все читатели книги прекрасно понимали, что это замечание относится именно к Иисусу, а указанное астрологическое событие — это знаменитая Вифлеемская звезда». Матернус, по мнению Мольнара, просто не хотел вовлекать христиан в астрологические дебаты, которые только смутили бы их умы и отвлекли от мыслей о самом Иисусе. И вполне возможно, что Мольнар в этом прав. Во всяком случае, одного человека ему уже удалось убедить — Овен (!) Гингрич, историк астрономии из Гарвардского университета, заявил, что гипотеза Мольнара кажется теперь «очень серьезной». Но вот переменил ли свое мнение сэр Патрик Мур, нам пока неизвестно. >ГЛАВА 10 ЕЩЕ ОДНА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ История, которую я намереваюсь рассказать, тоже связана с Евангелиями, но произошла сравнительно давно, в декабре 1993 года, в Иерусалиме. В научных кругах она тогда произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Сегодня, во времена поголовного увлечения «Кодом да Винчи», она звучит особенно актуально, показывая, что Ничего нового Браун не написал, он лишь добросовестно переписал то, что давно было известно, только слегка разбавил это детективной интригой — надо сказать, весьма примитивной. Итак, некий археолог по имени Леон Декур несколько месяцев вел бесплодные раскопки в одном из старинных уголков древней еврейской столицы. В тот декабрьский вечер 1993 года стояла обычная для израильской зимы пасмурная и пронизывающе холодная погода, и Декур отправил рабочих домой пораньше. Сам же он решил еще немного поковыряться в раскопе. Рассеянно разгребая груду земли в углу глубокой ямы, он вдруг заметил, что в пыли блеснуло что-то металлическое. Руки его заработали энергичнее и осмысленнее, бережно расчищая находку, и вот он уже увидел ее целиком. Можно представить себе его восторг: его глазам открылась старинная медная чаша с остатками какого-то темного вещества. В тусклом вечернем свете Декур не мог разобрать, что это за вещество и к какому времени относится чаша. Какое-то время он задумчиво смотрел на нее, и вдруг его пронзила ослепительная догадка. Нет, он не воскликнул, как когда-то Архимед: «Эврика!» Но он воскликнул нечто, не менее знаменитое: «Грааль!» И в этом месте я вынужден остановиться. Даже в наши времена поголовного увлечения романами Брауна далеко не все знают, что такое Грааль, и потому не все могут в полной мере оценить восклицание Декура. Слово «Грааль», или «святой Грааль», произошло от латинского «gradalis», которое, в свою очередь, восходит к древнегреческому «кратер» — сосуд для смешивания вина с водой. Но в старофранцузском сочетание «Святой Грааль» — «Сангреаль» — имеет еще и иной смысл: «истинная кровь». А древнеирландское cryo, из которого тоже выводят слово «Грааль», означает «корзину изобилия». Итак, «Грааль» — это сосуд для вина и одновременно — чаша со святой кровью, да еще и корзина изобилия. Почему у этого слова так много смыслов? А потому, что это непростое слово. Оно связано со старинной христианской легендой, даже с несколькими сразу. Согласно рассказам о жизни и смерти Иисуса Христа, составляющим содержание т. н. Евангелий (по-гречески — «Благая весть»), свой последний вечер перед арестом, судом и казнью Иисус провел в Гефсиманском саду, где вместе с учениками (апостолами) отмечал великий еврейский праздник Песах (христианской Пасхи тогда еще не было, поскольку Иисус был еще жив и до появления христианства было еще далеко). Евангелия утверждают, что, подняв чашу с пасхальным вином и кусочек мацы, Иисус произнес, указывая на вино: «Се кровь моя», а затем, указывая на мацу: «А се плоть моя». Закончив вечерю, он вышел в сад, где его вскоре и схватили римские легионеры. Выданный Пилатом Синедриону, Иисус был признан смутьяном и бунтовщиком и осужден на смертную казнь. В духе римских обычаев он был распят на кресте. Далее легенда утверждает, будто некто Иосиф Аримафейский снял его тело с этого креста и бережно собрал кровь Иисуса в ту самую чашу, из которой Иисус пил вино на своей «тайной вечере». Таким образом, пророчество Иисуса исполнилось: в чаше оказалась Христова кровь. А дальше, если верить легенде, было вот что. С этой святой кровью Иосиф Аримафейский отправился проповедовать христианство европейским варварам. Так чаша оказалась в Европе. Вскоре, повествует легенда, она обнаружила свои чудодейственные свойства. Чудеса сыпались из нее как из рога изобилия: слепые, прикоснувшись к чаше, становились зрячими, увечные — здоровыми, бесплодные женщины — беременными. Вся эта история и чудесные свойства чаши привели к тому, что она получила собственное имя — «Сангреаль», или попросту «Грааль» (говорят еще — чаша святого Грааля). Позже Грааль затерялся или был спрятан — в каком-то из монастырей, и это положило начало длительным поискам чаши, каковыми рыцари занимались все средние века — в свободное от крестовых походов время. История этих поисков легла в основу знаменитых средневековых романов — «Персиваль» Кретьена де Труа и «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, главным героем которых является один из рыцарей «Круглого стола» короля Артура по, имени Парсиваль (франц. Персиваль, нем. Парциваль или Парсифаль); в XIX веке еще один небезызвестный человек, по имени Рихард Вагаер, написал по мотивам этих романов оперы «Лоэнгрин» и «Парсифаль» (о сыне Парсифаля). Теперь, надеюсь, вы уже понимаете, что побудило Леона Декура издать свой восторженный возглас. Еще бы — ведь он нашел древнюю винную чашу именно в том городе, где происходила «тайная вечеря», и вдобавок неподалеку от того самого Гефсиманского сада, где она происходила! А кроме того, ко дну чаши прилипло темное вещество, которое весьма походило на засохшую человеческую кровь. Как было не предположить, что это именно та самая чаша святого Грааля, с которой связано столько легенд и столько веков бесплодных поисков?! А если это действительно так, то громадные последствия столь сенсационного открытия сразу становятся очевидны — ведь в результате в руках историков впервые в истории могло оказаться прямое доказательство реального существования Иисуса Христа! (Вопрос о том, каким образом чаша вернулась из Европы в Иерусалим, Декура почему-то не заинтересовал.) Какой-нибудь другой археолог, возможно, воздержался бы от столь скоропалительного вывода. Он бы поначалу исследовал находку, определил ее возраст и лишь потом вынес суждение. Но дело в том, что Декур давно, напряженно и страстно желал найти следы существования Иисуса. За 15 лет до этого он уже потряс однажды весь научный и околонаучный мир сообщением, будто ему удалось найти пергамент с «оригиналом» знаменитой «Нагорной проповеди» Христа — той самой, что начинается словами «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Декур действительно нашел тогда какую-то древнюю рукопись, свет в тот раз тоже был вечерний и тусклый, рукопись была в плохом состоянии, исследователь был необыкновенно возбужден находкой — ничего удивительного, что ему почудилось, будто он нашел именно то, что искал. Но в тот раз предположение Декура быстро опровергли: пергамент оказался намного моложе Иисусовых времен. И вот теперь, через 15 лет, в руках Декура оказалась загадочная чаша — как было не подумать первым делом о святом Граале? В кругах археологов Декур вообще-то считался хорошим ученым: его послужной список содержал всего лишь один случай излишней поспешности — тот самый, с «Нагорной проповедью». Поэтому его сообщение о небывалой находке было опубликовано в серьезном научном журнале. Разумеется, археологический мир отнесся к этой новой сенсации с должной осторожностью, но зато мир околонаучный был необычайно взволнован публикацией. Слухи о необычайной находке в Иерусалиме передавались из уст в уста. А вскоре последовала еще одна сенсация: анализ вещества, налипшего на дне найденной Декуром чаши, подтвердил, что это действительно остатки человеческой крови, к тому же самой универсальной группы, «ноль плюс», пригодной для переливания всем без исключения людям. Что дало Декуру повод в очередной раз воскликнуть: «А чего иного вы ожидали от крови Иисуса?!» Увы, больше о загадочной чаше мир ничего не услышал. То ли ее придирчивое изучение показало, что она тоже «не того времени», то ли обнаружилось еще что-то неприятное, но разговоры о ней прекратились. Ясно, что Декур опять поторопился со своей сенсационной гипотезой. Верно учит нас знаменитое правило, именуемое «бритвой Оккама», — не следует громоздить гипотезы без надлежащей надобности. Вся сенсация Декура была основана на том, что в какой-то старинной чаше были найдены остатки чьей-то крови. Стоит ли выдвигать для объяснения этой находки столь монументальные гипотезы, если те же факты могут быть объяснены куда более просто и прозаически? Мало ли чья это может быть чаша, мало ли чья кровь… Разумеется, верующие и склонные к мистике люди такими прозаическими объяснениями не удовлетворятся. И действительно — известие о находке «чаши святого Грааля» возбудило эти круги самым неимоверным образом. Некоторые из самых возбужденных — видимо, под впечатлением нашумевшей картины «Юрский парк», где рассказывается о «воскрешении» динозавров по остаткам их хромосом, — тут же предложили применить ту же (на самом деле — еще не существующую) «методику» для воскрешения… Иисуса Христа. Они призвали ученых выделить из остатков крови, найденной в декуровской чаше, «хромосомы Иисуса» и из них «вырастить», а затем «оживить» его тело. К чести самого Леона Декура, надо сказать, что даже на пике славы он категорически отверг всякую возможность, да и желательность искусственного воссоздания основоположника христианства. Тем не менее и он тоже какое-то время (пока сенсация не умерла) уговаривал биологов попытаться выделить из остатков найденной в чаше крови хромосомы ее древнего хозяина. Декура, как он заявил тогда, больше всего интересовало, будут ли эти хромосомы похожи на человеческие. Лично он был убежден, что они окажутся принципиально иными. А какими же? — наверняка удивитесь вы. Ясно, какими, отвечает Декур. Божественными. Иисус ведь, согласно Евангелиям, был «Сыном Божьим»! И родился он, как утверждают Евангелия, от «непорочного зачатия» Девы Марии. Как же должен современный человек понимать легенду о таком зачатии?. — спрашивал Декур. И сам себе отвечал: ее следует понимать как рассказ об искусственном оплодотворении девушки Мириам с помощью «Божественного сперматозоида». «Не может же, в самом деле, разумный человек поверить в россказни древних греков, будто боги совокуплялись с людьми в виде быков или лебедей», — убежденно заявлял Декур. Действительно, не может. Но и в «Божественный сперматозоид», доставленный в Мириамнино лоно в клювике усердного голубка, — тоже не может. На то он и современный человек, худо-бедно разбирающийся в технике искусственного оплодотворения. Почему же Леон Декур — тоже вполне современный человек — так энергично настаивал на проверке древней легенды? Наверно, хотел в модном сегодня духе сочетать науку с верой, — как Леду с лебедем. Но, как видите, не получилось. История, как видите, действительно интересна — уже хотя бы тем, что напомнила нам о знаменитой чаше Грааля. Ведь легенды, связанные с этой чашей, далеко не исчерпываются тем, что я вам по необходимости коротко здесь рассказал. С той же чашей связана, например, и еще одна сенсационная гипотеза: будто она на самом деле представляет собой не что иное, как исчезнувший Ковчег Завета! История Ковчега тоже окружена многочисленными легендами, на сей раз — еврейскими, и вот несколько лет назад английский журналист Грэм Хэнкок опубликовал толстую книгу под названием «Знак и печать», в которой заявил, что Ковчег и Грааль — это одно и то же, и вдобавок — что ему в результате многолетних поисков удалось наконец найти этот знаменитый Ковчег, но уже не в Иерусалиме, а… в Эфиопии. Поэтому я лучше продолжу еще одним очерком на библейскую тему. >ГЛАВА 11 БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ БИБЛЕЙСКИХ СЕНСАЦИЙ Перефразируя известный афоризм, можно сказать, что патриотизм — это не только прибежище негодяев, это еще и прибежище фальсификаторов. Желание подтвердить героический характер своей древней истории обуревает многих патриотов и зачастую толкает их к бессознательной и даже весьма сознательной фальсификации или к жадному потреблению такой фальсификации, сочиненной другими. Спрос, как известно, порождает предложение, и вот уже некто Петухов (фамилия и библиография хранятся в Интернете) сочиняет новую историю государства российского, начиная с появления славного народа россов, каковое состоялось 40 тысяч лет тому назад. Нет, вы не ослышались — 40 тысяч. И вот уже некто Фоменко сотоварищи (см. тот же Интернет) извещает «урби ет орби», что вся древняя, средневековая и новая история человечества, есть не что иное, как история великой империи россов, простиравшейся на всю индоевропейскую ойкумену. И вот уже некто Бушков… впрочем, несть числа этим лжеутешителям патриотических вожделений, этим отечественным баснописцам, этим лукавым и небескорыстным сказителям-исказителям, и многотомные подвиги их на ниве занимательного фальсификаторства еще долго будут развлекать наших детей и недорослей. Нельзя, однако, не признать, что все эти попытки создать узко отечественную присыпку от патриотического зуда, как правило, грубы и топорны. То ли дело — фальсификация библейско-евангельская, ставящая своей целью подтвердить реальное существование царя Соломона или Иисуса Христа! Такие сенсации не ограничиваются пределами отечества, для них воистину несть ни эллина, ни иудея, и захватывающе интересны они не для сотен тысяч или даже миллионов, а для сотен миллионов людей. Да что там «интересны»! С чудной, волнующей силой играют они на струнах глубочайших верований этих сотен миллионов. А за веру люди, как известно, шли и на костер. А посему человек, избравший профессией подделку такого рода древностей, в буквальном смысле играет с огнем. И бывает, что огонь его и лизнет. Как в случае, который побудил нас к написанию сего очерка. Мы имеем в виду суд над Одедом Голаном. Фальсификаторов всегда было достаточно — хотя бы потому, что всегда доставало недалеких патриотов всякого толка, готовых ухватиться за любую желанную подделку. Каждая эпоха знала своих знаменитых фальсификаторов, об их бесславных деяниях написаны увлекательные тома, и вполне может оказаться, что Одед Голан будет когда-нибудь причислен к их списку. Надо думать, израильская полиция, предъявившая ему не так давно свои обвинения, и израильское Управление древностей, давно точившее на Голана клык, именно такого мнения. Обвинительное заключение перечисляет несколько выдающихся подделок, которые Голан выбросил за последние годы на мировой рынок. Все они вызывали международную сенсацию, заставляя сердца вышеупомянутых сотен миллионов людей учащенно забиться в радостном предвкушении, а руки сотен специалистов — тотчас схватиться за перья. Да и как не схватиться? Ведь вот уже много лет историки и археологи сетуют, что у них нет или почти нет никаких документальных или археологических свидетельств существования сильного Иудейского царства с Соломоновым храмом в Иерусалиме, с развитой культурой и письменностью. И вдруг — пожалуйста: Одед Голан предлагает Израильскому музею обломок древней каменной плитки с вырезанной на ней надписью, в которой сообщается о перестройке иудейским царем Иоашем Соломонова храма в 812 году до н. э. И эта надпись разом снимает несколько дамокловых вопросительных знаков, томительно нависших над библейской историей: напрямую подтверждает существование первого храма; косвенно подтверждает историческую верность библейских списков иудейских царей и других спорных деталей библейских рассказов и попутно демонстрирует явное существование в Иудее ивритской письменности и письменных исторических источников уже в то древнее время, а также убеждает историков-специалистов во многом другом, в чем они сомневались, но не знали, у кого спросить. О таких подарках судьбы говорят, что если бы их не было, их надо было бы придумать. Подумать только — одним (несколькими) ударом (ударами) резца по камню решен многовековой спор об исторической достоверности библейского рассказа! Посрамлены скептики. Укреплены в вере патриоты. Обогащена наука. Так и хочется добавить: «Поднято ярости масс — 3». Тем более что поначалу несколько специалистов высказались в том смысле, что находка заслуживает самого серьезного отношения. В смысле — не фальсификация. Как минимум 50 % шансов, что нет. Лишь потом, задним числом, выяснилось, что правильные 50 % относятся к камню — вот он действительно был древний. А надпись, как вся контрабанда в Одессе, была изготовлена если не на Большой Арнаутской, то где-нибудь в таком же месте в сегодняшнем Иерусалиме. Не будем описывать детали этого разоблачения — надо думать, вскоре появятся книги, посвященные этой поистине детективной истории. В них будут и детали второго «подарка судьбы», изготовленного, Голаном. На этот раз его адресатом стали не евреи, а христиане. Хитроумно проведя за нос Управление древностей и высмеяв при этом тупую бюрократическую неповоротливость его правил (то-то оно наточило на него клык), Голан сумел переправить на Запад — причем на специальную выставку — некий древний ларец для хранения костей с очередной сенсационной надписью, извещавшей, что ларец этот был в свое время (а по времени он — первого века н. э.) предназначен для хранения костей «Якова, брата Иисуса». Сами понимаете. Некоторые западные христианские специалисты так ухватились за этот ларец (по-научному он называется оссуарий), что не хотят признать его фальшивость даже теперь, когда она доказана вне всяких сомнений. Оно и понятно: трудно расставаться — мелькнула высокая надежда и исчезла, как Жар-птица. Хотя, если вдуматься, разве вера требует «научных» доказательств? Это не оксюморон? Сказал же Тертуллиан: «Верую, потому что абсурдно». Вот это понятно. Настоящая вера не требует даже чудес. А если требует, то вот вам, пожалуйста, адрес — «Одед Голан и компания, Ltd, изготовление и продажа желанных подтверждений религиозных и исторических преданий». Ltd означает «ограниченная ответственность», но в данном случае это звучит насмешливо. Судя по всему, ответственность Голана не ограниченная, а полная. В конце минувшего года его группе (в которую входит еще пара израильских торговцев древностями и один палестинец) предъявлено в Иерусалимском окружном суде формальное обвинение в том, что эти несколько людей, вступив в преступный сговор, на протяжении двух десятилетий производили и успешно распространяли по всему миру сфальсифицированные артефакты (так называют в археологии материальные предметы, изготовленные в прошлом), заработав на этом миллионы долларов. За эти годы Голан (по его собственным словам) стал самым крупным в мире коллекционером израильско-иорданских древностей, а его коллеги — самыми крупными торговцами этими древностями. Разумеется, сами обвиняемые свою вину отрицают, их друзья, естественно, в нее не верят, наши патриоты, понятно, негодуют, а нам остается сказать, что в эти самые дни выяснилось (совпало!), что и знаменитый гранат из слоновой кости, гордость Израильского музея, крохотная древняя вещица, которая 16 лет. считалась единственным (до появления «надписи Иоаша») бесспорным подтверждением реальности Соломонова храма, — этот гранат тоже, увы, является подделкой. Конечно, это уже другая история, и к Голану она отношения не имеет. Но она имеет прямое отношение к тому, как бесславно рушатся одна за другой библейские сенсации. >ГЛАВА 12 РОНГО-РОНГО И ВСПЯТЬ К ШУМЕРАМ Существует множество фундаментальнейших для жизни вещей, о происхождении которых мы ничего или почти ничего не знаем. К ним относится лук, весло, лодка, таран (о котором некоторые историки думают, что это и был Троянский конь). К ним относится и письменность. Вот сию секунду, подняв руку, я нанес на экран компьютера, с помощью его внутренних механизмов, некие значки. Спустя несколько дней или недель эти значки, преобразованные с помощью типографских механизмов в несколько иные значки будут перенесены на газетный лист. В конце концов эта газета ляжет на ваш стол. Вы раскроете ее и поймете, что я хотел вам сказать. Разве это не чудо? Кто ж его придумал? Если не имя человека, то по крайней мере имя народа, первым придумавшего письменность, можно назвать? Расскажем по этому поводу занятную историю, которая имеет прямое отношение к загадке возникновения письменности. Пару лет назад высокоуважаемый журнал «Nature» впервые за много-много лет вдруг отвел пару-другую страниц обзору двух в высшей степени экзотических научных изданий — «Журнала Полинезийского общества» и «Рапа-Нуи журнала». Причиной столь неожиданного внимания была публикация в этих изданиях двух статей молодого новозеландского лингвиста Стивена Фишера, посвященных одной из самых запутанных загадок знаменитого острова Пасха — загадке так называемого ронго-ронго. Ронго-ронго — это деревянные таблички, на которых нанесены довольно примитивные картинки, изображающие преимущественно птиц, рыболовные крючки, человечков с хвостами и без, деревья, палки и прочее в том же роде. Вообще-то такими рисунками впору заниматься детишкам, но в данном случае перед нами явно недетское усилие. Картинки расположены в определенном линейном порядке, каждая линия образует строку, каждая табличка содержит несколько таких строчек, и каждый символ повторяется в ней множество раз. Так и хочется сказать, что перед нами очевидная попытка выразить, сообщить или передать некую информацию, иными словами — попытка письма. Что-то вроде письма в рисунках. Об острове Пасха написано много. Тур Хейердал (тот, что с «Кон-Тики»), да и не он один, посвятил ему и его знаменитым статуям (еще одна островная загадка) специальную книгу. Этот затерявшийся в Тихом океане остров был открыт европейцами в 1722 году. Однако долгие десятилетия подряд ни один из европейцев, побывавших на острове, ни звуком не обмолвился о существовании там табличек ронго-ронго. И вдруг в 1864 году некий миссионер сообщил, что видел такие таблички, причем не одну-две, а буквально в каждой хижине. Вскоре это стало подтверждаться другими сообщениями, и кое-кто из наблюдателей утверждал даже, что эти деревянные таблички хранятся в особых хижинах как нечто сакральное и охраняются запретами — табу. У исследователей, занявшихся изучением ронго-ронго, сложилось впечатление, что это довольно позднее явление, вызванное к жизни скорее всего первыми письменными объявлениями испанских властей острова о его аннексии Испанией. Эти испанские листовки были. вручены вождям и жрецам местных племен, чтобы те «расписались в извещении». Вожди и жрецы «расписались» оттисками пальцев. Дело было примерно в 1770 году, но семена были посеяны, желание обрести такую же, как у белых пришельцев, способность выразить свои мысли значками, видимо, запало в души островитян, и не прошло и ста лет, как это желание воплотилось в загадочные деревянные таблички с их примитивными письменами-рисунками. С тех пор прошло сто с лишним лет, и из всего множества таких табличек во всем мире сохранилось лишь 25, рассеянных по разным национальным музеям. На этих 25 табличках имеется в общей сложности 14 тысяч рисунков. После того как в 1862 году правительство Перу вывезло с острова последних вождей и жрецов, не осталось ни одного островитянина, который умел бы читать ронго-ронго. Усилия немецкого лингвиста Томаса Бартеля, занявшегося уже в середине нашего века расшифровкой загадочной письменности, привели лишь к подтверждению того, что это действительно письменность, скорее всего — рудиментарная, зачаточная письменность, значки-картинки которой изображают как конкретные объекты (птиц, людей и т. д.), так и некие идеи, но не алфавитные знаки, звуки или слоги. Прочесть написанное ни Бартелю, ни другим исследователям не удалось. И вот теперь, через полвека после Бартеля, Стивен Фишер, пройдя путем Шамполиона, добился желанного успеха. Таким образом, письменность ронго-ронго, возможно самая молодая, самая недавняя из созданных человечеством письменностей, наконец-то расшифрована. Таблички острова Пасха прочитаны, как тот роман, о котором говорил классик. И что же они содержали? Об этом чуть позже. Давайте сначала вдумаемся, какой вывод для истории письменности как таковой можно извлечь из истории письменности ронго-ронго. Прежде всего можно думать, что возникновение этой письменности должно в определенной степени повторять процесс возникновения всякой другой, более древней письменности, а может быть, и всякой письменности вообще. Несомненно, письменность рождалась из потребности сберечь некую важную информацию (вспомним, что таблички ронго-ронго держали в специальных хранилищах («библиотеках»)? — были они защищены сакральным табу). Но уже изначально у них была и вторая, не менее важная функция — передать информацию другим людям. Об этом выразительно свидетельствует древняя шумерская легенда, найденная среди памятников шумерской письменности и рассказывающая о том, как эта письменность была создана («изобретена», если угодно). Легенда говорит, что однажды к царю Урука прибыл гонец, настолько измученный дальним путешествием, что был уже неспособен даже говорить. Царю же было необходимо послать его снова в путь. Как сделать, чтобы он мог передать нужную информацию? Хитроумный царь, говорит легенда, взял глиняную табличку и начертал на ней слова послания, так что отныне гонцу не нужно было их произносить. Очаровательная легенда, в наивности своей даже не задумывающаяся над тем, как же получатели этого первого в истории письменного послания прочтут неизвестные им знаки, выцарапанные царем Урука в глине таблички. Ведь письменность, как и речь, процесс двусторонний: и отправитель, и получатель должны предварительно «сговориться» об общем значении применяемых символов (знать, понимать или выучить это значение). Главное, однако, даже не в этом. Легенда не рассказывает о том, как именно царь придумал свои знаки. И тут история ронго-ронго, кажется, может нам помочь. Из нее явно следует, что придуманные островитянами знаки были изображениями, или, как говорят, пиктограммами (от «пиктос» — рисовать). Это рисуночное письмо не воспроизводило звуки какого-либо реального языка, известного только его носителям, а имело общий характер: носители иного языка тоже могли, в принципе, понять эти рисунки (но только в принципе — как мы видели, понять написанное удалось только после почти столетних усилий). Если создание ронго-ронго повторяло историю создания письменности вообще (как развитие эмбриона повторяет историю развития вида), то, может быть, и всякая письменность начиналась с пиктограмм? Давно известно, что люди рисовали с незапамятных времен, — в пещерах Франции и Испании найдены замечательные реалистические изображения бизонов, мамонтов и людей в процессе охоты. Не могло ли быть так, что эти рисунки, постепенно упрощаясь, стали основой каких-то значков, постепенно все более абстрактных и в конце концов сложившихся в письменность? Это действительно одна из гипотез, выдвинутых исследователями, изучающими становление письма. И ее разделяют многие из них, но не все. Другие исследователи указывают, что среди древнейших письменностей — Месопотамии, Египта, Китая, Индии и некоторых других регионов — очень мало образцов рисуночного письма. Даже китайские и египетские иероглифы не очень походят на изображения реальных объектов, хотя некоторые из них такие объекты напоминают. Что же, например, до шумерской клинописи или критского «линейного письма», то угадать в их значках рисунки людей или животных никак не удается. Поэтому скептики выдвинули другую гипотезу. Первой ее предложила — почти 20 лет тому назад — американская лингвистка д-р Дениза Шмандт-Бессерат из Техасского университета. Сегодня ее предположение кажется многим более правдоподобным, чем «пиктографическая теория». На недавнем симпозиуме специалистов по истории письма, проходившем в Пенсильванском университете, представители обеих теорий яростно оспаривали аргументы друг друга и в конце концов согласились, что имеющегося материала еще недостаточно, чтобы решить, какая из этих теорий верна. Чтобы понять гипотезу Шмандт-Бессерат, лучше всего начать… с гомеровской «Илиады». Там есть огромная, как считают, более ранняя вставка, в которой перечисляются корабли, посланные различными греческими городами для участия в походе на Трою. Список этот так огромен, однообразен и скучен, что даже такой ценитель классики, как Мандельштам, признавался: «Я список кораблей прочел до середины…» Специалистам, однако, этот список дает благодатный материал для размышлений. Дело в том, что, расшифровав шумерскую письменность и критское «линейное письмо», — исследователи с немалым удивлением обнаружили, что значительная часть всех этих текстов тоже представляет собой «списки», «перечни», «каталоги» и тому подобное. Так, среди 150 тысяч критских текстов такие «списки» составляют около трех четвертей. Что же там перечисляется? В основном вещи, товары, утварь, драгоценности, мешки зерна и животные, доставленные в царскую казну для уплаты налогов, и тому подобные хозяйственные объекты. Перед нами — явная бюрократическая отчетность. И это не удивительно. Мощные (для своего времени) державы вроде критской, шумерской, микенской, древнеегипетской и других не могли бы существовать без налаженной (и обслуживаемой армией чиновников) экономики. Кто-то должен был кормить двор правителя, армию, жрецов, самих чиновников; правители покоряли другие страны и возвращались с рабами и материальной добычей — ее тоже нужно было скрупулезно подсчитать и отметить; другие цари присылали подарки, и эти дары тоже подлежали тщательной регистрации; в каждом таком реестре указывалось число и характер вещей, пленников, драгоценностей и всего прочего, а также отмечалось (для памяти) место их хранения и так далее. Эта огромная, неутомимая, каждодневная бюрократическая работа тенью сопровождала всю политическую и хозяйственную жизнь страны, ее царей и ее народа. Как же она велась в отсутствие письменности? Можно представить себе, говорит Шмандт-Бессерат, что поначалу для обозначения каждого вида предметов использовались камешки или черепки определенного вида: скажем, для мешков зерна — округлые камешки, для стрел и копий — продолговатые и т. п. Число камешков соответствовало числу предметов данного вида. Камешки хранили в специальных глиняных сосудах. Чтобы знать, что находится в каждом сосуде, на нем снаружи оттискивали один из вложенных в него камешков или черепков. Следы таких черепков, оттиснутые в глине, и были предшественниками первых письменных знаков. Действительно, сосуды с такими оттисками в превеликом множестве найдены в раскопках древних месопотамских городов — Ура, Урука и других. Дальнейшее развитие уже нетрудно представить: какой-то неведомый месопотамский гений сообразил, что оттиск можно делать просто палочкой («стилом») во влажной глине и даже просто на специальной глиняной табличке; другой придумал особые оттиски-значки для обозначения тех или иных мест хранения; третий догадался, что таким же способом можно обозначать не только предметы и места их хранения, но и некоторые простейшие, основные понятия, и так далее. Сначала все эти значки были достоянием одних лишь чиновников и понятны только им одним. Но им можно было обучиться и обучить других. И других учили. Тому есть замечательное доказательство. Среди прочих клинописных и «линейных» древних «реестров» были обнаружены такие, которые были специально предназначены для обучения будущих чиновников, для заучивания наизусть — ради обретения навыков записи и чтения новых «списков». Надо думать, что жрецы и придворная знать тоже постепенно приобщались к новинке. Впрочем, в тех же первых памятниках шумерской письменности есть указания на то, что цари и правители, как правило, писать и читать не умели — за них это делали специально обученные писцы и чтецы. Эти специалисты были совершенно необходимы при дворе: древние державы, как опять же обнаруживается в памятниках их письменности, вели огромную дипломатическую переписку. В одной только столице Хеттской империи 2-го тысячелетия до н. э. были обнаружены десятки писем хеттских царей к фараонам Египта, правителям стран Малой Азии, царям Ассирии и даже вождям древнегреческих городов. (Надо полагать, что все это не сами послания, а их копии, на всякий случай хранившиеся в царском архиве.) Итак, перед нами две гипотезы, по-разному объясняющие происхождение письменности: одна видит ее начало в рисунках, другая — в оттисках, с помощью которых регистрировались объекты в «реестрах» и «списках». В чем, однако, сошлись все специалисты на упомянутом выше симпозиуме, так это в убеждении, что первые варианты письменности не отражали какого-либо определенного языка — лишь на более позднем этапе некоторые из них перешли к обозначению значками звуков родной речи. Как сказал д-р Питер Дамеров, «каким бы ни был исходный импульс для создания письменности, с момента ее появления она быстро приобретает достаточную независимость и гибкость, чтобы адаптировать свои кодовые знаки для передачи специфических особенностей своего языка». Впрочем, «быстро» — это примерно полтысячи лет: именно такой срок отделяет первые клинописные значки на черепках из Урука от поздней клинописи, представляющей запись шумерской речи. Таким образом, шумерские клинописные знаки постепенно стали знаками шумерского языка, древнеегипетские иероглифы были приспособлены для передачи понятий древнеегипетской культуры, хеттские письмена — для транскрипции хеттской фонетики и так далее. Но где же начался этот процесс? Мы уже знаем, где и когда было изобретено последнее по счету письмо — на острове Пасха, в конце XVIII — начале XIX века. А где и когда возникла первая письменность? Вокруг этого вопроса тоже идут ожесточенные лингвистические споры. До недавних пор считалось, что самые древние значки-письмена появились в Шумере примерно за 3200–3300 лет до н. э. — не случайно известная книга об этой первой месопотамской цивилизации называется «История начинается в Шумере». Но на пенсильванском симпозиуме было сообщено, что новейшие методы радиоуглеродного датирования позволяют думать, что некоторые древнеегипетские иероглифы, обнаруженные на обломках костей и на глиняных сосудах, были нацарапаны за 3500 лет до н. э. Теперь и в этом вопросе будут существовать две теории — египетского и шумерского происхождения письменности. Все другие древние системы письма появились явно позже, но опять-таки «вскоре»: уже в начале 3-го тысячелетия до н. э. письменность становится весьма распространенной — она встречается, например, у эламитов Южного Ирана; затем она появляется в долине Инда (в нынешнем Пакистане) и в Западной Индии, в Сирии, на Крите («линейное письмо») и в Анатолии (империя хеттов). В конце 2-го тысячелетия до н. э. письменность появляется в Китае, а в начале 1-го — в Центральной Америке (государство майя). Эта последовательность заставляет некоторых исследователей думать, что письменность не столько изобреталась в каждом месте отдельно, сколько распространялась, видоизменяясь в ходе этого процесса. Однако другие специалисты считают, что каждая из этих древнейших систем письма была автохтонной, т. е. придуманной независимо от других. (Ситуация тут отчасти напоминает знаменитый спор палеоантропологов: появился вид гомо сапиенс на каждом континенте независимо или возник в Африке и оттуда распространился по планете?) Думается, что и для решения этого спора пока нет достаточного материала. Неслучайно чуть не каждое новое открытие весьма круто меняет представления лингвистов. Раньше, к примеру, считалось, что письменность проникла в долину Инда из Месопотамии. Теперь, на том же симпозиуме, было сообщено об открытии в Индии еще более древних письменных знаков; относящихся к 3300 г. до н. э. и отдаленно похожих на знаки более поздней индусской письменности следующего тысячелетия. Если это открытие подтвердится, оно может означать, что письменность в Индии возникла независимо от Шумера. О Китае раньше вообще не спорили: древняя китайская письменность считалась автохтонной, возникшей на основе изображений на бронзовых изделиях («рисуночное письмо») и на костях для гадания («черепковая письменность»). Но, выступая на пенсильванском симпозиуме, один из специалистов заявил, что ему удалось обнаружить 22 знака финикийской письменности на глиняной посуде и одеяниях мумий, найденных в пустыне Западного Китая. При этом мумифицированные тела имеют характерные признаки людей кавказской расы, а их одеяния — западные приметы, так что можно думать, что эти (а может быть, и более восточные) места Китая посещались людьми из Месопотамии уже во 2-м тысячелетии до н. э. Они могли занести сюда и свою письменность. Известно ведь уже, что повозки и бронзовая металлургия проникли в Китай именно с запада. Таково состояние научных знаний о возникновении письменности на нынешний день. А что же, кстати, с письменностью ронго-ронго? Мы ведь обещали рассказать, что прочел на этих табличках Стивен Фишер, и даже намекнули, что он воспользовался для этого методом Шамполиона. Пришло время для обещанного рассказа. Напомним, что Шамполиону удалось прочесть древнеегипетские иероглифы благодаря находке т. н. Розеттского камня, на котором один и тот же текст был записан и на известном ему греческом языке, и с помощью иероглифов. В случае Фишера роль Розеттского камня сыграла двухкилограммовая табличка ронго-ронго метровой длины, хранившаяся в музее Сантьяго и покрытая множеством строк текста, в которых отдельные куски были отделены друг от друга вертикальными линиями (ни в одной другой табличке таких линий не было). В поисках закономерностей текста Фишер обратил внимание на то, что знак, следовавший за каждой линией раздела, обязательно сопровождался примитивным рисунком фаллического характера (т. е. упрощенным изображением мужского члена). Каждый третий знак после первого (4-й, 7-й и т. д.) тоже сопровождался таким фаллическим символом, т. е. текст как бы распадался на триады типа X-У-Z. Вспомнив, что в рассказах миссионеров, посещавших остров Пасха в прошлом веке, фигурировала некая «Песня Творения», начальные слова которой звучали как «Атуа Мата Рири», а вся песня в целом означала: «Бог Мата Рири («грозноокий») совокупился со сладким лимоном, и так родилось дерево Попоро». Фишер предположил, что найденные им «триады» можно понимать следующим образом: некий X (знак которого сопровождается фаллическим символом) совокупился с У, и это привело к возникновению Z. Иными словами, каждая триада — это предельно лаконичный рассказ о сотворении какого-то объекта рееального мира, а весь текст таблички в целом — своего рода островитянская «Книга Творения». Благодаря этому ключу, ему удалось расшифровать и тексты на других сохранившихся табличках. В итоге он показал, что ронго-ронго были не просто мнемоническим средством вроде известного «узелкового письма», а настоящей письменностью, с помощью которой жрецы острова за период с 1780 по 1865 год сумели записать (а может, и досочинить) мифологию островитян. Интересно, что эта письменность оказалась далеко не чисто пиктографической: ее знаки (хотя отнюдь не все) действительно были упрощенными изображениями физических объектов, но, например, фаллические символы оказались своего рода «семантическими суффиксами», т. е. были предназначены дать наглядное визуальное представление о некоем действии, которое один такой объект совершал над другим… Такие вот картинки…. >ГЛАВА 13 «НЕГРАМОТНАЯ» КУЛЬТУРА В дополнение к вышерассказанному — еще одна история с письменностью, которая не совсем письменность. Всем известно, что древнейшие цивилизации складывались вдоль больших рек. Придумано даже название — «гидравлическая цивилизация», т. е. такая, которая складывалась в борьбе с постоянной угрозой наводнений. Индия не была исключением. Как открыли английские ученые еще в 1870-е годы, древнейшая цивилизация на этом субконтиненте тоже сложилась вокруг реки — вокруг реки Инд. Систематические раскопки, начавшиеся здесь в 1920-е годы, вскрыли большие города, многочисленные здания, сложную систему водопроводных и канализационных труб. Одна только Хараппа, судя по числу жилых зданий, насчитывала 50 тысяч жителей — и это за 2500–2000 лет до нашей эры. Территория этой цивилизации составляла 1 млн кв. км. Понятно, что для современных индийских националистов эта древнейшая цивилизация Инда — предмет величайшей гордости, прямой предшественник культуры Вед и всей нынешней Индии. Своей монументальностью она нисколько не уступала знаменитым, одновременным С ней древним цивилизациям Египта и Мессопотамии. С одним отличием, о котором — сначала потихоньку, чтобы не разъярить этих гордых националистов, а теперь уже во всеуслышание — заговорили с недавних пор некоторые ученые. Если они правы, эти учёные, то древнейшая и великая цивилизация Инда была… безграмотной. От Древнего Египта остались иероглифы, надписи, целая литература. От цивилизаций Древней Мессопотамии сохранилась клинопись, целые библиотеки глиняных табличек. А вот от цивилизации Инда остались лишь многочисленные изображения каких-то непонятных, объединенных в небольшие группы значков, нарисованных в основном на маленьких табличках или печатях. Древнейшие из этих значков датируются примерно 3200-м годом до н. э., т. е. почти тем же временем, что и первые иероглифы и клинопись. Спустя 800 лет эти значки достигают наибольшего разнообразия, а еще спустя 700 лет они исчезают совсем, вместе со своей цивилизацией. И что странно — почти все эти таблички содержат очень малое число значков (или символов?) индийский археолог Рао насчитывает их не более 20-ти, хотя более «патриотически» настроенные ученые утверждают, что разных знаков чуть ли не 700. В последнем случае они, скорее всего, должны были бы быть иероглифами, но этому противоречит тот факт, что большинство этих значков больше похожи на обычные рисунки — изображения рыбы, например, или дерева. Если же отбросить рисуночные значки, мы вернемся к выводу Рао, что «собственно знаков» всего 20, и тогда их можно было бы считать, вслед за финским лингвистом Парполой, знаками фонетического письма, но тут в наши споры вмешивается главный герой всей этой истории, американский «возмутитель спокойствия» Стив Фармер, и портит всю картину своим сенсационным утверждением, что это никакой не алфавит, а просто… Впрочем, давайте по порядку. Фармер, процдя путь от армейского радиста «на подслушке» до профессора на кафедре сравнительной культурологии, в свое время написал глубокую работу по истории Древнего Китая и недавно занялся историей древнего бассейна Инда. В своей последней итоговой статье о пресловутых «знаках древней индийской культуры» он еретически заявил, что никакие это не письмена, а что-то вроде тех геральдических символов, которые имели такое широкое хождение в средневековой Европе. Разумеется, это утверждение было не с потолка взято. Вместе с другими лингвистами-единомышленниками Фармер произвел тщательный анализ всех сохранившихся табличек и определил, что среднее число знаков на них составляет 4,6 (самая длинная «надпись» содержит 17 знаков и лишь меньше одного процента надписей длиннее 10 знаков). Такие короткие «тексты» не встречаются ни в одной из известных ученым письменностей мира. Далее, в отличие от букв, которые в текстах на любом языке повторяются довольно часто (например, в английских текстах почти 12 % знаков — это буква «е»), в «надписях» из долины Инда такие повторы практически не встречаются. Наоборот, добрая половина знаков вообще встречается только один раз, три четверти знаков встречаются всего пять и менее раз. Такое впечатление, пишет Фармер, что «некоторые знаки изобретались специально для данного текста и забывались после нескольких использований». Все это привело Фармера к выводу, что индийские знаки были, скорее, магическими символами — вроде креста у христиан — или геральдическими изображениями, обозначавшими отдельные кланы, сосуществовавшие (и, возможно, враждовавшие) внутри этой загадочной цивилизации. Разумеется, гипотеза Фармера взбесила многих. Националисты попроще стали посылать ему письма с угрозами, а ученые коллеги принялись раздраженно опровергать все его утверждения, заявляя, что он фальсифицировал все свои данные. Что, как признает большинство специалистов, попросту неправда. Доводы Фармера слишком обоснованны, чтобы отмахнуться от них, и не случайно многие специалисты из «умеренных» уже сдвинулись от прежней единодушной веры в древнюю индийскую письменность к более скромному утверждению, что на загадочных табличках изображены имена принцев, богов, названия городов и т. п., но несвязные «рассказы», как было в Древнем Египте или Шумере. Вместе с Фармером (или вслед за ним) они сходятся в том, что эти символы играли какую-то важную социальную роль, объединяя все территории древней цивилизации Инда и придавая им ощущение общей принадлежности к одной культуре (напомним, что по территории эта цивилизация была примерно как вся нынешняя Западная Европа!). Как. говорит Фармер, отсутствие письменности отнюдь не унижает индийскую цивилизацию. «Большая городская цивилизация могут держаться вместе и без письменности», даже если это была многоплеменная и многоклановая культура. «Бесстрашный еретик» настолько уверен в своей правоте, что недавно учредил даже специальную премию размером в 10000 долларов для человека, который представит надпись длиной в 50 символов, с повторяющимися по законам языка значками и сопроводит находку прочтением ее текста. «Я ничем не рискую, — уверенно заявил он газетам. — Мне все-равно никогда не придется выписывать этот чек». >ГЛАВА 14 В ПОИСКАХ ТАЙНОГО ЗНАНИЯ Под конец вернемся от древней лингвистики опять к древней истории. В ней все еще появляются новости и открытия. Одно из таких открытий произошло в исторических масштабах не так уж давно, и поэтому его можно смело зачислить в новости. Во всяком случае, в древние новости. Открытие это совершил простой арабский пастух. Случайно заглянув в заброшенную пещеру, он обнаружил там глиняный кувшин метровой высоты и, разбив его мотыгой, увидел какие-то древние свитки. Он забрал их с собой, а уже от него они каким-то образом попали на арабский черный рынок, перекочевали в руки охочих до древностей зарубежных туристов и в конце концов оказались в распоряжении ученых, где им и было самое место. Ибо свитки эти содержали неведомые доселе и переворачивающие многие наши представления тексты, родившиеся в кругу загадочной религиозной общины, что существовала в этих местах в те времена, когда ближневосточную землю топтали сапоги римских легионеров, а отчаявшиеся в неволе люди слагали учение о приходе избавителя-Спасителя. Вы, конечно, подумали, что я пересказываю историю Кумранских свитков. И вы ошиблись. Я хочу рассказать совершенно иную, хотя и не менее увлекательную историю, которая как две капли воды похожа на историю кумранской находки, — с той лишь разницей, что в данном случае свитки были найдены в пещере на горе Джабаль аль-Тариф, вблизи города Наг-Хаммади, что в среднем течении Нила, между знаменитыми египетскими городами Асьютом и Луксором. О кумранских свитках знает каждый образованный человек. О свитках Наг-Хаммади знает далеко не каждый. Между тем по своему значению они, пожалуй, не уступят свиткам Мертвого моря. Свитков Наг-Хаммади насчитывается тринадцать. В них содержится пятьдесят два текста, созданных, по мнению специалистов, в первом-втором веках нашей эры. Тексты эти представляют собой раннехристианские апокрифы, то есть сочинения, не вошедшие в утвержденный церковью христианский канон — «Новый Завет». А громадное историческое значение этих текстов состоит в том, что в сумме они образуют наиболее полную и впервые представшую перед исследователями библиотеку т. н. «гностических» сочинений, до того известных лишь по пересказам христианских критиков гностицизма. Вообразите себе, что вы находитесь в зале суда, где все время выступают только свидетели обвинения. И вдруг происходит взрыв! Впервые за два тысячелетия в зале появляется сам обвиняемый. В зале шум и смятение, судья грохочет молотком по столу, приставы выводят непотребно беснующихся обвинителей. И обвиняемый начинает сам рассказывать о себе. Я сознательно принял столь высокопарный тон, чтобы подчеркнуть всю огромность и небывалость случившегося. Находка в Наг-Хаммади не просто очередное археологическое открытие. Это переворот в наших представлениях о гностицизме. А стало быть, обо всей истории раннего христианства. Более того — о религиозной истории в целом. Ибо гностицизм — это одна из величайших и распространеннейших религий древнего мира. Но куда важнее и, несомненно, куда интереснее, что это одно из самых влиятельных и заметных явлений нашей с вами эпохи, той, в которой мы живем и блуждаем сейчас. Достаточно сказать, что следы гностических доктрин обнаруживаются в учениях таких современных мыслителей, как Хайдеггер и Юнг, а в своей вульгаризованной форме они были усвоены мистическими вдохновителями Гитлера из «Общества Туле» и создателями многих современных оккультных сект и мистических культов на Западе. И если когда-то исследователь гностицизма Ганс Йонас говорил о «Великой гностической революции» древности, то сегодня мы можем назвать наше собственное время эпохой столь же масштабной «гностической контрреволюции». Теперь уж вы наверняка впали в тяжелую задумчивость. Если гностицизм столь могуч и вездесущ, то почему мы о нем ничего не знаем? Если его следы обнаруживаются буквально повсюду, то, ради Бога, покажите нам их. И поскорее! Может быть, мы — тоже гностики, только сами не знаем, как мольеровский герой Журден не знал, что всю жизнь говорил прозой! А не знаем мы о гностицизме (точнее, почти ничего не знали до находки в Наг-Хаммади) по той простой причине, что христианская церковь усиленно над этим поработала. В свое время, на рубеже I–II веков, учение гностиков настолько успешно соперничало с ортодоксальным христианством, что, по мнению некоторых ученых, имело шансы его победить. Гностикам не хватило организованности. Они никогда не пытались создать формальную церковную организацию. Более того, они были принципиально против нее. Гностицизм, как мы увидим, — это вызывающе индивидуалистическая доктрина. И пока гностики размышляли о причине несовершенства земной юдоли и способах ее преодоления, христиане создавали свои епископаты. И первые же епископы на первое место в списке своих неотложных задач поставили беспощадную борьбу с конкурентами. Уже в 180 году епископ Ириней опубликовал пятитомное (!) сочинение, озаглавленное «Сокрушение и уничтожение ложного учения, так называемый «гнозис», которое изрыгает хулу на Господа нашего Иисуса, — дабы не дать другим впасть в эту бездну гордыни и богохульства». С еретиками христианство всегда расправлялось круто. Гностицизму грозило полное исчезновение из человеческой памяти. К счастью, Ириней с группой товарищей перестарались. В их сочинениях эти еретики цитировались так обильно, что вдумчивые люди из одних этих цитат могли составить представление о гностических доктринах. А историки религии XIX–XX веков разбирались в древнем гностицизме уже весьма неплохо. Находка в Наг-Хаммади позволила им сделать следующий огромный шаг в развитии и обобщении этих представлений. Что же так раздражало христианских ортодоксов в гностическом учении? Возьмем, к примеру, один из текстов наг-хаммадийских свитков, апокриф, который называется «Евангелие от Фомы» (в «Новом завете» вы его, разумеется, не найдете). Начинается оно так: «Здесь содержатся тайные слова, сказанные живым Иисусом и записанные его братом-близнецом Иудой Фомой». Тут даже самый поверхностно знакомый с христианством человек содрогнется. Оказывается, у Иисуса был брат-близнец! Оказывается, Иисус поведал ему какое-то «тайное знание»! Раз «тайное» — значит, не то, которое содержится в канонических Евангелиях. Что же это за знание? Намеки на эту тайну рассеяны по наг-хаммадийским свиткам в превеликом множестве. К примеру, в тексте «Свидетельство истины» рассказывается совершенно сенсационная история Змия, который, оказывается, первым пытался принести людям свет «тайного знания», но встретил яростное сопротивление «так называемого Бога», пригрозившего Адаму и Еве смертью, если они вкусят от злополучного яблока. А в тексте с поразительным названием «Громыхающий идеальный разум» некая загадочная «Высшая богиня» выражается о себе таким дзэн-буддистским слогом: «Я та, которую чтут и поносят, я шлюха и святая, я мать и девственница, я первая и последняя, я непостижимое молчание и я же невыразимый звук моего имени». Гностики были решительно неортодоксальны и в толковании самого Иисуса, и в объяснении его миссии на земле. У ортодоксов Иисус отделен от сынов человеческих уже тем, что он «Сын Божий», а у гностиков Бог и человеческое Я — одно и то же: «Познай, кто это такой внутри тебя говорит — моя мысль, моя душа, мое тело, и ты обнаружишь Бога в самом себе», — говорит гностический автор Моноимус. У ортодоксов Иисус говорит в основном о «первородном грехе», который он пришел «искупить», а у гностиков он занят прежде всего развенчанием иллюзий, которые скрывают от людей «истинное положение вещей в мире», «истинное знание». И говорит Иисус Фоме: «Кто пьет из кипящего источника истины, из которого пью и Я, тот становится Мною, и Я становлюсь им». Не потому ли Фома и назван его братом-близнецом? Сквозная тема всех гностических текстов — поиск тайного знания, по-гречески — «гнозиса». Отсюда и название. Какие-то загадочные, словно нарочито созданные кем-то иллюзии скрывают от людей истинную природу мира и самого Бога, и то, что люди принимают (а ортодоксальные христиане выдают) за истину, ей на самом деле противоположно. Может, и сам Бог подложный? Да и существует ли Он вообще? Один из гностических авторов говорит о «Несуществующем Боге». Не в том смысле, что Его нет, а в том, что Он не существует в принятом толковании этого слова, не может быть определен в обычных терминах, разве что в отрицательных: Он не то, и не то, и не то. Эту мысль позднее подхватили у гностиков такие знаменитые средневековые мистики, как Николай Кузанский и Якоб Беме. А уже у них — кое-какие мистики нашего времени. Точно так же, как Юнг заимствовал у них убеждение в наличии у божества женской ипостаси, а Хайдеггер — некоторые представления о природе человеческого бытия, вошедшие — уже через хайдеггеровские сочинения — в основы современного экзистенциализма. О том, что заимствовал у гностиков фашизм, популярно рассказано в переведенной (много лет назад) на русский язык книге Бержье и Пауэлла «Утро магов», а более научно — в недавно вышедшей (по-английски) книге «Гностические корни нацизма». Любопытно, что почти так же называется более давняя книга известного французского историка Алана Беансона, только у него — «Гностические корни ленинизма»! Гностические корни, несомненно, есть, как я уже говорил, и у более мелких духовных течений эпохи, но они все еще ждут своих исследователей. Гностики, в общем-то, всего лишь передали эстафету. Они и сами многое заимствовали. Внимательный читатель наверняка заметил; что разговоры об «истине, скрывающейся за покровом иллюзий», очень напоминают индийские рассуждения о «покрове Майи», скрывающем от людей высшую истину бытия, то, «каково оно есть на самом деле», а сами «иллюзии» очень похожи на платоновские «тени вещей», которые носятся на стене Пещеры, где томится человеческий разум, принимая эти тени за те абсолютные «идеи», из которых, по Платону, слагается истинная реальность. Не случайно Адольф Гарнак, один из первых исследователей гностицизма, когда-то назвал гностиков «распоясавшимися платонистами», а британский историк Гонзе возвел зарождение гностических идей к влиянию буддистских проповедников, которые активно миссионерствовали в Александрии в I–II веках н. э. С другой стороны, Мориц Фридландер доказывал, что многое в учении гностиков восходит к «еретическим» идеям иудаизма того же времени. У гностиков, действительно, был жестокий спор с иудаизмом, может быть, даже более жестокий, чем с христианской ортодоксией, и такой беспощадно страстный, какой бывает только между очень близкими родственниками. Гностики отвергали «претензии» иудаизма на абсолютную истину с той же яростью, что и претензии первохристиан; но они же впоследствии возместили иудаизму «убытки», вдохновив его на создание гаонической мистики (как позднее, видимо, одарили создателя ислама мистической идеей «цепи пророков», а сам ислам вдохновили на создание суфизма и исмаилизма; но об этом — в следующей части нашей книга). Но, может, дело обстояло наоборот, — еврейская мистика предшествовала гностицизму? К этому следовало бы вернуться, но мы сейчас ограничимся тем, что передадим слово арбитру, который лично мне представляется наиболее глубоким из всех, — уже упоминавшемуся ранее Гансу Йонасу. В своем классическом произведении «Гнозис и дух позднеантичной эпохи» он набрасывает грандиозную картину того, как в недрах созданного Александром Македонским эллинистического мира постепенно и исподволь на протяжении нескольких столетий вызревал поразительный и уникальный сплав многочисленных восточных и западных религиозных и мистических учений и культов и как затем эта духовная магма, вырвавшись из ближневосточных недр, хлынула на Запад в грандиозном контрнаступлении, в котором Восток взял реванш за предшествующее — политическое отступление перед Западом. (Отметим, что под Западом Йонас подразумевал Грецию, а под Востоком — то, что мы и сегодня так называем.) Так вот, подыскивая слова для определения центрального ядра этого гигантского духовного процесса, наложившего неизгладимый отпечаток на всю последующую историю западной цивилизации, Йонас долго выбирает между различными возможностями — «временный триумф иудаизма», «победа иудеохристианства» и т. п., — пока не приходит к тому главному, что, на его взгляд, объединяло и пронизывало все эти разнородные составляющие. Это было, говорит он, «вторжение гностицизма». При таком подходе становится понятным, почему гностицизм обнаруживает такое глубокое сходство со столькими и столь разнородными учениями и доктринами древности, начиная с мистики иудаизма и платоновской философии и кончая отголосками буддизма. Становится понятным и то, почему гностицизм, как утверждает Йонас, оказался главной и сквозной идеей позднеантичной эпохи и почему сумел оказать столь мощное влияние на духовное развитие человечества, что это влияние ощущается и в наши дни, — ведь он объединял в себе множество различных влияний и тем самым, как сказали бы химики, имел множество «свободных валентностей», которые позволили ему объединяться с самыми разными мистическими идеями позднейших времен и оплодотворять их своим влиянием. Примерно так же (но в куда меньшем масштабе) вторгся (уже в нашу эпоху) в духовную жизнь России марксизм с его щупальцами свободно-валентных идей, только и ждущих, к кому бы присосаться — то ли к символизму, то ли к богоискательству, то ли к рабочему движению. О гностицизме можно рассказывать долго. На этом закончим наше повествование. >ЧАСТЬ 6 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА >ГЛАВА 1 А БЫЛА ЛИ ОНА ВООБЩЕ?
История насмешлива. Отодвигая события в прошлое, она делает их сомнительными (порой незаслуженно сомнительными) для потомков. При этом, будучи одинаково равнодушной ко всему в себе, она и в этом вопросе не знает исключений. «Я слышал сомнения в реальности Трои», — писал Байрон после посещения Гиссарлыкского холма. И предрекал, улыбаясь: «Со временем усомнятся и в Риме». Подлинность Древнего Рима пока еще несомненна, но реальность Троянской войны в последние столетия действительно стала — предметом бурных споров. Не то было раньше. «Для античности, — говорят Гиндин и Цымбурский, — Троянская война была несомненным фактом… О ней напоминали родословные, идущие от ее героев, названия основанных ими городов, гавани, где были стоянки их кораблей». Эти родословные и названия были известны всем. Великий Вергилий в своей поэме «Энеида» писал, что когда уцелевший троянец Эней в своих странствиях навстречу судьбе (ему было якобы предназначено основать Рим, который возродит троянскую славу) добрался до далекого Карфагена, что на другом от Трои конце Средиземного моря, и попытался поведать тамошней царице Дидоне, откуда он родом, оказалось, что Дидона и сама уже может рассказать ему историю осады и гибели Трои и ее героев. Как объясняет В. Топоров в своей книге «Эней — человек судьбы», Вергилию, писавшему в I веке до н. э., представлялось очевидным, что в Энеевы времена о падении Трои должен был знать каждый средиземноморец, коль скоро это было реальное событие, потрясшее весь средиземноморский мир. Свидетельств такой безусловной веры многих поколений (от Гомера к Вергилию и далее до средневековых) в историческую реальность Троянской войны несчетное множество; вот одно из них, возможно, самое яркое. В «Илиаде», рассказывая о главных героях Троянского похода, Гомер среди прочих повествует бб Аяксе — царе Локриды, что находилась в срединной Греции неподалеку от Дельф с их оракулом. Гомер называет этого Аякса «малым», чтобы отличить от другого, «большого», или «великого», Аякса Теламонида:
Помимо отличного метания копья, Аякс Локридский отличался, видимо, еще и необузданно диким нравом — после взятия Трои он ворвался в храм Афины, где пророчица Кассандра, ища спасения, прильнула к статуе богини, и, увидев несчастную девицу, воспылал к ней нечистым желанием; а поскольку ему никак не удавалось оторвать руки Кассандры от статуи, он схватил ее за волосы и потащил прочь вместе с каменным изваянием. Этим поступком, осквернившим алтарь Афины, Аякс Локридский вызвал понятную и вечную ненависть богини, и вот, как сообщают древнегреческие памятники, жители Локриды даже в IV веке до н. э., т. е. спустя тысячу лет (!) после описанных Гомером событий, были настолько убеждены в реальности этого давнего проступка своего давнего царя, что продолжали замаливать его вину перед Афиной и отвращать ее гнев, ежегодно отправляя двух своих девушек (из самых аристократических семей) в отстроенную к тому времени Трою, дабы они служили там хранительницами восстановленного храма оскорбленной богини. Правда, некоторые скептики издавна утверждали, что обвинение Аякса в попытке изнасиловать Кассандру было облыжным и его якобы придумал в каких-то своих целях хитроумный и коварный Одиссей. Но если даже локридцы поверили наговорам Одиссея, все равно, они и в этом случае, в конечном счете, поверили Гомеру. Нет, бесспорно, сомнения в исторической достоверности гомеровского рассказа не приходили тоща в голову почти никому — разве что Анаксагору, который, видите ли, требовал доказательств этой достоверности; но на то Анаксагор и был философ. Всем прочим людям, нефилософам, доказательства казались излишни, ибо, как писал древнегреческий историк V века до н. э. Фукидид, «в правдивости гомеровского рассказа не приходится сомневаться», поскольку за нее ручаются «великие поэты и всеобщая традиция» («поэты» здесь во множественном числе, потому что, кроме гомеровских, существовали и несколько менее пространных поэм о Троянской войне, совместно известных как «Эпический цикл» и дошедших до нас в записях VI века до н. э.). «Ручательство» это становилось тем более убедительным, что поэты и традиция взаимно удостоверяли подлинность своих свидетельств: например, «Эпический цикл» утверждал, что Афина наложила на Локриду тысячелетнее проклятие и, согласно традициям самих локридцев, им суждено было посылать своих девушек в. Трою тоже на протяжении тысячи лет, так что они покончили с этим тягостным обычаем лишь в 264 г. до н. э., тем самым заодно засвидетельствовав, что, согласно их традиции, падение Трои произошло в 1264 г. до н. э. Кстати говоря, хотя вера в реальность этого события не умалялась с веками, но сама его дата постепенно уходила в туман и уже в древности стала предметом ожесточенных споров. Так, великий древнегреческий историк Геродот (484–424 гг. до н. э.) путем сопоставления генеалогий царских семей, сохранившихся в различных греческих традициях, пришел к выводу, что поход на Трою состоялся в 1260 г. до н. э., чем, в сущности, научно подтвердил «традиционную» датировку. С другой стороны, двумя столетиями спустя географ и астроном Эратосфен (276–194 гг. до н. э.), использовав те же данные, что Геродот, но подойдя к ним с большей придирчивостью, заключил, что Троянская война началась на сто лет позже, в 1164 году до н. э. (Многие ученые до сих пор считают это наиболее авторитетной датировкой.) Самой древней из называвшихся дат Троянской войны был 1334 год до н. э., самой поздней — 1135-й, а вот некий безымянный резчик, живший как раз между Геродотом и Эратосфеном, в начале III века до н. э. высек на мраморном памятнике в Фаросеи такую (уже неизвестно откуда взятую) дату того же события: 5 июня 1200 года до н. э. — то есть с точностью не только до месяца, но даже до дня! Во всем этом важна, конечно, не сама дата и даже не то, что разные даты отличались друг от друга, — куда важнее поразительная готовность каждого автора назвать точную дату, ибо такая готовность, несомненно, проистекала из абсолютной веры в реальность описанных Гомером событий. Нам, современникам, трудно разделить эту наивную уверенность — прежде всего потому, что, как нам сегодня уже известно, догомеровская (а скорее всего, и гомеровская) Греция еще не знала письменности (а точнее, знала, но утратила, как выяснилось позже, причем еще в XII веке до н. э., задолго до времен Гомера); поэтому народные предания (то, что Фукидид называл «всеобщей традицией») никем и никак не могли быть записаны. Незаписанная же «народная память» — весьма ненадежный свидетель. Как писал знаменитый историк Иосиф Флавий, «хотя часто говорят, будто древние греки были первыми, кто стал заниматься прошлым на более или менее точный научный манер, на самом деле, очевидно, что так называемые варвары сохранили историю лучше, чем греки… Дело в том, что греки поздно усвоили алфавит, и он дался им с трудом… так что во всей греческой литературе нет сочинений, относительно которых существовала бы уверенность, что они древнее Гомера. Однако время Гомера было явно намного позже Троянской войны, и даже он оставил свои поэмы незаписанными…» Действительно, тот же Геродот считал, что Гомер жил за 400 лет до него, а это соответствует, как легко посчитать, IX веку до н. э., и хотя некоторые другие историки порой отодвигали время его жизни чуть ли не в XII век до н. э., т. е. делали его прямым современником воспетой им войны, большинство современных ученых склоняется скорее к точке зрения Геродота. Это большинство поддерживает и утверждение Иосифа Флавия о сравнительно позднем возникновении греческой письменности; правда, некоторые пылкие умы в прошлом выдвигали предположения, будто эта письменность была создана уже за столетие до гомеровских поэм или же, в крайнем случае, одновременно с ними (именно для их записывания), а то и самим Гомером (для той же цели), но сегодня это событие единодушно относят примерно к тому же моменту, что и первые общегреческие Олимпийские игры, а они состоялись в 776 г. до н. э. Это мнение достаточно обосновано: самые ранние из обнаруженных на сей день надписей, исполненных несомненно греческим алфавитом, датируются 770 годом до н. э. С другой стороны, сегодня существует и вполне надежное основание считать, что Троянская война, если она происходила, вряд ли могла произойти позже середины XI века до н. э., ибо во второй половине этого века, как свидетельствует археология, союз древнегреческих государств, возглавлявшийся Микенами, уже не существовал — он распался под натиском каких-то пришельцев с севера, а еще через несколько десятилетий рухнули и сами Микены. Стало быть, позже, скажем, 1150 года до н. э. возможность организации того коллективного, общегреческого похода под водительством Микен, какой описан в «Илиаде», стала весьма сомнительной. Таким образом, между Гомером и — описываемыми им событиями зияет временной разрыв протяженностью в 300–400 лет. И тут возникает первый из серии вопросов, в совокупности образующих загадку Троянской войны: могла ли устная традиция сохранить и перенести через такой провал достоверные воспоминания о столь давнем прошлом? Но этот вопрос тут же осложняется еще одним. Допустим все же, что устная традиция сумела сохранить верность далекому прошлому. Но вот незадача: исследования современных филологов убедительно показали, что гомеровские поэмы, которые были вершиной и завершением этого многовекового устного творчества, представляют собой не столько точную (пусть и гениальную) фиксацию «преданий старины глубокой», а скорее — весьма индивидуализированное художественное преображение этих фольклорных материалов. Но можно ли в таком случае говорить об их исторической достоверности? Можно ли говорить об исторической реальности неких событий на основании текста, хоть и рассказывающего об этих событиях, но созданного по законам поэтического творчества? Иными словами, насколько надежны свидетельства гомеровских поэм? Обратимся к Гомеру. >ГЛАВА 2 ГОМЕР И ЕГО ПОЭМЫ Что мы знаем о Гомере? Что он был автором двух пространных, изложенных гекзаметром поэм «Илиада» и «Одиссея», в которых повествуется о десятилетней войне греков (в этих поэмах они именуются более древним названием «ахейцы») против троянцев, жителей города Троя, что существовал когда-то на западном берегу малоазиатского (ныне Турецкого) полуострова. Однако современная историко-филологическая наука утверждает, что самым первым источником всех знаний и представлений об этой войне был не Гомер, а предшествовавшая ему древнегреческая народная традиция — эпические сказания, изустно передававшиеся сказителями-певцами («аэдами») из поколения в поколение задолго до Гомера. Сами эти сказания до нас не дошли, но, начиная с V века до н. э. (т. е. уже много позже Гомера) их тексты, сохранившиеся в неполном и разрозненном виде, были собраны различными греческими авторами — Аполлонием с Родоса, Аполлодором из Афин, Квинтом из Смирны, Арктиносом из Милета и другими — в виде нескольких коротких поэм, повествовавших об отдельных эпизодах Троянской войны, не фигурирующих в «Илиаде» и «Одиссее». Так, «Киприя» Арктиноса Милетского излагала предысторию этой войны; «Малая Илиада» Квинта Смирнского заполняла промежуток между «Илиадой» и «Одиссеей», рассказывая о дальнейших событиях осады Трои — от смерти Гектора и до взятия города (гибель Ахилла; смерть Париса; изготовление «Троянского коня»); во «Взятии Трои» того же Арктиноса рассказывалось о падении троянской крепости, ее разграблении и судьбах ее жителей — царя Приама, его жены Гекубы, дочери Кассандры, вдовы Гектора Андромахи и Елены Прекрасной; поэма «Возвращения» была посвящена истории возвращения греческих героев на родину и судьбам некоторых из них. Следует заметить, что, не будь этих поэм, мы бы не знали сегодня множества знаменитых и красочных деталей, которые ныне у всех на слуху, — ни рассказа о «суде Париса» и похищении им прекрасной Елены (с чего, собственно; и началась вся Троянская распря), ни истории смерти Ахилла, пораженного стрелою в пятку — единственное уязвимое место на его теле, ли многих других; ибо, как уже сказано, ни одной из этих историй нет ни в «Илиаде», ни в «Одиссее». Тем не менее, несмотря на эту неполноту, именно «Илиада» и «Одиссея» являются самым главным и самым авторитетным источником наших сведений о Троянской войне. Объясняется это, прежде всего тем, что эти поэмы уже в древности обрели-статус величайшего произведения греческой культуры. Древние греки считали их чем-то, далеко выходящим за чисто литературные рамки: они учили и воспитывали на них своих детей, почитали как непреложный кодекс нравственности и зачастую даже руководствовались ими в своей практической деятельности. Влияние этих поэм на европейскую культуру последующих веков тоже было огромно. По их образцу было создано величайшее произведение римской литературы — поэма Вергилия «Энеида»; позднее они вошли в литературный кодекс византийской империи, где стали предметом углубленного изучения и комментирования; а еще позже, проникнув из Византии в Италию, оказали глубокое влияние на культуру Ренессанса. В Новое время, обретя благодаря многочисленным переводам даже более широкую популярность, чем Данте или Шекспир, они стали одной из важнейших основ всего классического образования многих поколений европейцев. Не удивительно, что отношение к этим великим поэмам приобретало порой настолько благоговейный характер, что их подчас даже отказывались признавать творением отдельного, пусть и гениального, человека — один немецкий филолог XVIII века выдвинул в свое время фантастическое предположение, что обе они, и «Илиада» и «Одиссея», были созданы посредством спонтанного «творческого выдоха» всего древнегреческого народа как целого. Достоверно известно, однако, что сами древние греки упорно приписывали создание обеих поэм одному конкретному человеку — слепому певцу Гомеру — и даже придумали этому человеку развернутую биографию, согласно которой он родился на острове Хиос в Эгейском море, много странствовал по Малой Азии, Египту и самой Греции и оставил потомков — так называемых гомеридов, взявших на себя задачу сохранения и распространения его поэзии. Еще более детальную (и более фантастичную) биографию Гомера придумал Геродот, который приписал ему несколько поколений предков и великое множество путешествий. Из всего этого единственно достоверным является то, что в более поздние века на острове Хиос действительно существовала гильдия или «школа» поэтов, именовавших себя «гомеридами» и исполнявших преимущественно произведения Гомера, которого они считали своим земляком. Какую позицию в этих спорах занимает современная филологическая наука? Она считает достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал эпический поэт по имени Гомер и что именно он сыграл ведущую роль в окончательном формировании «Илиады» и «Одиссеи» (составные части которых, возможно, существовали уже до него в виде устных поэм). Почему это «достаточно вероятно», станет ясно чуть далее. Пока же заметим вслед за специалистами, что, поскольку некоторые языковые приметы гомеровских поэм близки к особенностям ионийского диалекта древнегреческого языка, который был в ходу у жителей островов восточной части Эгейского моря, то и предание о хиосском происхождении Гомера могло иметь под собой реальную основу, поскольку Хиос относится к Ионическим островам. Многие специфические детали «Илиады» свидетельствуют, что ее автор был хорошо знаком с географическими и климатическими особенностями Хиоса, Родоса и других островов, а также близкого к ним малоазийского побережья. Он, например, упоминает о птицах, гнездящихся в устье реки у малоазийского города Эфес, о виде на горы, открывающемся с Троянской равнины, о северо-западных ветрах, преобладающих на Хиосе, и т. п. Таких восточноэгейских примет много меньше в «Одиссее», что, в частности, побудило Аристотеля высказать предположение, что эта поэма была написана Гомером в глубокой старости, а других исследователей — даже утверждать, будто она вообще приналежит иному автору (к тому же она совершенно отлична по жанру). Тем не менее современная филология и здесь пришла к выводу, что, при всех сомнениях, «Одиссея» была как минимум вдохновлена Гомером, а то и создана им самим. Однако время создания обеих поэм представляется сегодня несколько иным, чем в древности: определенные детали текста побуждают отнести «Илиаду» к концу IX, «Одиссею» — скорее даже к середине VIII века до н. э. А это означает, что они существенно моложе древних поэм «Эпического цикла». Тем не менее «Илиаду» и «Одиссею» нельзя противопоставлять этим поэмам. Как показал в 30-е годы нашего века американский филолог Малькольм Пэрри, поэтика «Илиады» и «Одиссеи» — это все же поэтика устного эпического творчества, и в этом смысле их создатель был прямым продолжателем традиции пред-. шествовавших ему эпических сказителей. Не случайно Гомер и сам применяет для определения поэта тот же термин «аэд», который в древности характеризовал этих певцов-сказителей. Но он. был весьма особым их продолжателем. В своих поэмах он далеко превзошел всех безвестных предшественников. Как показало изучение еще сохранившихся (на Балканском полуострове и в других странах) традиций устного эпического творчества, для поэтов-певцов и сказителей характерно создание сравнительно небольших «песен» (т. е. коротких поэм), каждая из которых содержит часто всего один законченный эпизод и исполняется (при подходящем случае и в подходящей обстановке) в один прием. Это опять же подтверждает сам Гомер, пересказывая в «Одиссее» две такие. законченные песни: одну — о любовном романе между богом Аресом и богиней Афродитой, другую — о придуманном Одиссеем «Троянском коне», — каждая из которых занимает примерно по 100 строк поэмы. Примеры таких же коротких поэм сохранились и в «Эпическом цикле». Так вот, по утверждению специалистов-филологов, главное и величайшее новаторство Гомера состояло в резком переходе от этих коротких песен к качественно новому поэтическому жанру — к монументальной эпической поэме, включающей десятки песен и многие тысячи строк (в одной «Илиаде» их более 16 тысяч). Это новаторство Гомера можно уподобить разве что столь же революционному прорыву последующих времен — изобретению романа как совершенно новой формы повествования. Громадность материала, который становился при этом доступен, широта возникавшей отсюда картины событий, их историческая и психологическая глубина не могли не произвести огромного впечатления на слушателей, привыкших доселе исключительно к коротким рассказам. Можно думать, что слушатели Гомера были столь же потрясены, когда этот неведомый им прежде слепой певец из вечера в вечер несколько дней подряд исполнял перед ними свое монументальное творение. Сам размах этого исполнения предполагал совершенно исключительные творческие качества нового певца, и не удивительно, что имя Гомера с такой силой врезалось в память народа. Не удивительно также, что устная эпическая традиция, достигнув в поэмах Гомера своего высшего, развития, достигла в них и своего естественного завершения: после Гомера петь «по-старому» стало практически невозможным. Произносившийся самим Гомером текст, скорее всего, был нестабильным и несколько менялся от выступления к выступлению. Это не удивительно, ведь, греки в те времена еще не знали письменности, ее широкое распространение началось, мы говорили об этом, лишь во второй половине VIII века до н. э. Но так как слушатели Гомера не обладали его памятью и способностями и в то же время хотели знать его «божественные» (как они их называли) поэмы от слова до слова, то можно думать, что уже с началом распространения греческой письменности начались попытки записи этих поЗм и постепенного приведения этих записей к одному стабильному («каноническому») варианту. Согласно некоторым древнегреческим источникам, уже в середине VI века до н. э., при афинском правителе-тиране Писистрате, «Илиада» зачитывалась по его приказу перед толпами, собиравшимися на площади около построенного тираном величественного храма богини Афины. Поскольку она именно «зачитывалась», то была, надо думать, уже записана, и итальянский философ Нового времени Джамбатиста Вико (1668–1744) даже предположил, что именно по приказу Писистрата поэмы Гомера и были записаны в первый раз и притом в окончательном, «канонизированном» виде, дабы предотвратить дальнейшую порчу этого «национального достояния» при устной передаче. Нам никогда не удастся узнать, так это или не так, потому что первый дошедший до нас (имеющийся в распоряжении ученых) список гомеровских поэм восходит всего лишь к X веку нашей эры — это копия византийского издания 860 года (оригинал его погиб), тщательно отредактированного и снабженного всеми накопившимися за столетия комментариями; копия эта хранится ныне в соборе св. Марка в Венеции и именуется «Венетус А». Каков же этот дошедший до нас текст? О чем он, собственно, рассказывает? Как выглядит в его передаче интересующая нас Троянская война? Оказывается, ее начало лежит за пределами этого текста. Только из поэм «Эпического цикла» (в передаче более поздних авторов) можно узнать, что война началась из-за спора трех богинь — Афины, Афродиты и Геры — за обладание яблоком с надписью «прекраснейшей», которое подбросила им богиня раздора Эрида (Эрис). Зевс велел отвести спорящих богинь в Троаду, к тамошнему принцу Парису-Александру, сыну троянского царя Приама, чтобы тот их рассудил, и Парис отдал яблоко Афродите, обещавшей ему любовь Елены Прекрасной, жены одного из греческих царей Менелая (этим «судом Париса» объясняется, кстати, почему в ходе последующей войны Афродита помогает троянцам, а Гера и Афина — грекам). Далее выясняется, что Парис, вдохновленный обещанием Афродиты, отправился в Спарту, во владения Менелая, и, пользуясь его отсутствием, соблазнил и похитил Елену, а затем привез ее в Трою, где его сестра, пророчица Кассандра, тотчас возвестила, что поступок Париса обрекает город на войну и гибель; Кассандре, однако, никто не поверил, ибо когда-то бог Аполлон, оскорбленный ее отказом ему отдаться, наплевал ей в уста — как раз для того, чтобы никто ей не верил. Однако пророчество Кассандры, увы, оказалось вещим. Опозоренный Менелай обратился к своему могущественному брату — микенскому царю Агамемнону — с просьбой помочь ему отвоевать Елену и отомстить, за унижение. Агамемнон, в свою очередь, обратился к царям других греческих городов, призывая их объединиться для похода на Трою, и его призыв нашел благожелательный отклик. В итоге в составе греческого воинства оказались все великие герои тогдашней Греции — прежде всего, разумеется, Ахилл, но также и Диомед, Филоктет, Одиссей, оба Аякса, «большой» и «малый», и многие-многие другие. (Их поименование вместе с перечнем приведенных каждым из них боевых кораблей и воинов составляет содержание т. н. «списка кораблей», помещенного Гомером в конце второй песни «Илиады». Вспомним у Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины…»). Главой похода был избран Агамемнон — как самый могущественный из всех. Начало похода обернулось для греков неудачно: Аполлон послал им некое знамение, которое прорицатели истолковали как намек, что война будет продолжаться 10 лет. Затем греческие войска по ошибке высадились много южнее Трои, потерпели позорное поражение в битве с тамошними царями, а на обратном пути вдобавок еще попали в бурю и с трудом добрались домой. Все это оттянуло подлинное начало войны (по одним источникам — на несколько месяцев, по другим — на добрых 9 лет), но, как бы то ни было, герои снова собрались и двинулись на Трою, на сей раз, предварительно принеся в жертву — чтобы задобрить богов — дочь Агамемнона Ифигению; этот эпизод позднее стал сюжетом многих трагедий. Высадившись на Троянской равнине, греки долго стояли у неприступных стен Трои, то и дело сходясь с троянцами в рукопашных схватках, где удача попеременно склонялась то на одну, то на другую сторону. Но вот в начале десятого года осады события обрели драматический оборот. Произошла бурная ссора между Агамемноном и Ахиллом: оскорбленный тем, что микенский царь отнял у него пленницу Брисеиду, гордый Ахилл, этот главный герой похода, отказался участвовать в сражениях и укрылся в своем шатре. Узнав об этом, троянцы вышли из города, навязали грекам бой и стали теснить их к гавани, где стояли на якорях греческие корабли. Греки в панике обратились за помощью к Ахиллу, но тот снова отказался выйти в поле, хотя и согласился послать туда своего побратима Патрокла. Но когда главный герой троянцев Гектор (еще один сын; царя Приама) убил Патрокла, обуянный жаждой мести Ахилл бросился наконец в бой и, в свою очередь, убил Гектора. Он устроил торжественное сожжение трупа Патрокла и намеревался уже предать позорному погребению останки Гектора, но прибывший в его шатер престарелый царь Приам воззвал к его состраданию и к чувству воинской чести и в конце концов буквально вымолил у него труп своего сына. «Илиада» начинается со слов: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» — то есть с эпизода ссоры Ахилла с Агамемноном, а кончается сценой сожжения останков Гектора в стенах Трои. Иными словами, ее действие занимает несколько считанных дней. О завершении войны (как и о ее начале), а также о дальнейших судьбах ее героев мы знаем все из тех же внегомеровских источников (в переложении главным образом Аполлодора и Аполлония), которые рассказывают о гибели Ахилла, сраженного стрелой Париса, о гибели самого Париса, о взятии Трои с помощью Одиссеева «Троянского коня» и расправе с уцелевшими сыновьями и дочерьми Приама (Кассандра становится наложницей Агамемнона, Андромаха — Неоптолема, Поликсену приносят в жертву на могиле Ахилла). Из тех же источников (а не только из «Одиссеи») становится известно, что во время возвращения героев из-под Трои многие из них погибли в буре, насланной богами в отместку за насилие, совершенное Аяксом Локридским над Кассандрой, — Менелай и Одиссей были унесены ветрами в дальние страны, где многие годы странствовали в поисках пути на родину; Агамемнон по возвращении в Микены погиб от рук собственной жены и ее любовника. Так что в целом Троянскому походу суждено было стать, как оказалось, последним великим совместным деянием древних греков и как бы ознаменовать собой завершение их древнейшей «героической эпохи»{8}. Наш пересказ может породить впечатление, что «Илиада» — это, в сущности, не столько рассказ о Троянской войне как таковой, сколько рассказ об одном ее небольшом эпизоде — о «гневе Ахилла», о том, как обиженный Ахилл сначала укрылся в своем шатре, не желая сражаться под началом Агамемнона, а потом силою обстоятельств был как бы «вытолкнут» снова на сцену боя, в центр событий. Это так и не так. С одной стороны, в центре «Илиады» действительно находится некий интересный, яркий и по-своему увлекательный эпизод, который в прошлом, до Гомера, вполне мог бы стать (а может быть, и был) сюжетом отдельной небольшой эпической песни. С другой стороны, по мере знакомства с тем, как излагает Гомер этот эпизод, становится все более ясно, что у него он служит скорее рамкой повествования, неким организующим стержнем, позволяющим исподволь и как бы вполне естественно вплести в рассказ события многих предшествующих лет войны, другие ее яркие эпизоды, впечатляющие характеристики ее главных героев и их взаимоотношений, а попутно и многое, многое другое — о людях, о. городах, о странах, о плаваниях, о богах, о пирах, о битвах и так далее, и так далее, иными словами — сделать из незамысловатого эпизода то художественное целое, что, собственно, и составляет литературу. «Гнев Ахилла», таким образом, оказывается мощным художественным средством, дающим автору возможность воссоздать гигантскую эпопею микенско-троянских времен. Типичная литература, этакая «Война и мир» трехтысячелетней давности или, если переиначить Белинского, «энциклопедия всей героической эпохи». И тут, после долгого отступления, мы возвращаемся наконец к обещанному разъяснению, почему современные специалисты считают достаточно вероятным, что в древности и вправду существовал некий конкретный человек по имени Гомер, который был автором этой гениальной эпопеи. Специалисты-филологи говорят, что эта эпопея никак не могла быть продуктом некоего «коллективного устного творчества» — уже хотя бы потому, что ее продуманная «выстроенность», ее сюжетная и композиционная «организованность», ее «литературность», наконец, — все это неоспоримо свидетельствует об индивидуальном замысле. Почерк индивидуального гения безошибочно виден в том, с какой поразительной композиционной стройностью, как необыкновенно гармонично организован в «Илиаде» весь ее огромный материал, с какой продуманностью он расположен относительно объединяющей его сквозной сюжетной оси, как изобретательно поддерживается при этом его драматичная напряженность с помощью искусно вплетенных в сюжет многочисленных «отступлений в прошлое», играющих роль своего рода «сюжетных задержек», которые последовательно нагнетают у слушателей нетерпеливое ожидание триумфальной развязки (этот древний прием отлично знаком всем зрителям современных кинотриллеров и читателям современных детективов). В конце концов, ожидания, как мы уже знаем, разрешаются благополучно: Ахилл появляется из своего шатра, и «Илиада», как и положено триллеру, завершается своего рода мстительным хэппи-эндом — поражением троянцев и смертью Гектора. Патриотические слушатели Гомера, несомненно, жаждали этого возмездия. Может быть, они даже рукоплескали ему. Тем более что рассказ о последующей гибели самого Ахилла был расчетливо, иначе не скажешь, вынесен автором за скобки всей этой симфонической «романной» структуры. Однако, строго говоря, поэма не кончается на мстительной ноте. Подлинный конец «Илиады» — это плач Приама над убитым Гектором, плач, который смягчает даже сурового Ахилла, плач, в котором горькая и трагическая изнанка войны совсем по-иному высвечивает ее героическую красоту, незадолго до того воспетую тем же Гомером. Так что, в конечном счете, «Илиада» все-таки не завершается стандартным хэппи-эндом и не оборачивается банальным триллером. Пафос гомеровской поэмы куда шире и грандиозней, говорят специалисты. Созданная спустя столетия после конца «героической эпохи», она не просто отображала ее трагический закат: противопоставив его описанной перед тем с той же художественной силой картине величественного расцвета ахейской державы, объединенной под руководством могущественных Микен, она одновременно должна была заронить в душу слушателей тоску по этому былому величию, а заодно и по былому и утраченному единству. Может быть, высокий авторитет Гомера у потомков как раз и был вызван тем, что его рассказ позволял им предчувствовать и предвидеть новое единство вслед за «темными веками», отделявшими героическую эпоху от уже начинавшегося «ренессанса»? Таковы, говоря вкратце, основные выводы современной науки касательно личности Гомера. Однако, ограничившись этими выводами, мы, пожалуй, не приблизимся к ответу на вопрос, в какой степени можно доверять свидетельствам Гомера. Напротив, кое у кого сомнения в достоверности гомеровского рассказа, возможно, даже усилятся. В самом деле, скажет иной скептик, если даже современные специалисты подтверждают, что этот рассказ был сочинен, т. е. представляет собой художественный вымысел некоего автора, и вдобавок был подчинен не только художественным, но отчасти даже идеологически-патриотическим задачам, то можно ли ожидать, что такой рассказ будет исторически правдивым? А может быть, это всего лишь приятная для греческого слуха легенда? Знаем же мы, к примеру, такой, тоже авторский, поэтический роман — знаменитую «Песнь о Роланде», в которой гибель обыкновенного франкского рыцаря, павшего в засаде, которую устроили ограбленные им баски, преображена в героический национальный эпос о «великой битве» христиан… с маврами. Сомнения эти вполне естественны. Чтобы развеять их, нужно выяснить, как отвечает современная филология на вопрос о соотношении преображающего вымысла Гомера с реальной правдой греческой истории. Обратимся к филологии. >ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМА ГОМЕРА Вопрос о соотношении гомеровских поэм с исторической реальностью находится в центре так называемой «проблемы Гомера», споры вокруг которой продолжаются в филологической науке уже добрых полтораста лет. Мы уже говорили в предыдущей главе, что, по одной из версий, первый полный письменный текст этих поэм появился только во времена афинского тирана Писистрата (560–529 гг. до н. э.). Эта «Писистратова версия», выдвинутая итальянским философом XVIII века Джамбатиста Вико, была у него связана с весьма решительным утверждением, будто никакого Гомера на самом деле не было, а прозвище это (одни толкуют его как «слепой», другие — как «заложник») в действительности означало весь коллектив «аэдов», сказителей древних преданий, устно передававших разрозненные части будущей «Илиады» вплоть до писистратовых времен, когда она только и обрела благодаря записи вид единой поэмы. Хотя против этой гипотезы выступали уже многие современники Вико (Гете, например, Даже написал целый трактат, доказывая принадлежность «Илиады» одному автору), она возымела большое влияние, и первые серьезные филологические исследования, посвященные «проблеме Гомера», ставили своей главной целью разъять гомеровский текст на более мелкие куски, якобы принадлежащие различным более ранним устным сказаниям. Такой подход, рассказывают Л. Гиндин и В. Цымбурский в упоминавшемся мною (во вступлении) филолого-лингвистическом исследовании «Гомер и история Восточного Средиземноморья», основывался на господствовавшем поначалу в филологии XX века априорном представлении об устном народном эпосе как о совокупности «окаменевших» текстов, которые после своего создания передавались неизменными от певца к певцу и могли лишь «состыковываться» в готовом виде в более крупные поэмы. Считалось также, что сюжеты этих малых «первичных» текстов должны были быть крайне простыми, а поскольку Гомер начинает «Илиаду» с обещания рассказать о «гневе Ахилла» и затем то и дело нарушает это обещание многочисленными сюжетными отступлениями — в сущности, перебивает сюжет другими короткими рассказами, — такое построение казалось как раз подтверждением того, что «Илиада» является механической смесью «простых» первичных текстов. Был, дескать, в глубокой древности простенький рассказ об Ахилле и Агамемноне, построенный на традиционной формуле «обида — примирение», характерной для многих эпических сюжетов, и к этому рассказу постепенно присоединялись другие, побочные. Эта теория продержалась до 20-30-х годов нашего века. Затем, однако, в результате углубленного изучения эпических традиций, сохранившихся у некоторых балканских и азиатских народов, было выявлено, что от певца к певцу передаются не столько готовые тексты, сколько, скорее, «формульные конструкции» — набор традиционных сюжетов, канонизированных образов и ситуаций, словесно-ритмических формул и тому подобных «готовых наборов», с помощью которых каждый сказитель создает всякий раз заново рассказываемую им историю. Когда эта закономерность была проверена на материале поэм Гомера, оказалось, что и он самым широчайшим образом пользовался таким приемом. Один из исследователей подсчитал, что в некоторых частях его поэм — например, в зачинах и окончаниях речей героев или в характеристиках действующих лиц, — «формулы», от простейших до самых сложных, занимают около 90 процентов текста! Так, уже в первой песне «Илиады» предводитель. Троянского похода, микенский царь Агамемнон, именуется то «пространно-властительным», то «могучим», то «гордым могуществом», то «повелителем мужей»; а пройдя по всем 24 песням поэмы, можно обнаружить, что буквально для каждого из важнейших ее героев заготовлен набор из десятка и более таких характеристик, чередующихся в самом разнообразном порядке. Как ни странно, именно эта «формульность» гомеровской поэтики позволила М. Пэрри и А. Лорду выдвинуть утверждение, что Гомер был «индивидуальным автором внутри коллективной традиции». Это утверждение может показаться противоречивым, однако в действительности оно вполне логично. В самом деле, в том смысле, что некое эпическое сказание, каждый раз импровизируется данным певцом заново, оно действительно является его индивидуальным творчеством; но в том плане, что певец всякий раз использует общий набор элементов, присущий данной культуре и знакомый ее носителям, его произведение, несомненно, принадлежит к коллективному творчеству. Иными словами, Гомер, по мнению Лорда и Пэрри, был гениальным реализатором коллективного эпического канона. Такой точке зрения противостоял В. Шадевальдт, который в конце 30-х годов предложил изучать каждый эпизод. «Илиады» с точки зрения его функций в составе поэмы как целого и показал, используя этот подход, что гомеровская «Илиада» отличается от обычного эпоса наличием строго организованного единства. Ни один из ее эпизодов нельзя изъять, не нарушив общей связности поэмы. Композиция «Илиады» оказалась продуманной и структурно, и эстетически, а это возможно только в том случае, если текст всецело является авторским, то есть ближе к тексту, скажем, Вергилия, чем к песням неграмотных устных сказителей; это не просто реализация эпического канона, а творческое переосмысление его. Однако ведь и авторский текст может быть совершенно различным: грубо говоря, одни авторы создают близкие к подлинной истории романы-хроники, другие расшивают по исторической канве самые фантастические узоры. Что же создавал в этом смысле Гомер? Для суждения о соответствии гомеровских поэм исторической реальности войны ответ на этот вопрос имеет решающее значение. Здесь тоже имели место (и частично до сих пор продолжаются) ожесточенные споры: одни ученые — вроде Д. Пэйджа («История и «Илиада» Гомера», 1959) или Майкла Вуда («В поисках Троянской войны», 1986) — увлеченно утверждали, что «Илиаду» следует считать весьма или даже вполне надежным историческим источником, находя доказательства этого в данных современной археологии и лингвистики; другие, как влиятельный Майкл Финли («Троянская война», 1964), выражали изрядный скепсис в отношении историзма Гомера, находя в его творчестве многие черты сказки и мифа (достаточно вспомнить, что боги играют в «Илиаде» почти такую же роль, что земные герои, да и многие из этих героев описываются как дети богов). Но большинство филологов-гомероведов занимает в этом вопросе срединную позицию, которая совмещает оба указанных взгляда. С одной стороны, говорят эти филологи, эпос, в том числе и гомеровский, бесспорно содержит много мифических и сказочных элементов, поскольку он вырастает, ведет свое начало из мифа и сказки. Тем не менее эпос все-таки отличен от мифа. Как объяснял, например, замечательный российский исследователь мифопоэтики Е. Мелетинский, миф рассказывает о временах «создания» мира и всех его существующих форм, тогда как эпос занимается прежде всего «ключевыми», «героическими» периодами народной истории — вспомним былины о Владимире Красное Солнышко, героизирующие историю Киевской Руси, или, скажем, «Песню о Нибелунгах», отражающую становление раннегерманского общества в том же духе героических сказаний. Во всех этих классических памятниках мировой литературы прошлое народа воплощается по одному и тому же «эпическому канону» — в героических образах и великих деяниях. Все подобные произведения, как правило, монументальны по размаху, и все они, как показывают исследования, представляют собой заключительную стадию развития эпоса — стадию перехода к индивидуальному творчеству. Таким же было, как мы уже знаем, и творчество Гомера. Что же можно сказать об историзме такого эпоса? Этот историзм представляется несомненным (ведь и древний Киев с князем Владимиром, и раннегерманское племенное общество, и другие коллективные герои национальных эпосов различных народов существовали вполне реально), но он весьма специфичен. Эту специфичность блестяще вскрывает характеристика, предложенная крупнейшим специалистом по древним религиям Мирчей Элиаде: «Память об исторических событиях и о подлинных персонажах меняется по истечении двух-трех столетий таким образом, чтобы их можно было подвести под шаблон архаического способа мышления, неспособного к восприятию индивидуального и удерживающего в памяти лишь образцовое, то. есть сводящего события к категориям, а личности — к архетипам». Иными словами, в эпической поэзии появление, былинных, сказочных, мифологических черт попросту неизбежно, но это нисколько не противоречит ее сущностной историчности, поскольку, с другой стороны, в ней непременно должны содержаться и некоторые подлинные, фактические приметы былой истории, которые устный эпос не мог не увлечь с собой в своем развитии, как те зерна, вокруг которых только и могли кристаллизоваться его «архетипы». Эти «зерна» невозможно извлечь средствами одного лишь филологического анализа тут требуется помощь археологии и лингвистики. Мы еще обратимся к показаниям этих наук по вопросу о Троянской войне, здесь же ограничимся лишь несколькими частными примерами, подтверждающими наличие несомненных отголосков исторической реальности в эпических поэмах Гомера. Так, средства современного лингвистического анализа, основывающегося на том, что известно сегодня о диалектах Древней Греции, позволили обнаружить в гомеровском тексте прямые заимствования из языка, на котором говорили за полтысячи лет до Гомера, в древних Микенах. Немецкий исследователь Рейх заметил, что часто встречающаяся в «Илиаде» поэтическая «формула», которую можно перевести как «сила Гераклова», не укладывается в размер гекзаметра, которым написана поэма, но если написать имя Геракла так, как оно, судя по лингвистическим данным, произносилось в Древних Микенах, это противоречие немедленно исчезает. Можно думать поэтому, что данная «формула» сложилась еще в микенскую эпоху и дошла до Гомера неизменной, несмотря на изменившееся произношение. Другое яркое свидетельство в пользу исторической достоверности «Илиады» приводит И. Вуд в своей книге «В поисках троянской войны». Речь идет о так называемом «списке кораблей» во 2-й песне «Илиады». Этот список представляет собой в действительности перечень 164 греческих городов, которые послали свои корабли с воинами для участия в общем походе на Трою. Его отличие от общего стиля «Илиады», неуместность в той части текста, где он находится, и определенные расхождения с остальным текстом поэмы настолько бросаются в глаза специалистам-языковедам, что некоторые исследователи уже давно заподозрили здесь инородную вставку, а Д. Пэйдж даже выдвинул увлекательную гипотезу, что это — подлинный документ времен Микен, своего рода воинская диспозиция, отражающая расположение участников похода во время сражения. Действительно, такие длинные, однообразные списки имен, названий, предметов и т. п. были весьма характерны для древности, для периода возникновения первых, еще пиктографических (т. е. рисуночных) письменностей (полагают, что эти письменности и возникли-то из-за необходимости составлять такие списки). Но в «списке кораблей» есть и другая любопытная деталь, глубокая историчность которой выявилась лишь в наше время благодаря новейшим данным археологии. Здесь упоминаются некоторые подвластные Микенам города, многие из которых во времена Гомера уже не существовали, превратившись в руины, — например, «ветреный Эниспе» или «песчаный Пилос». Как мог Гомер знать о самом существовании этих городов, не говоря уже об этих их особенностях? А между тем раскопки Шлимана и других археологов подтвердили все эти детали. Об историзме Гомера столь же убедительно свидетельствуют и его характеристики Трои. Если бы эпос не содержал крупиц исторической реальности, Гомер никак не мог бы узнать о слабости троянских стен в одном определенном их месте — ведь эти стены давно были погребены под вековыми отложениями. Между тем раскопки Дорпфельда показали наличие такой «слабины» именно в том месте, о котором говорит «Илиада»! Правдивыми оказались и гомеровские описания военного снаряжения, упоминаемые в описании сражений под стенами Трои. Некоторые нестандартные детали этих описаний, вызывавшие недоверие историков, — например, шлем Гектора, украшенный полоской «медвежьих зубов», или «подобный башне» щит большого Аякса, — были впоследствии найдены на изображениях микенского времени, обнаруженных в ходе раскопок Шлимана, Эванса и др. Наличие и обилие всех этих реальных свидетельств далекого прошлого вынудило даже такого убежденного скептика, как М. Финли, признать, что «Илиада» во многом верно воссоздает картину жизни Древней Греции времен расцвета Микен и Трои. Подытоживая, можно сказать, что историко-филологический анализ гомеровских поэм, проведенный учеными XX века, несомненно, приблизил науку к решению загадки Троянской войны. Он показал, что «Илиада» правдиво отражает определенные исторические реалии далекого прошлого, а потому и описываемую в «Илиаде» Троянскую войну тоже может считать более или менее правдивым отражением исторической реальности. Требовать более решительного утверждения попросту нельзя. Филологический анализ не может доказать, что такая война действительно имела место. Как мы уже видели, славные войны и героические походы — одна из обязательных примет любого эпоса («категория архаического сознания», по определению Мирча Элиаде): такое сознание всегда мыслит прошлое в категориях славных войн и великих походов, независимо от того, происходили они в действительности и были ли они славными и великими. Поэтому реальность отдельных деталей — условие, хотя и необходимое, но еще недостаточное для убедительного вывода о том, что они некогда воевали друг с другом. Филологический анализ подводит к выводу о правдоподобии такой войны, но не дает и не может дать однозначных доказательств ее исторической реальности. Такие доказательства могут скрываться только в развалинах древних городов или в текстах древних рукописей. Обратимся поэтому к этим свидетелям истории — к памятникам и документам. >ГЛАВА 4 ТРОЯ И МИКЕНЫ Историко-филологический «суд над Гомером» не помог нам вынести однозначный вердикт касательно исторической подлинности или вымышленности описанной им в «Илиаде» Троянской войны. Реальность этого события может быть подтверждена или опровергнута только археологическими и лингвистическими изысканиями. Но любой археолог, который и впрямь вознамерился бы проверить правдивость гомеровского рассказа, тотчас оказался бы перед трудностью, которую выразительно охарактеризовал английский историк и писатель Майкл Вуд в своей книге «Поиски Троянской войны»: «В определенном смысле проблема историчности Троянской войны не очень изменилась со времен Фукидида, — пишет Вуд. — Гомер и мифы рассказывают нам некую историю; называемые ими места все еще существуют: некоторые из них демонстрируют явные признаки былой могущественности; другие столь же явно свидетельствуют о своей полной незначительности. Если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, как считал Фукидид, то как это доказать? Если вдуматься, Гомер рассказывает историю, в которую на первый взгляд, зная школьную историю Греции, действительно трудно поверить. Он утверждает, будто в XIV–XIII веках до н. э., т. е. чуть ли не за тысячу лет до той «классической эпохи», которую мы, собственно, и привыкли считать «Древней Грецией», здесь уже существовала могущественная цивилизация, охватывавшая почти всю территорию этой страны, включавшая в себя разбросанные по ней многочисленные города-царства во главе с Микенами и способная одновременно выставить в поход сотни боевых кораблей и тысячи воинов, как описывается в «Илиаде». В это трудно поверить еще и потому, что упоминаемые Гомером центры этой цивилизации: те же «богатые золотом» Микены, «крепкостенный Тиринф», «пыльный Πилос», «обильный стадами Орхоменос» и другие — уже в Гомеровы времена представляли собой крохотные, нищие городки, а то и просто груды развалин, да и вся греческая земля была не более чем полупустынным, нищим, безрадостным и необжитым пространством, где лишь предстояло спустя столетия подняться городам и крепостям, дворцам и храмам классической эпохи. Разумеется, Месопотамия или, скажем, Палестина тоже выглядели, еще и в XIX веке, пустынными, нищими и безрадостными, хотя, как мы знаем, за тысячи лет до того здесь действительно сменяли одна другую великие культуры. Но о тех культурах хотя бы свидетельствовали письменные памятники далекого славного прошлого, а единственным «доказательством» существования гомеровской «героической эпохи» был только рассказ самого Гомера да мифы и легенды весьма сказочного, скажем мягко, характера». Отыскать письменные памятники гомеровской «микенской цивилизации», изображенной в «Илиаде», нечего было и думать — еще и в начале XX века считалось, что письменность в Греции появилась не раньше, а то и позже Гомера, в VIII веке до н. э., то есть спустя добрых четыре-пять столетий после пресловутой Троянской войны. Стало быть, археолог, ищущий следы этой войны, мог уповать лишь на раскопки в тех местах, которые Гомер упоминал в связи с походом на Трою, — прежде всего, понятно, на раскопки самой «Приамовой» Трои и «Агамемноновых» Микен, но также, если повезет, — Орхоменоса, Тиринфа, Пилоса и многих других, что перечислены в пространном «списке кораблей» во второй главе «Илиады». Поскольку почти все эти города, как уже сказано, в виде развалин сохранились до нашего времени, обнаружить их местоположение не составляло особого труда. Вот как выглядел по состоянию на вторую половину XIX века примерный инвентарный список этого «гомеровского наследия». Открывала список, разумеется, Троя. Со времен Гомера ее приблизительное местоположение было известно всегда. Практически не было такой эпохи, когда бы современники не могли уверенно указать, где находится этот знаменитый город (что, кстати, в немалой степени подкрепляло их веру в правдивость гомеровского рассказа). С гомеровских времен и вплоть до эпохи Александра Македонского, то есть на протяжении пяти с лишним столетий, в Малой Азии, вблизи пролива Дарданеллы, существовал город, именовавшийся «Эллинской Троей», или «Новым Илионом», с величественным храмом Афины и протяженными стенами, которые, по преданию, включали в себя и останки стен Древней Трои. Чуть позже, примерно в 300 году до н. э., полководец Александра Лизимах построил южнее этой крепости новый город, назвав его Александрией Троянской; этот город (во всяком случае, его развалины) просуществовал до римских времен. Через шесть столетий после Лизимаха римский император Константин (тот, что сделал христианство официальной религией империи) построил на месте бывшей «Эллинской Трои» еще один город, который впоследствии получил название «Византийской Трои». Эта очередная Троя, в свою очередь, просуществовала несколько столетий. Ее развалины видны были даже тысячу с лишним лет спустя, во времена султана Бехмета (взявшего Константинополь). За эти тысячелетия (а от Гомера до Бехмета прошло как-никак две тысячи триста лет) Троя благодаря гомеровским поэмам превратилась в место настоящего паломничества — не было, кажется, такой исторически важной персоны, от Александра Македонского в 334 году до н. э. и до лорда Байрона в 1810 году н. э., кто не почел бы своим долгом лично приобщиться к древней славе этого места и произнести какие-нибудь подобающие ситуации слова. Александр Македонский, как утверждали его верноподданные биографы, нашел здесь (под алтарем храма Афины) меч «самого Ахилла», с которым отправился затем на завоевание Азии; Юлий Цезарь поклялся восстановить Трою и сделать ее столицей Римской империи; Константин Великий повторил эту клятву (что не помешало ему впоследствии перенести свою столицу на берега Босфора, в стратегически более важный Константинополь); и еще спустя тысячу с лишним лет упомянутый выше турецкий султан Бехмет, поставив ногу на указанную ему переводчиками «могилу Аякса», провозгласил, что, взяв Константинополь, он-де всего лишь отомстил грекам за разрушение Трои! Словом, Троя — как город, как населенное место — была несомненной исторической реальностью — уже с времен «классической» Греции и вплоть до недавней современности. Печальный факт, однако, состоял в том, что уже к началу XVII века развалины последней по счету Трои тоже были полностью погребены землей. Как писал тогдашний английский автор, «даже руины были уничтожены». Одной из причин тому было беспощадное время, другой — усердно помогавшие ему небольшие, но частые землетрясения, по сей день весьма характерные для этих малоазийских мест. В результате ТОЧНОЕ знание местонахождения «Приамовой Трои» было утрачено. Ее европейским искателям (а любителей искать ее всегда хватало) приходилось руководствоваться разве что указаниями «Илиады» и некоторых греческих мифров. Мифы эти, при всей их сказочности, содержали важные детали. Так, в одном из них (записанном в V веке до н. э. Аполлодором Афинским) рассказывалась «предыстория» гомеровской Трои. Жил будто бы некогда некий Илус, который заложил на западном берегу Малой Азии город Илион, он же Троя, окруженный мощными стенами и нависавший над самым проливом Дарданеллы, ведущим в Черное море и в Колхиду (от Дарданелл, надо думать, и название жителей Трои, которых Гомер зачастую именует «дарданцами»; впрочем, вполне возможно, что и наоборот: от жителей пошло современное название пролива). Илус якобы оставил свое Троянское царство сыну Лаомедонту, а тот, видимо, чем-то раздосадовал греков-ахейцев, потому что миф рассказывает далее, что великий Геракл, прервав, по разным «объективным причинам», свое участие в походе аргонавтов, решил навести порядок на берегах Дарданелл и предпринял поход против Трои. Поход оказался удачным для греческого героя и сокрушительным для Трои: Геракл сжег город, разрушил его стены, убил в рукопашной схватке царя Лаомедонта и посадил вместо него молодого Приама — того самого, которого в рассказе Гомера мы встречаем уже почтенным старцем с пятьюдесятью сыновьями, и двенадцатью дочерьми во дворце. Судя по этой детали, поход Геракла состоялся примерно за 2–3 поколения до Троянской войны (это значит: в XIV или, может быть, даже в XV веке до н. э.). Если довериться этому сказанию, из него можно извлечь весьма любопытные выводы. Самым важным в местоположении Трои было то, что она прикрывала — проход в Дарданеллы. Троянцы, таким образом, владели ключами к Черному морю. Это обстоятельство было крайне существенным. Поскольку греки издавна вели торговлю с народами на черноморских берегах (не случайно аргонавты искали золотое руно именно в Колхиде), свобода судоходства через Дарданеллы была для них, надо думать, весьма небезразлична; троянцы же эту свободу, видимо, пытались ограничить — в свою, разумеется, пользу. Это позволяет думать, что сказание о походе Геракла на Трою является одним из отголосков этой давней и длительной «борьбы за проливы» между греками и троянцами. Комментируя это сказание, Р. Грейвз («Греческие мифы», 1955, гл. 137) замечает, что «Лаомедонт, видимо, препятствовал греческим торговым экспедиция в Черное море, и приструнить его можно было, только разрушив город, владевший Дарданеллами». Не был ли, в таком случае, и следующий поход греков на Трою — тот, что описан Гомером, — еще одной такой «карательной экспедицией»? Как бы то ни было, всего сказанного еще недостаточно, чтобы найти, где в точности располагалась древняя Троя. Но, к счастью, есть ведь рассказ Гомера, а рассказ Гомера, надо сказать, в любом своем месте изобилует живыми, точными и зримыми деталями. И там, где Гомер описывает Трою, тоже так и видишь — могучие стены на высоком холме над равниной и две извивающиеся по ней реки (Скамандр и Симиос, ныне турецкие Медерес и Думрек Су), по которым корабли греков поднимаются почти к самым стенам;.так и слышишь вой бешеных ветров, бушующих над осажденным городом; так и ощущаешь жар, идущий от одного из бьющих под стенами источников, и ледяной холод, идущий от другого… — но здесь, пожалуй, лучше передать слово самому Гомеру (песнь 22-я, строки 145–153, сцена погони Ахилла за Гектором): «Мимо холма и смоковницы, Как он писал, этот слепой гений, три тысячи лет назад, вы только вслушайтесь: «…хладный, как град, как снег; как в кристалл превращенная влага»! Вернемся, однако, к скучной прозе. А скучная проза жизни состоит в том, что ни одно из этих поэтических указаний Гомера, увы, не помогает, оказывается, обнаружению Древней Трои. Злые колючие ветры никогда не прекращаются на всей равнине бывшего Скамандра (на это непрерывно жаловался потом в своих письмах с раскопок Генрих Шлиман); эта равнина действительно изобилует ключами, но двух таких, где. температура воды разнилась бы так сильно, как указывается в «Илиаде», ни одному искателю «Приамовой Трои», несмотря на все усилия, найти не удалось; а что касается кораблей, поднимавшихся по реке к самой крепости, то за прошедшие тысячелетия воды в этих местах отступили так далеко от прежних берегов, что ни один холм на равнине Скамандра (Мендереса) сегодня не имеет прямого выхода к морю. (Это, между прочим, было еще одной причиной упадка и разрушения последней по счету, «византийской», Трои.) Иными словами, стоя на Троянской равнине и оглядываясь кругом, можно сказать только, что Древняя Троя погребена, по-видимому, где-то в толще какого-то из многочисленных окрестных холмов, да вот беда — неизвестно какого. Иное дело Микены. Здесь в точном местонахождении древнего города не приходилось сомневаться. Даже в наше время стоит выйти из автобуса, приволокшего тебя по извивам дорог из далеких и шумных Афин в тишину курчавых гор Арголиды, как нетерпеливому взгляду тотчас открываются (точно такие, как представлял) — зубцы древних стен, охватывающие заросшую вершину крутого холма, а в тех стенах — знаменитые Львиные ворота, на удивление невысокий проход, охраняемый двумя вставшими на задние лапы безголовыми каменными львами. Знаменитое, древнее, почти «знакомое» место — только разве что неожиданно невзрачное и стесненное, как на нынешний туристский вкус. Только размах соседствующей с развалинами громадной пещеры, именуемой «гробницей Атридов», один лишь и способен, пожалуй, примирить ворчливого туриста с потерей целого дня в утомительной поездке. Почти в таком же жалком виде «Агамемноновы» Микены находились уже в гомеровские времена: древнегреческий историк Фукидид, описывая (в V веке до н. э.) город под таким названием (тогда это еще был город, а не сегодняшние развалины), называл его «небольшим», сообщая, что на битву под Фермопилами тогдашние Микены выставили всего 40 человек! Впрочем, уже через несколько столетий и этот жалкий городок исчез, превратившись в развалины, и уже во II веке н. э. историк Павсаний с удивлением размышлял: неужто эти руины и есть великая столица Агамемнона? Почти две тысячи лет спустя, в 1876 году, Шлиман увидел руины Микен в точности такими, какими их описывал Павсаний. То же самое можно сказать и о других древних «царских столицах», упоминаемых Гомером. В тех же местах, на Пелопонесском полуострове (это, кто не помнит, юго-западная оконечность материковой Греции), вплоть до наших времен поближе к морскому побережью были видные уцелевшие остатки поистине циклопических укреплений гомеровского «крепкостенного Тиринфа». А в срединной Греции, вблизи Афин, можно было увидеть развалины некогда «богатого стадами» Орхоменоса. Несколько хуже обстояли дела с «песчаным Пилосом», еще одним центром воспетой Гомером «микенской цивилизации». Хотя город с таким названием существует и сейчас, на западном берегу Пелопонесса, но недаром у греков издавна была в ходу поговорка: «После Пилоса был еще один Пилос, а рядом еще один»; города с таким названием сменяли в этих местах друг друга неоднократно, так что найти погребенные в земле руины самого древнего из них, гомеровского, тоже было непросто. Шлиман, во всяком случае, ошибся, начал искать Пилос. не там, ничего, естественно, не нашел и в досаде прекратил раскопки. Только перед самой Второй мировой войной Карлу Блегену удалось отыскать «настоящий» древний Пилос. Проведя эту беглую «инвентаризацию руин», мы можем лишь, кажется, воскликнуть вслед за другими скептиками: «Да действительно ли существовала, и притом уже в той баснословной, покрытой мраком забвения древности, то бишь в XIV–XIII веках до н. э., — та могущественная «микенская цивилизация», которую изобразил Гомер в своей «Илиаде»? Да неужто уже в те «варварские», по греческим меркам, времена этот невзрачный ныне городок Микены был столь могуществен и влиятелен, что мог организовать общегреческий — многолюдный, многокорабельный и многолетний — поход против Трои?» Пыльная скудность всех этих развалин способна, скорее, убедить лишь в обратном. Как я уже заметил, мы не окажемся одиноки в своем скептицизме. Этот вопрос задавал себе еще Фукидид, удивленный неприглядностью современных ему Микен, и из его текста видно, как он буквально заставлял себя поверить в правоту Гомера: «Верно, Микены. — небольшой город, и многие города того периода выглядят сегодня не очень внушительно, но мы… не имеем права судить города по их внешнему виду, а не по их реальному могуществу.» Весь вопрос, однако, как раз и заключался в том, существовало ли в описанные Гомером времена это «реальное могущество». И здесь нам остается лишь вернуться к уже процитированным словам Майкла Вуда: «В определенном смысле проблема… не очень изменилась со времен Фукидида — если греческие мифы действительно содержат зерно исторической правды, то как это доказать?» Специалисту, историку, ученому и впрямь очень трудно найти это зерно. Он знает, что когда-то, примерно за две тысячи лет до нашей эры, Греческий полуостров заселили дикие племена, пришедшие откуда-то из глубин Малой Азии или Балкан; что и после этого здешние земли раз за разом становились добычей очередных завоевателей-варваров, последними из которых были вторгшиеся с севера (примерно в 1100 году до н. э., много позже предполагаемых времен Троянской войны) племена дорийцев; что затем в истории Древней Греции наступил многовековой провал, который ее собственные (более поздние) летописцы назвали «Темными веками»; и что из этого своего беспамятства Греция вышла на свет истории лишь в начале VIII века до. н. э. — скудно заселенной, бедной, безграмотной страной, самый великий тогдашний поэт которой, Гесиод, сочинял свою (ныне знаменитую) философско-мифологическую поэму «Теогония», в изнеможении бредя за буйволом, медленно тащившим железный плуг по нищей борозде. Величие того, что мы сейчас называем «Древней Грецией», лежало далеко впереди Гомера и Гесиода, и какой же грамотный историк решился бы (без всяких тому фактических подтверждений, на основании одних лишь поэм Гомера) всерьез утверждать, что еще большее величие Греции лежало далеко позади, за бездной «Темных веков», еще до вторжения дорийцев, в некой «героической эпохе» некой «микенской цивилизации»? Уже тогда разговоры о «великих исчезнувших цивилизациях» (о которых к тому же зачастую и по сей день утверждается, будто они намного превосходили цивилизации современности) вызывали у всякого серьезного ученого определенную интеллектуальную неловкость. Не случайно ведь педантичный немецкий историк XIX века Г. Гроте начал свою «Историю Греции» лишь с Олимпиады 776 года до н. э., с первого греческого события, о котором есть надежные письменные свидетельства: «Все предшествующие времена, — писал он, — это область поэзии и легенд». К счастью для науки, за поиски Трои и Микен взялся любитель-дилетант, который не был серьезным ученым и потому верил в правдивость этих «легенд». Этим смельчаком, как всем сегодня известно, был Генрих Шлиман. >ГЛАВА 5 ШЛИМАН: ОТКРЫТИЕ МИКЕНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Существуют, две биографии Генриха Шлимана. Согласно первой из них, любящий отец (протестантский пастор) подарил семилетнему сыну толстую книгу «Всеобщая история», содержавшую пересказ «Илиады», и тем самым навсегда заронил в маленького Генриха мечту отыскать описанную Гомером Трою. Дальнейшее общеизвестно: разбогатев на деловых операциях, Шлиман решил осуществить свою детскую мечту, сменил сюртук бизнесмена на блузу археолога, отыскал, согласно указаниям Гомера, в которые он свято верил, старинный холм, в толще которого скрывались остатки древней Трои, и — раз-два! — обнаружил там ее развалины. Затем он примерно тем же способом (раз-два!) нашел в развалинах Микен гробницу древнего царя Агамемнона, руководившего, согласно Гомеру, походом греков на Трою, и тут уж его слава стала поистине всемирной, но в это время он как-то неожиданно умер — упал прямо на улице и в одночасье скончался. Лет его жизни, как говорилось в старину, было 68 — с 1822-го по 1890-й. Существует вторая биография Шлимана, не столь — лубочная, как первая. Шлиман, несомненно, заслужил звание «отца археологии», как некогда Геродот — «отца истории», но это не отменяет того факта, что его методы раскопок были ужасны и разрушительны, а датировка — приблизительна и, как правило, ошибочна. Он был неутомим и самоотвержен в археологическом труде, но окружал свои находки шумной и отталкивающей рекламой, достойной скорее бизнесмена, каким он и был, нежели ученого, каким он не был. Он был одарен потрясающей интуицией, но начисто лишен вкуса (чего стоила напыщенная телеграмма, отправленная им в греческие газеты с раскопок в Микенах: «Сегодня я взглянул в лицо Агамемнона»!). Его жизнь была полна удивительных коммерческих подвигов (дерзкие, на грани закона, деловые операции в России, спекулятивная скупка золота у старателей Калифорнии, монополизация порохового рынка во время Крымской войны и другие хищные налеты на легкую добычу), но он еще вдобавок и сам приукрашивал и расцвечивал ее собственным вымыслом (своему отцу, запойному пьянице и мелкому семейному тирану, он писал уже в зрелом возрасте: «Я рассказал журналистам, что это ты впервые познакомил меня с историей Трои и с тех пор я начал мечтать о том, как я ее отыщу…» — словно наставляя престарелого родителя в своей придуманной «на продажу» биографии). Он оставил по себе 11 толстых книг о своих открытиях, 18 путевых дневников, 60 тысяч писем и 175 томов раскопочных тетрадей, но исследователи до сих пор не могут понять, где факт, а где вымысел в этой огромной массе материала. Например, в своей книге «Троя» он рассказал почти детективную историю о том, как во время раскопок Трои его жена, гречанка Софья, приметила в глубине траншеи полускрытое землей золотое ожерелье и как ей пришлось прикрыть его своей длинной юбкой, пока Шлиман не уговорил рабочих разойтись на обед, чтобы скрыть от их завистливых глаз поразительную находку, составлявшую, как оказалось, лишь ничтожную часть богатейшего клада, который впоследствии получил название «сокровища царя Приама». Однако куда более поразительным, чем эта находка, многие тогдашние недруги и нынешние биографы считают тот факт, что в действительности (это доказано вполне надежными документами) Софьи Шлиман в это время не было не только на раскопках, но и вообще в Турции! Был даже пущен слух, что «сокровища Приама» Шлиман купил на стамбульском рынке и сам подбросил в траншею. Доказать или опровергнуть это не удалось: после того как Шлиман тайком от турецкого правительства вывез сокровища в Грецию, основная их часть бесследно исчезла. Сохранились лишь немногие фотографии и среди них самая знаменитая — Софья Шлиман «в диадеме и ожерелье Елены Прекрасной»{9}. Знакомясь с этим списком претензий, начинаешь удивляться — что же все-таки сделал этот человек, которого обвиняют в том, что он чуть ли ничего не сделал? Шлиман сделал великое дело. До него вся так называемая «археология» состояла в том, что сотни любителей искали в старинных развалинах зарытые там сокровища или случайно сохранившиеся старинные, рукописи и предметы искусства; в лучшем случае они составляли описания развалин и собирали то, что лежало на поверхности. Шлиман был первым, кто стал вести планомерные и целенаправленные раскопки, и притом с серьезной научной целью — найти следы древней цивилизации, обнаружить не столько ее клады, сколько ее историю и культуру, проверить рассказы древних об их далеком прошлом. Эти первые широкие поиски материальных свидетельств прошлого и породили всю современную научную археологию как исследовательское орудие историков. Спору нет, они породили также и то, что можно назвать «сенсационной археологией» — ту ее глянцево-приукрашенную, облегченно-газетную версию, что то и дело возбуждает читателей во всем мире открытием какой-нибудь очередной гробницы Тутанхамона. Но в науке главным достижением Шлимана является все-таки не находка «сокровища Приама» или «маски Агамемнона», а обнаружение «Приамовой Трои» и «Агамемновых Микен» — впечатляющее «воскрешение из мертвых» необыкновенно сложного и многоцветного мира, погребенного в глубинах прошлого. Напомню: к началу работ Шлимана наука о человеческой истории находилась в самом зачаточном состоянии; даже термины «палеолит» и «неолит» были придуманы лишь за несколько лет до того, а первая книга о древней истории (Вильсон: «Предысторические анналы») появилась только в 1851 году; но уже тридцать лет спустя Р. Даукинс имел все основания говорить: «Археологи подняли изучение древностей до уровня настоящей науки». И кто же ее поднял на этот уровень за столь короткий срок? Вот именно — Генрих Шлиман в первую очередь. Пусть поначалу дилетантски-грубо, с неизбежными издержками, с ошибками и преувеличениями, но именно он (и поначалу в одиночку) проделал всю или почти всю работу по превращению археологии в науку, — и первый шаг к этому он сделал в 1868 году в Турции, на холме Гиссарлык. Я уже рассказывал, что множество холмов на Троянской равнине оспаривало честь быть хранилищем остатков Древней Трои, подобно тому, как множество городов Древней Греции оспаривали в свое время честь считаться родиной Гомера. Главными фаворитами были Гиссарлык, находившийся на самом краю плато, обрывавшегося к равнине Мендереса-Скамандра, и лежавший несколько дальше в глубине плато Бурунбаши. Шлиман мог бы ошибиться в своем выборе места раскопок (как он впоследствии ошибся при поисках Пилоса), но, на его счастье, сопровождать уважаемого гостя в экскурсии по Трое вызвался большой знаток тамошних мест и по совместительству американский консул в этой провинции Оттоманской империи Франк Кальверт. Этот незаурядный, судя по воспоминаниям, человек тоже интересовался древностями и даже предпринял некогда пробные раскопки на Гиссарлыке. Заложенная им траншея была неглубока и коротка, но и этого хватило, чтобы убедиться, что холм содержит несколько «культурных слоев» (следов существовавших здесь когда-то одно за другим и одно над другим поселений). Под влиянием Кальверта Шлиман решил искать Трою именно на Гиссарлыке{10}. Свои раскопки он начал в 1871 году. К концу третьего года работ Шлиман вскрыл пять последовательных культурных слоев, один под другим, и убедился, что каждый из них представлял собой останки сменявших здесь друг друга древних городов. К сожалению, будучи дилетантом в предпринятом им новом деле, Шлиман приказывал рабочим вести траншею напрямик, сквозь все препятствия, и в результате разрушил попутно многие более поздние останки. Позднее он оправдывался: «Поскольку моей целью было раскопать Трою, которую я ожидал найти в одном из самых нижних слоев, я был вынужден разрушить руины в слоях более высоких». (Как теперь известно, он попутно разрушил руины и той Трои, которую искал.) Тем не менее во втором снизу слое на глубине 15 метров (по нынешней нумерации, это Троя-2) он обнаружил более или менее «гомеровский» элемент: развалины большой крепостной башни. В марте 1873 года в этом же слое были найдены остатки мощеной улицы, покрытые толстым слоем разноцветного пепла (пепел — это пожар, а пожар — это война!), а также развалины двух больших ворот, заваленных обломками. И, наконец, несколько позже, под самый конец сезона, здесь же были раскопаны и знаменитые «сокровища Приама» — золотая «диадема Елены Прекрасной», как тотчас назвал ее Шлиман, собранная из 16 тысяч золотых звеньев, и множество других золотых украшений{11}. Все это убедило его, что он отыскал заветную цель. Да и как иначе: укрепления, сокровища, а главное — пепел! Пепел — это пожар, а пожар — это война, не так ли?! И какая же, если не Троянская? С момента сенсационной публикации всех этих гиссарлыкских открытий за Шлиманом прочно укрепилась слава «человека, который нашел Трою». В каком-то смысле это было справедливо, потому что он действительно нашел «точное местоположение» этого древнего города. Однако ту Трою, которую он искал — гомеровскую, «Приамову» Трою, — найти оказалось значительно труднее. Шлиман поторопился, объявив ею найденную им Трою-2. Это отождествление сразу вызвало у специалистов серьезные сомнения: Троя-2 была слишком мала по размерам (всего 100*80 метров), а грубость и примитивность ее строений никак не соответствовала пышным описаниям Гомера. Шлиман, правда, пытался убедить скептиков (а заодно, наверно, и самого себя), что «Гомер был эпический поэт, а не историк; к тому же он видел Трою через 300 лет после ее разрушения», но и сам не мог не согласиться: «Если Троя действительно была таким небольшим по размерам городком, то несколько сот человек могли взять ее за несколько дней, и тогда всю «Троянскую войну» пришлось бы признать полным вымыслом…» Эти сомнения заставили его вскоре вернуться на Гиссарлык. И еще не раз вернуться. В промежутке, однако, он совершил поистине «кавалерийскую атаку» на Микены, которые Гомер описал как столицу Агамемнона, возглавлявшего Троянский поход. Как и на Гиссарлыке, он руководствовался здесь буквалистским прочтением свидетельств древних авторов — в данном случае историка II века Павсания. В своем описании Микен Павсаний утверждал, что гомеровский Агамемнон был похоронен внутри стен древней крепости. Поскольку сохранившиеся к XIX веку стены Микен охватывали очень малое внутреннее пространство, недостаточное для размещения пышных царских гробниц, все исследователи считали, что Павсаний имел в виду какие-то другие, наружные, более протяженные стены, которые, видимо, разрушились еще в старину (останки таких стен были, действительно, найдены при последующих раскопках, уже после Шлимана). Но Шлиман, читавший своих древних наставников буквально, начал раскопки именно в пределах сохранившихся стен, с внутренней стороны Львиных ворот. Слой обломков, заваливших здесь бывшую крепостную площадь, был в несколько метров толщиной; Шлиман, не задумываясь, приказал своим рабочим вымести этот слой и проложить через расчищенное место горизонтальную траншею. Стоит ли говорить, что он опять нашел то, что искал! Раскопки почти сразу вскрыли поразительное сооружение — ряд вертикально поставленных плоских каменных плит, образующих кольцо диаметром метров в тридцать. Площадка внутри этого круга явно была выровнена еще в древности, и на ней, вкопавшись до самого скального основания, рабочие обнаружили входы в пять вертикальных округлых колодцев-гробниц. Эта площадка впоследствии получила название «первого круга гробниц». Но главное состояло в том, что в этих гробницах были обнаружены сохранившиеся с глубокой древности останки девятнадцати мужчин и женщин и двух детей. Их скелеты были буквально погребены под грудой бесчисленных золотых украшений и предметов; на лицах мужчин были золотые маски, черты которых повторяли черты их лиц; тела были покрыты доспехами из золотых листьев; на женщинах были золотые браслеты и диадемы; вокруг лежали мечи и кинжалы с изумительными изображениями батальных и охотничьих сцен, кубки и чаши с тончайшими рисунками и многое-многое другое{12}. Что должен был подумать человек, наизусть знавший Гомера, увидев эти богатейшие захоронения? Мы точно знаем, что подумал Шлиман, потому что сохранилась телеграмма, посланная им в тот же день греческому королю: «С огромной радостью спешу известить Ваше Величество, что я нашел гробницы, представляющие собой, согласно рассказу Павсания, захоронения. Агамемнона, Кассандры, Евромедона и их спутников, которые были убиты во время пиршества Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом». Традиция, идущая от Гомера, действительно утверждает, что великий микенский царь, руководитель Троянского похода Агамемнон по возвращении домой был предательски убит на пиру вместе со своими приближенными и наложницами, в том числе Кассандрой и ее двумя детьми, а в найденных им гробницах Шлиман действительно обнаружил скелеты нескольких мужчин, а также женщин и двух детей, так что у него были все основания для восторженной телеграммы, но, как и в случае с Троей-2, он опять оказался не прав. Его датировка была ошибочной: как выяснилось позже, найденные им скелеты, по меньшей мере на 300 лет были старше предположительной даты Троянской войны. Доказательство реальности Троянской войны опять ускользнуло, но зато обнаружилось нечто иное, и, быть может, намного более важное. В самом деле, если уже за триста лет до пресловутой Троянской войны цари Микен (а внутри стен наверняка находились гробницы царей) располагали такими богатствами и их хоронили с такой пышностью, то лучшего доказательства могущества и величия Микенского царства трудно и желать. Более того, как показал впоследствии американский археолог профессор Алан Вэйс, руководитель многолетних систематических раскопок в Микенах в 30-е годы XX века, останки, найденные Шлиманом, в действительности принадлежали людям разных эпох и в совокупности покрывали время от XVI до XIII века. А это уже позволяло утверждать, что Микены, как и говорил Гомер, на протяжении ряда столетий действительно были центром богатого и мощного государства, а возможно, и всей тогдашней греческой цивилизации. Но Шлиман нашел и другие, хоть и более мелкие, но крайне важные подтверждения правдивости рассказа Гомера. На некоторых золотых украшениях были изображены те самые загадочные «башнеподобные» щиты, прикрывавшие тело воина с головы до пят, которые у Гомера принадлежали «большому» Аяксу и подобных которым в гомеровские времена уже не было. В другой гробнице была найдена золотая чаша с двумя ручками в виде голубей, очень похожая на описанную Гомером в «Илиаде» чашу героя Нестора, а также шлем с гребнем из медвежьих зубов: дословное описание такого шлема содержится в 10-й главе «Илиады». Даже сдержанные историки были потрясены: казалось, гомеровские герои явились перед их глазами живым воплощением слов Гомера. Однако, как ни сенсационны были эти находки, для развития археологии как науки куда более важными оказались многочисленные образцы древней посуды, найденные Шлиманом в Микенах. До того, в Трое, он находил лишь отдельные черепки каких-то непонятных эпох. Обилие найденной им теперь керамики впервые позволяло специалистам произвести более или менее точную датировку этих эпох путем сопоставления микенских черепков с остатками аналогичной посуды, обнаруженной в других местах Средиземноморья, прежде всего — на раскопках в Египте, хронология культурных слоев которого благодаря обилию и детальности письменных памятников известна весьма точно. Детальная разработка этого метода датировки заняла еще многие годы, но в конце концов ее принципы были установлены достаточно прочно, что позволило со временем заложить основы надежной микено-троянской хронологии. Шлиману не суждено было воспользоваться этим методом. Его уверенность, что он нашел гробницу Агамемнона, оставалась непоколебимой и подвигла его продолжить поиски «микенской цивилизации», на сей раз — в Орхоменосе, том самом, о котором Ахилл у Гомера говорит: «Даже ради богатств Орхоменоса не соглашусь». Подобно останкам Микен, развалины Орхоменоса (с огромной гробницей, некогда описанной все тем же Павсанием) сохранились на виду, и Шлиман быстро произвел там разведывательные раскопки. Золота он, однако, не обнаружил, других сенсационных находок тоже (если не считать очередного обилия черепков), и уже через несколько недель прервал работу; единственным ее результатом было обнаружение удивительного сходства гробницы в Орхоменосе с гробницей в Микенах (позднее была высказана гипотеза, что их строил один и тот же архитектор). Из Орхоменоса, лежавшего к северу от Афин, Шлиман направился к развалинам древнего Тиринфа, расположенного к югу от Микен, почти у самого берега моря («крепкостенный Тиринф» у Гомера, откуда под Трою пришел царь Диомед со своими воинами: «Осмьдесят черных судов под дружинами их принеслося». Циклопические стены этого города тоже сохранились с древних времен и не могли не привлечь внимание Шлимана. Свои раскопки в Тиринфе Шлиман начал в 1884 году, на сей раз вместе с архитектором Дорпфельдом, и участие этого молодого человека, который впоследствии вырос в серьезного, самостоятельного археолога, оказалось весьма существенным: именно Дорпфельд помешал Шлиману проложить траншею, которая наверняка бы уничтожила таившийся под обломками средневековой византийской церкви древний царский дворец. В результате вмешательства Дорпфельда дворец был раскопан неповрежденным, что позволило впервые воочию узреть многие детали замечательной дворцовой и крепостной архитектуры XIV–XIII веков до н. э. Они опять оказались предельно совпадающими с описаниями Гомера, и Шлиман не замедлил оповестить мир о своем очередном сенсационном открытии: «Я извлек на свет великий дворец легендарных царей Тиринфа, — писал он, — и отныне до конца времен никто не сможет опубликовать книгу о древнем искусстве, не упомянув о моем открытии». После Тиринфа Шлиман предпринял еще несколько попыток: следуя путями гомеровских героев, он безуспешно искал местонахождение «Менелаевой Спарты»; затем пробовал копать в упоминаемом Гомером «песчаном Пилосе» царя Нестора, но, как я уже говорил, ошибся в местоположении древнего города и ничего существенного не нашел; и, наконец, несмотря на огромную усталость («Я испытываю огромное желание до конца моих дней устраниться от раскопок…»), решил снова «копнуть» в любимой Трое. Он уже был тут несколько раз в промежутке между раскопками в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе, Пилосе и каждый раз находил что-то новое и неожиданное. Но все эти открытия не приносили ему того удовлетворения, которое он так хорошо имитировал в своих победных реляциях на публику. Его продолжали одолевать сомнения. Возражения скептиков разъедали его уверенность. Он возвращался и снова искал — искал доказательств, которые бы окончательно и однозначно убедили скептиков (и его самого), что найденная им Троя-2 — это действительно «Приамова Троя». И вот теперь он решил возвратиться сюда снова — поискать еще раз. Кто ищет, тот, как известно, всегда найдет. Хотя, конечно, не всегда то, что ищет. >ГЛАВА 6 «ПРИАМОВА» ТРОЯ — ВТОРАЯ, ШЕСТАЯ, СЕДЬМАЯ? В сознании широкой публики слава Шлимана как «первооткрывателя Трои» связана с его сенсационными открытиями 1871–1873 годов — раскопками в Трое-2 и обнаружением там «Приамового сокровища». Но, как мы уже сказали, среди специалистов оставались многие, кто весьма скептически относился к Шлиманову отождествлению Трои-2 с гомеровской Троей. Сомнения, как мы тоже уже говорили, были и у самого Шлимана; вот почему в промежутках между раскопками в Греции — в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и Пилосе — Шлиман неоднократно возвращался на Гиссарлык. Первый раз он вернулся в 1878–1879 годах, — но единственным результатом этих двух раскопочных сезонов было лишь открытие еще одного, самого глубокого культурного слоя. Судя по находкам, этот слой принадлежал к далеким доисторическим временам и к гомеровской Трое отношения не имел. Еще через два года, в 1881-м, Шлиман объехал верхом на лошади самые дальние окрестности Гиссарлыка, словно отыскивая другие возможные места раскопок, но ничего подходящего не нашел и в 1882 году снова вернулся на Гиссарлык, на сей раз вместе со своим новым помощником Дорпфельдом. И вот тут, наконец ему улыбнулась удача. Продолжив раскопки в Трое-2, он обнаружил новые признаки существовавшего здесь в древности укрепленного города — еле заметные следы кольцевых стен, почти стертые временем остатки мощных бастионов, а главное — развалины обширного здания, напоминавшего царский дворец. Вкупе с прежними находками в том же слое это делало Трою-2 куда более соответствующей описаниям Гомера, и Шлиман не замедлил известить своих друзей и недругов: «Моя работа в Трое завершена окончательно. Я доказал, что в глубокой древности на, этой равнине находился большой город, разрушенный страшной катастрофой и в точности отвечающий гомеровскому описанию…» Увы, победоносное извещение и теперь оказалось преждевременным. В 1889 году Шлиман с Дорпфельдом в очередной раз вернулись на Гиссарлык, чтобы расширить раскопки Трои-2, и почти сразу же наткнулись на обескураживающий факт. Заложенная ими новая траншея вскрыла следы еще одного дворцового зала, в помещениях которого оказалось множество остатков посуды микенского («Агамемнонова») типа, но, увы, культурный слой, в котором располагался новонайденный дворцовый зал с его посудой, оказался шестым, считая снизу, то есть намного более поздним, чем Троя-2. Если Шлиман был прав и Троя-2 была, как он утверждал, гомеровской, то кому тогда принадлежали дворец и посуда Трои-6? История не знала на этом месте более поздних городов с такими дворцами, да и посуда не соответствовала более позднему времени. Если же гомеровской была новонайденная Троя-6 (на что могли указывать дворец, а главное, датировка посуды), то, что же тогда нашел Шлиман в Трое-2? Все здание троянской датировки Шлимана вдруг заколебалось, и стало понятно, что без новых раскопок не обойтись. Шлиман назначил эти работы на следующий, 1891 год, но ему уже не суждено было вернуться на Гиссарлык — в том же году он скоропостижно умер после неудачной операции застуженного на раскопках уха: свалился прямо на улице, парализованный и утративший речь, был доставлен в больницу для бедных и через несколько часов, не приходя в сознание, скончался. Польский писатель Генрих Сенкевич, случайно оказавшийся свидетелем отправки его тела домой, в Афины, позднее писал: «Хозяин отеля подошел ко мне и спросил: «Знаете ли, вы, кто этот господин? Нет? Это великий Шлиман!» Бедный «великий Шлиман»! Подумать только — откопать Трою и Микены, заслужить, бессмертную славу у людей и так вот умереть…» Шлиман, несомненно, заслужил эту бессмертную славу как первооткрыватель Трои и, что еще важнее, микенской цивилизации, но «настоящую», гомеровскую Трою он, как вскоре выяснилось, не опознал. Установил это Дорпфельд. В 1893 году, получив от Софьи Шлиман средства на продолжение раскопок, он вернулся на Гиссарлык, заложил огромную кольцевую траншею, вокруг найденных им (в последних раскопках со Шлиманом) остатков дворца в Трое-6 и почти немедленно обнаружил останки стен, намного более грандиозных, чем все, что нашел Шлиман в своей Трое-2. Продолжая раскопки, он нашел еще целый ряд строений, некогда составлявших тот же город, — сначала остатки пяти больших, неплохо сохранившихся домов аристократического типа, затем еще нескольких сильно поврежденных зданий того же характера и, наконец, развалины могучего крепостного бастиона в северо-восточной части стены. Особенно важным было то, что повсюду в этом слое обнаруживались черепки посуды точно того же типа, что нашел Шлиман в Микенах и Орхоменосе. К этому времени уже было доказано, что такой тип посуды производился исключительно в греческих («микенских») городах XV–XIII веков до н. э., и это означало, что на Гиссарлык она могла попасть лишь из Греции; иными словами, Троя-6 имела давние и длительные — по крайней мере, с XV по XIII век — контакты с городами «микенской цивилизации». В этот промежуток времени попадала любая предположительная дата Троянской войны; а если еще добавить, что, судя по некоторым приметам, гибель Трои-6 сопровождалась тяжелыми разрушениями: крепостные стены во многих местах были повреждены, здания и дворец еще хранили следы пожара, то общий вывод напрашивается как бы сам собой: именно этот город, Троя-6, а не Троя-2, и мог быть искомой гомеровской Троей. Теперь настала очередь Дорпфельда публиковать победные реляции. Сообщая о своих находках, он писал: «Долгий спор о реальности Трои и ее местоположении пришел к концу… Шлиман оправдан… Вид крепости был несомненно знаком певцам «Илиады»…» (Шлиман, надо думать, был оправдан в том смысле, что подлинная Троя оказалась именно там, где он ее искал, хотя и не в том слое.) Дорпфельд мог бы добавить: вид крепости был Гомеру не просто знаком, а знаком детально. На одном из участков разрушенной крепостной стены раскопки вскрыли место, весьма напоминавшее то, где, по словам Гомера, «трижды Менетиев сын (Патрокл. — Р.Н.) взбегал на высокую стену»: камни здесь прилегали друг к другу так неплотно, что и турецкие землекопы, далеко не Патроклы, тоже запросто могли по ним подниматься. А в западной части крепостной стены Дорпфельд обнаружил слабо укрепленный участок, что опять же соответствовало рассказу Гомера, согласно которому Одиссей еще во время осады пробрался в осажденный город через слабину в западной части стены! Эти поразительные совпадения едва ли не более, чем всё остальное, побудили большинство исследователей согласиться с выводом Дорпфельда. Так, видный английский гомеровед Уолтер Лиф в своей книге «Гомер и история» писал: «Крепость (найденная Дорпфельдом. — Р.Н.) находится на том самом месте, где ее помещала гомеровская традиция». И продолжал: «Отсюда следует историческая реальность Троянской войны. Можно даже думать, что, по крайней мере, некоторые из героев Гомера тоже были реальными участниками той войны и носили те же имена, что у Гомера». Другим специалистам тоже казалось, что долгие поиски Трои наконец-то благополучно завершились. Но Троя и на этот раз приготовила своим искателям неприятный сюрприз. Примерно через сорок лет после Дорпфельда, в 1932 году, на Гиссарлык прибыл еще один продолжатель дела Шлимана — замечательный американский ученый Карл Блеген. К тому времени он уже был широко известен специалистам во всем мире своими тщательными раскопками в «микенских» городках материковой Греции — Коракоу, Зигурос и Просимна. Эти его работы (вкупе с новыми раскопками англичанина Алана Вэйса в самих Микенах) позволили окончательно завершить создание детальной и точной хронологии культурных слоев и стилей керамики, общих для всей микенской цивилизации. Теперь, возвращаясь вслед за Шлиманом и Дорпфельдом на Гиссарлык, Блеген хотел всего лишь проверить на основе этой хронологии их датировку культурных слоев многовековой Трои. Но неожиданно для него самого это «невинное» намерение повлекло за собой сенсационные результаты. В ходе дотошного (а это он умел!) изучения Трои-6 Блеген установил, что ее стены и дома были повреждены отнюдь не военным штурмом, а естественной катастрофой: в стенах и зданиях обнаруживались сдвинутые с места камни фундамента, а сдвинуть с места фундамент могло только мощное землетрясение. Вывод опять напрашивался сам собой: если Троя-6 погибла не в результате осады и штурма, то, значит, Троя-6 тоже не является гомеровской Троей! Точно так же, как Дорпфельд в свое время опроверг Шлимана, Блеген теперь опроверг Дорпфельда, и с убедительностью этого опровержения вынужден был согласиться и сам Дорпфельд, когда в 1935 году посетил раскопки Блегена. Но Блеген сделал и нечто намного большее. Поняв, что Троя-6 не может быть гомеровской, он стал искать следы гомеровской Трои в более поздних культурных слоях. Он проделал гигантскую работу по детальнейшей датировке всего Гиссарлыкского холма, от основания до макушки, и выявил в нем 11 культурных слоев, которые распадались на пятьдесят (!) подслоев. Два из них — 7а и 7б — располагались непосредственно над Троей-6, друг за другом, и, как оказалось, в одном из них, в подслое 7а, Блегена ожидали поистине сенсационные открытия. Прежде всего, он установил, что город, возникший на развалинах Трои-6 спустя примерно полвека после ее разрушения (Блеген назвал его «Троя-7а!»), был построен внутри тех же стен, что и Троя-6. Это означало, что многие из характеристик Трои-6, открытых Дорпфельдом, — участки стен, поврежденные штурмом, неплотно уложенные камни в том месте, где, по Гомеру, пытался взбежать на стену Патрокл, слабина в западной стене, могучие ворота и бастионы, даже характер посуды — все это относилось и к Трое-7а. Это означало также, что спустя полвека люди вернулись на развалины и отстроили свои жилища, но почему-то не стали восстанавливать разрушенные крепостные укрепления. Почему? Объяснение этого факта потребовало дальнейших раскопок, в ходе которых Блеген сделал еще более поразительные открытия. Изучая характер построек в исследуемом подслое, он установил, что постройки Трои-7а были куда бедней и примитивней, чем в непосредственно предшествовавшей ей Трое-6, раскопанной Дорпфельдом, но зато их было намного больше. Там, где раньше высилось лишь несколько элегантных зданий, группировавшихся вокруг дворца, теперь располагался запутанный лабиринт однокомнатных каменных строений, настоящих лачуг, явно построенных на скорую руку, как попало, вплотную друг к другу, в страшной скученности. Троя-7а мало походила на царственную Трою-6 — она, скорее, напоминала лагерь беженцев. Казалось, будто окрестные жители внезапно хлынули в разрушенный землетрясением город и наскоро стали строить жилища-времянки среди развалин, не имея ни времени, ни средств восстановить прежние здания и дворцы или залатать поврежденные крепостные стены. Более того, внутри многих лачуг, у входа, Блеген обнаружил следы некогда вкопанных в землю громадных, в человеческий рост, глиняных сосудов, в которых древние. обычно хранили съестные припасы. Впечатление было такое, будто жители не просто бежали за стены от какой-то внезапной опасности, но еще и ждали длительной осады — потому и собирали запасы продовольствия. Об «осадном положении» говорило и почти полное отсутствие в развалинах Трои-7а каких-либо следов импортной посуды или тканей — все находки были местного производства, как будто связи города с наружным миром были перерезаны. Свое последнее открытие Блеген сделал уже внутри жилищ Трои-7а. Их стены демонстрировали следы насильственного разрушения, там и сям обнаруживались куски обожженного дерева, под одной повалившейся стеной был найден человеческий скелет, в другом месте — человеческий череп, пробитый стрелой. Эти следы разрушения и гибели могли быть оставлены только войной. Взятые вместе, все эти находки выстраивались в связную картину: известие о приближении врага — торопливое бегство людей со всей округи под защиту крепостных стен — осада — штурм — взятие и разрушение города. По оценке Блегена, Троя-7а была взята штурмом не более чем через 50 лет после землетрясения и не позднее чем в 1240 году, т. е. «именно в тот период, — писал он, — когда микенские царства материковой Греции переживали самый высший расцвет и наверняка были достаточно могущественными, чтобы предпринять совместную военную экспедицию» (К. Блеген, «Троя и троянцы»). То же самое можно сказать й иначе: гомеровская Троя существовала — это была Троя-7а. Ошибка Дорпфельда была вполне извинительной: не имея в руках тех методов, которыми (40 лет спустя) располагал Блеген, он приписал Трое-6 те признаки, которые на самом деле принадлежали лежавшей буквально над ней, почти без перерыва, Трое-7а. Но основной вывод Дорпфельда был, по мнению Блегена, бесспорен. «Не может быть больше сомнения, — писал Блеген в той же своей книге, — что Троянская война, в которой коалиция ахейцев, или микенцев, сражалась с троянцами и их союзниками, была исторической реальностью… И Троя-7а, которая и должна быть признана настоящей Троей, была той самой крепостью, чья осада и штурм так врезались в память трубадуров и бардов, что они передали своим потомкам имена героев, сражавшихся в этой войне». В этом замечательном обобщении итогов всех трех стадий исследования Трои — шлимановской, дорпфельдовской и собственно блегеновской — есть только одна неточность: найденные Блегеном факты в действительности свидетельствовали лишь о разрушении Трои, но не могли служить доказательством, что этому разрушению предшествовала предварительная осада. Что, собственно, подкрепляло мысль об осаде? Только разве что вкопанные у входа в дома кувшины с продуктами? Но ведь и в Помпеях тоже были найдены такие кувшины, а Помпеи никто не осаждал, как известно. Не случайно один археолог (уже после раскопок Блегена) насмешливо заметил, что «разрушение Трои — это исторический факт, но ее осада — всего лишь возможность». Новый свет на вопрос о реальности осады Трои был пролит лишь спустя полвека, когда все герои нашего рассказа давно уже сошли с исторической и просто жизненной сцены. В 1988 году, ровно через 50 лет после завершения раскопок Блегена, на Гиссарлыке начала работать новая археологическая группа под руководством Манфреда Корфмана. В числе прочего она произвела широкую разведку в окрестностях Гиссарлыка и, в частности, к юго-западу от него, вблизи высокого могильного кургана конической формы Бесик-Тепе. Во времена «классической», послегомеровской Греции (с V века до н. э. и позже) этот курган считался «могилой Ахиллеса», и именно на нем в свое время позировали для истории персидский царь Ксеркс и великий Александр Македонский. А в наше время экспедиция Корфмана сделала здесь весьма важное открытие. Во-первых, было обнаружено, что именно здесь в XIII–XII веках до н. э. (то есть во времена предполагаемой Троянской войны) находился морской берег. А во-вторых, всего в нескольких метрах от тогдашней береговой линии было найдено захоронение XIII века до н. э., содержавшее около 50 камер-гробниц с прахом кремированных людей. В гробницах сохранилось множество погребальной посуды и других предметов греческого производства. Среди этих предметов были также камни, игравшие роль личных печатей микенских аристократов. Близость этого «греческого кладбища» к тому кургану, который греческая традиция упорно именовала «могилой Ахиллеса», а также к древнему морскому берегу была слишком красноречивой, чтобы быть случайной. Гомер («Илиада», 14:30) говорил о лагере, который греки во время осады разбили вблизи моря («Их корабли от равнины, где бились, далеко стояли // берегом моря седого…»); он говорил также, что здесь же, вблизи своего лагеря, греки хоронили героев, павших во время осады. Не нашел ли Корфман этот гомеровский лагерь? Тогда это однозначно доказывало бы историческую реальность осады города. Сам Корфман сформулировал свое мнение крайне осторожно: «Я могу лишь высказать интуитивное впечатление, что открытое нами кладбище в гавани Трои, скорее всего, относится к тем временам, когда происходила Троянская война». Любопытные находки были сделаны и в самой Трое. В южной части древней Трои-6 (и 7а, соответственно) экспедиция Корфмана обнаружила остатки шести домов с таким количеством микенской посуды, которое невольно порождало вопрос, не находилась ли здесь когда-то греческая торговая колония (доказано, например, что в Милете, много южнее Трои по берегу моря, такая колония действительно существовала). В таком случае захоронению, найденному Корфманом в Бесик-Типе, можно было бы дать и другое, более прозаическое объяснение — это могло быть, например, кладбище богатых микенских купцов, живших в Трое. Корфман и впрямь нашел признаки того, что Троя-6 была достаточно большим городом, далеко выходившим за стены той крепости, которую раскопали Дорпфельд и Блеген, и потому — особенно учитывая ее географическое расположение на берегах Дарданелл — вполне могла привлечь к себе внимание купцов из разных стран. Но ведь в той же мере и по тем же причинам она могла привлечь к себе и внимание хищных завоевателей! Уж очень многое в Трое-6 и 7а несло на себе следы чисто военных разрушений. На окончательный выбор могли бы существенно повлиять показания каких-нибудь «независимых» свидетелей тогдашних событий. Но были ли у гомеровских Микен и Трои современники и одновременно близкие соседи, которые могли бы оставить такие свидетельства? Как ни странно, были — и даже два: Крито-Минойское царство на западе и Хеттская империя на востоке. К ним мы и обратимся на этом последнем витке нашего исторического расследования. >ГЛАВА 7 КРИТ И МИКЕНЫ У Микен и Трои были два современника-соседа, и одним из них было Крито-Минойское царство. Заслуга его открытия принадлежит замечательному британскому археологу Артуру Эвансу. Подробный рассказ о работах Эванса увел бы нас далеко в сторону; ограничимся поэтому лишь тем, что непосредственно связано с загадкой Троянской войны. Эванс заинтересовался археологией Древней Греции под влиянием находок Шлимана в Микенах, Орхоменосе, Тиринфе и т. д. Ему казалось непонятным, что такая могущественная цивилизация, какой в результате раскопок Шлимана представала цивилизация Микен (ведь она простиралась чуть не на всю основную часть Греции), не оставила по себе никаких письменных памятников вроде тех, которыми засвидетельствовали свое существование Древний Египет или Шумерское и Ассирийское царства в Месопотамии. Эванс был убежден, что такие письменные следы микенского прошлого должны отыскаться, и его уверенность была подкреплена случайной находкой: в 1893 году, во время посещения Афин, некий торговец древностями предложил ему купить старинные камни с выцарапанными на них причудливыми узорами. По причине своей невероятной близорукости Эванс очень хорошо различал микроскопические детали и потому сумел разглядеть в узорах-царапинах явные следы некой системы. Он заподозрил, что это и есть разыскиваемая им микенская письменность. Однако на его вопрос, откуда камни, продавец сказал: «С Крита». Надо сказать, что Шлиман в свое время интересовался Критом и даже побывал в 1886 году в Кноссосе, что под Гераклионом, чтобы решить, не начать ли здесь свои очередные раскопки (ему это не удалось по весьма прозаической причине — турецкое правительство отказалось продать ему землю). Он с поразительной интуицией предвидел, что здесь может таиться нечто важное. «Я не буду поражен, если здешняя почва таит останки цивилизации, древность которой сделает Троянскую войну событием вчерашнего дня…» — писал он одному из корреспондентов. Разумеется, у шлимановой интуиции, как и у всякой иной, были вполне рациональные основания. Еще древние греческие мифы связывали с Критом начало науки, техники и архитектуры. Так, в знаменитом мифе о критском царе Миносе говорилось, что именно в Кноссосе легендарный архитектор, инженер и изобретатель Дедал построил царю дворец, а под ним — Лабиринт, куда был упрятан получеловек-полубык Минотавр, которого похотливая жена Миноса родила от совокупления с быком и который питался исключительно человечиной. Миф о Тезее рассказывал, как афинский герой Тезей пробрался в лабиринт, убил Минотавра и выбрался обратно с помощью нити Ариадны, дочери царя Миноса. Если верить мифу, этот подвиг Тезея избавил Афины от древней обязанности ежегодно отправлять в Кноссос человеческую дань. Если рассматривать эту легенду как отражение реальности в мифологическом сознании, она означает, что Афины, видимо, были подчинены Криту. Поэтому можно думать, что могущественное царство Миноса, владея множеством боевых кораблей, сумело подчинить себе и многие другие города — как на островах Эгейского моря, так и в материковой Греции. И действительно, в ходе своих раскопок в Микенах Шлиман нашел несколько предметов с изображением критского быка, что, собственно, и навело его на мысль, что между Микенами и Критом могла существовать древняя связь — не случайно же его любимый Гомер упомянул критского царя Идоменея в числе властителей, приславших, по призыву Агамемнона, свои корабли и воинов под Трою. Так что визит Шлимана на Крит был целенаправленным — он надеялся отыскать там следы древних крито-микенских связей. Эванс прибыл на Крит с другой целью — найти здесь следы «микенской письменности». Он быстро убедился, что камней с загадочными надписями, вроде купленного им в Афинах, здесь превеликое множество — местные женщины носили их на груди в виде амулетов и называли «молочными камнями». Но у местного археолога-любителя Калокаириноса он увидел еще более любопытный предмет — глиняную табличку, сплошь покрытую несомненными письменами. Калокаиринос нашел ее в ходе своих пробных раскопок в Кноссосе, когда проложенная им траншея вскрыла остатки обширного дворцового комплекса, стены которого были покрыты охровой краской, а полы завалены щебнем и обломками глиняной посуды. Прослышав о дворце, Эванс немедленно купил указанный ему кусок земли в Кноссосе (в отличие от Шлимана, ему это удалось, потому что к тому времени Крит уже освободился от турецкого владычества) и в 1900 году приступил к систематическим раскопкам. Первоначально весь его интерес сосредоточивался на поиске табличек; вскоре, однако, эти поиски отошли на второй план, поскольку первые же траншеи вскрыли богатейшие остатки какой-то могущественной цивилизации, значительно более древней, чем микенская (как и предсказывал за 15 лет до того Шлиман). Вскоре находки пошли сплошь и подряд: дворцовые залы с изумительными фресками на стенах, помещения с громадными сосудами, на которых были изображены сцены каких-то загадочных игр людей с бкками, статуэтки неизвестных дотоле богинь с обнаженной грудью, колонны и статуи, золотые украшения и множество обожженных глиняных табличек с отчетливыми письменами. Архитектура построек, характер живописи, детали росписей на сосудах — всё свидетельствовало о том, что открытая Эвансом культура не имела ничего общего с микенской и отличалась совершенно особым, индивидуальным характером. Постепенно усилиями других археологов, привлеченных Эвансом на Крит, выяснилось, что аналогичные дворцы, живопись, ритуалы существовали и в других районах огромного острова — на юге, в Фестосе, и на западе, в Мелии. Эванс назвал эту дворцовую культуру «крито-минойской» — в честь легендарного царя Миноса; по его убеждению, ее создателем был какой-то древний народ, возможно, пришедший на Крит из глубин Малой Азии. Современный греческий историк проф. С. Алексиу полагает, что это переселение людей из Малой Азии на Крит, на острова Эгейского моря и в материковую Грецию произошло примерно в середине третьего тысячелетия до н. э. Об общности раннего населения всех этих мест могут свидетельствовать общие для эгейских островов и Крита географические названия — Олимпус, Ида, Инатос и т. д. Возможно, географические названия с окончанием «-ос», столь многочисленные и на Крите, и в Греции — Коринфос, Кноссос, Фестос, Орхоменос, — распространились в это же время. В соответствии с нынешней хронологией, середина третьего тысячелетия до н. э. — это так называемый ранний бронзовый век{13}. Поскольку заселение Крита произошло, по теории Эванса — Алексиу, раньше, чем заселение материковой Греции, на Крите раньше возникли и предпосылки развития цивилизации. Контакты с близлежащим Египтом еще более ускорили это развитие. По мнению Эванса, около 2000 года до н. э. (т. е. в конце раннего бронзового века) лроизошло знаменательное событие: были возведены первые дворцовые комплексы в Кноссосе, Фестосе и Малии. Стала складываться «дворцовая культура». В ее основе лежало сельское хозяйство — не случайно все три дворцовых центра находились в самых плодородных районах острова. В 1700 г. до н. э., судя по археологическим данным, Крит постигла крупная естественная катастрофа, возможно — землетрясение. Однако она не прервала наметившегося развития: разрушенные дворцы были немедленно восстановлены, и последующий период стал временем высшего расцвета и могущества крито-минойского государства. Его колонии включали Теру, Родос, Карпатос, Мелос и другие острова Эгейского моря. То была «талассократия», или морская империя («таласса» по-древнегречески — море), опиравшаяся на силу своего обширного флота, равного которому не было во всем Средиземноморье. И вот в этом месте своих рассуждений Эванс подошел к. драматическому пункту: их логика с неизбежностью привела его к противоречию со Шлиманом. Дело в том, что во времена Эванса считалось, что микенская цивилизация, открытая Шлиманом, существовала в XIV–XII веках до н. э. Крито-минойская культура была явно древнее микенской — она достигла расцвета уже в XVII веке до н. э. Судя по раскопкам Эванса, она была также намного выше и изощренней: критские дворцы, архитектура, искусства, ремесла далеко превосходили все, что было найдено в материковой Греции того же времени. И вдобавок, по Эвансу, Крит с помощью своего флота контролировал все Эгейское море. Миф о Тезее утверждал, что критской власти подчинялись даже Афины. Напрашивалась мысль, что эта власть могла распространяться и на Микены с их городами. Иными словами, как бы сама собой складывалась гипотеза, что вся материковая Греция, включая Микены, была крито-минойской провинцией. Тогда некоторые приметы искусства и архитектуры, общие для обеих цивилизаций, можно объяснить тем, что дворцы в Микенах, Тиринфе, Пилосе и других центрах «микенской цивилизации», а также царские гробницы в этих городах принадлежали критским губернаторам и строились архитекторами с Крита, сосуды, утварь, оружие изготовлялись и расписывались критскими мастерами, а игры с быками и фигурки богинь были занесены критскими аристократами. Итогом этой цепи рассуждений неизбежно становился радикальный вывод: никакой особой «микенской цивилизации», на существовании которой настаивал Шлиман, не было вообще. Не удивительно, что от нее не осталось никаких письменных свидетельств. Письменность глиняных табличек — это не греческая, а крито-минойская письменность. А все найденное Шлиманом и его продолжателями в городах материковой Греции — это артефакты поздней крито-минойской культуры. Эта радикальная теория, выдвинутая Эвансом и получившая поддержку большинства историков и археологов начала XX века, столкнулась, однако, с определенными трудностями. Судя по данным критских раскопок, крито-минойская цивилизация, возникшая, по Эвансу, в 2000 году до н. э., просуществовала лишь шесть столетий. В 1420 году до н. э. (эта дата установлена достаточно надежно) какая-то загадочная катастрофа разрушила дворцы в Кноссосе и Фестосе, а с ними и все крито-минойское государство вообще{14}. Тем не менее, те же раскопки показали, что жизнь на Крите не угасла и после этого удара: дворец в Кноссосе был частично восстановлен, таблички продолжали писаться, хозяйство и торговля ожили и стали вновь развиваться. Это несоответствие требовало объяснения, и последователи Эванса его предложили. По их утверждению, города материковой Греции (Микены, Афины и др.), воспользовавшись крахом крито-минойской державы, освободились от власти критских завоевателей и сами, в свою очередь, завоевали и колонизовали Крит. Иными словами, подъем микенской цивилизации в XIV–XII веках до н. э. следовало представлять себе как восстание провинции против ослабевшей метрополии, — закончившееся ее подчинением. Но и при этом, говорили «эвансисты», Микены никогда не поднялись до тех высот, которых достигли в минойские времена. Второе несоответствие выявилось в результате раскопок 1930-х годов — А. Вэйса в Микенах и К. Блегена в Пилосе. И тот, и другой нашли в этих древних центрах микенской цивилизации глиняные таблички с точно такими же письменами, какие Эванс нашел на Крите. И тот, и другой нашли в своих раскопках такие исторические и культурные свидетельства, которые невозможно было уложить в Эвансову схему истории материковой Греции как критской колонии, населенной тем же народом, что и сам Крит. Одновременно с этими данными в печати появились в те же годы многочисленные работы лингвистов, филологов и историков, детально проанализировавших накопившиеся к тому времени данные о греческой «предыстории». Опираясь на всю совокупность этих новых данных, противоречивших теории Эванса, Вэйс и Блеген в совместной статье выдвинули альтернативную теорию. Согласно их историко-культурной схеме, материковая Греция была заселена носителями индо-европейского (древнегреческого) языка уже в конце раннего бронзового века, примерно с 1900 года до н. э., то есть тогда же, когда началось становление крито-минойской культуры на Крите, и эти же племена непрерывно населяли страну вплоть до падения микенской цивилизации около 1100 года до н. э., иными словами, много позже краха крито-минойского царства. Проще говоря, Греция всегда была греческой, ее (микенская) цивилизация и культура были автохтонными (местными и независимо возникшими), а не крито-минойскими, и именно ее (то есть древнегреческая, микенская) письменность была письменностью Эвансовых табличек. Наличие же общих культурных элементов объясняется просто культурными и торговыми связями этих двух цивилизаций. Эта гипотеза вызвала бурные возражения сторонников теории Эванса. Они заявили, что все аргументы Блегена — Вэйса являются косвенными; прямое отношение к спору имеют только найденные ими таблички с письменами, но как раз этой находке можно дать очень простое и естественное объяснение: либо эти таблички были оставлены в Микенах и Пил осе критскими купцами, либо микенские «варвары», завоевавшие Крит после 1420 года до н. э., вывезли к себе критские таблички, а может быть, — и уцелевших писцов-грамотеев. Сами же микенцы не могли создать ничего культурно значительного, тем более — самостоятельной письменности, поскольку их «цивилизация» была попросту последней, предсмертной «судорогой» великой крито-минойской культуры, а на своей последней стадии цивилизации, как и живые организмы, ничего нового создать уже не могут: творческий расцвет сопровождает молодость культур. Возникший спор имел прямое отношение и к интересующей нас загадке Троянской войны. «Шлиманцы» вслед за своим учителем (а также приведенные к этому собственными исследованиями) все более приближались к признанию исторической реальности этой войны. «Эвансисты» вслед за своим догматичным мэтром утверждали, что после краха «дворцовой культуры» Крита «варварские» города материковой Греции попросту не способны: были на такую далекую и трудную военную экспедицию. Поэтому никакой Троянской войны не было. А рассказ Гомера о ней, говорили «эвансисты» вслед за своим великим учителем, есть не что иное, как воскрешение критского мифа! Подтверждение или опровержение этого радикального тезиса требовало новых раскопок, но время для этого наступило самое неподходящее — грянула вторая мировая война, и Греция вместе с Критом были захвачены немецкими войсками. Единственным доступным полем исследований остались одни лишь критские и микенско-пилосские глиняные таблички. Только в их загадочных письменах могли теперь исследователи искать (и надеяться найти) решение жестокого и непримиримого спора между последователями Эванса и последователями Шлимана, а заодно, и возможные свидетельства «за» или «против» реальности Троянской войны. Задача была из труднейших. Ситуация казалась безнадежной. Неизвестны были не только знаки «глиняной письменности» — неизвестен был и язык, который скрывался за этими знаками: Вэйс и Блеген полагали, что это какой-то диалект древнегреческого (очень «древне» — времен расцвета Микен, XIV–XIII веков до н. э.), сторонники Эванса считали, что это никому неведомый «крито-минойский» язык. Тем не менее все эти трудности удалось преодолеть. Таблички заговорили. >ГЛАВА 8 ЛИНЕЙНОЕ ПИСЬМО Б Итак, Вторая мировая война прервала археологические исследования, которые могли бы пролить дальнейший свет на загадку Троянской войны. В распоряжении ученых остались лишь глиняные таблички с загадочными письменами, найденные Эвансом на Крите и Блегеном в Пилосе, неподалеку от Микен. Первых было около 4 тысяч, вторых — около 600 (перед самой войной Вэйс нашел еще несколько табличек в Микенах; позже они были найдены также в Тиринфе и Орхоменосе). Как уже сказано выше, по мнению Эванса, «коллективным автором» этих табличек был тот неведомый народ, что создал крито-минойскую культуру, а затем распространил ее по всему Эгейскому архипелагу и материковой Греции. По мнению сторонников Шлимана, этим «автором» были древние греки (гомеровские «ахейцы»): письменность глиняных табличек, утверждали они, была высшим достижением созданной ахейцами «микенской цивилизации». Расшифровка загадочных табличек могла решить этот спор, но на пути такой расшифровки стояло несколько затруднений, и первое из них состояло в том, что таблички распадались на целых три класса. Действительно, исследования Эванса выявили существование на древнем Крите трех последовательных стадий развития письменности. Примерно с 2000 по 1650 гг. до н. э., в эпоху складывания крито-минойской цивилизации, на Крите господствовало чисто «пиктографическое» (рисуночное) письмо, в котором каждый рисунок (звезда, солнце, рука, голова, стрела и т. п.) обозначал соответствующее слово или понятие. Табличек с таким письмом сохранилось очень мало, и произвести их расшифровку нечего было и думать. Следующий класс табличек датировался временами расцвета крито-минойской культуры (1750–1450 гг. до н. э.): здесь рисунки уже упростились до схематических, линейных очертаний, поэтому Эванс дал этой письменности название «линейного письма А» (почему «А», сейчас станет ясно). Этим письмом были, в частности, выполнены надписи на некоторых камнях-амулетах и бронзовых изделиях, найденных в различных местах острова. Расшифровка линейного письма А наталкивалась на ту трудность, что надписей, им выполненных, было не так уж много. Наибольшие шансы имела попытка расшифровки третьего, еще более позднего типа письменности, которая получила название «линейного письма Б». Появление табличек с этим письмом датируется примерно 1450–1400 годами до н. э., и хотя более точную границы установить не удалось (никогда нельзя исключить возможность, что более ранние тексты просто не обнаружены), но предположительная дата той великой катастрофы, что разрушила крито-минойскую цивилизацию (1420 н. до н. а, по Эвансу), как раз попадает в этот промежуток времени. Любопытно также, что почти все таблички с этим письмом были найдены только в одном месте на Крите — в Кноссосе — и что почти все они, по оценке ученых, относятся к периоду после разрушения Кноссоского дворца (общее число таких табличек, найденных в Кноссосе, составляет, как уже было сказано, около 4 тысяч). Крайне интересно, однако, что таблички, найденные Вэйсом, Блегеном и другими археологами в Микенах, Пилосе, Тиринфе и других местах материковой Греции, тоже выполнены исключительно линейным письмом Б и тоже относятся к периоду после 1450–1400 гг. до н. э. Дело выглядит так, будто начиная с середины — конца XV века до н. э., с момента своего появления, линейное письма Б является общим и для Крита, и для городов материковой Греции. По сравнению с предшествующим письмом А его знаки представляются еще более упрощенными (впрочем, в некоторых случаях, напротив, более вычурными), хотя и среди них еще встречаются очевидные пиктограммы (схематические изображения людей, животных, сосудов и т. п.). К середине XX века, когда лингвисты занялись изучением линейного письма Б, уже были прочтены памятники многих древних письменностей, начиная с древнеегипетской, ассиро-вавилонской и хеттской, и уже существовали мощные методы их расшифровки. Каждое новое продвижение в этой области происходило путем сопоставления новой, неизвестной письменности с уже расшифрованными. Как правило, дешифровка облегчалась тем, что исследователь знал либо язык, слова которого были изображены неизвестными знаками, либо значения знаков неизвестного ему языка — по их сходству со знаками уже известных. Но в случае линейного письма Б не были известны ни значения знаков, ни стоявший за этими знаками язык. О знаках было известно лишь, что их общее число — порядка восьмидесяти (эта цифра неточна, потому что распознавание различных знаков затрудняется многочисленными разновидностями и вариантами написания). Для лингвистов эта цифра, однако, содержала важную информацию. Она означала, что линейное письмо Б не алфавитное. В алфавитном письме каждый знак отвечает одной гласной или согласной, поэтому число таких знаков мало (22, 26 и т. п.). В то же время оно не могло быть и чисто рисуночно-иероглифическим вроде современного китайского, потому что для такого («идеографического») письма нужны тысячи знаков (в китайском их, например, свыше 50 тысяч). Стало быть, это было силлабическое, слоговое письмо, в котором каждый знак (кроме рисунков, а также числовых и вспомогательных значков) соответствует одному определенному слогу. Первые попытки дешифровки этого слогового письма основывались на упомянутом выше методе сопоставления его с какой-нибудь уже расшифрованной древней письменностью, имеющей сходные знаки. В данном случае сходные знаки обнаружились в так называемом «кипрском письме», найденном на древних табличках с острова Кипр. К этому времени «кипрское письмо» было уже расшифровано: было показано, что его знаки соответствуют отдельным слогам греческого языка. Однако прямая подстановка значений этих слогов под сходные знаки в критских табличках привела к полной абракадабре: отдельные слоги не собирались ни в какие осмысленные слова. Это говорило в пользу гипотезы Эванса, утверждавшего, что язык табличек не имеет ничего общего с греческим, а принадлежит тому неведомому народу, который создал крито-минойскую цивилизацию. В результате гипотеза о «крито-минойском языке табличек» обрела такой авторитет, что к ее оппонентам стали относиться как к еретикам. Даже такой знаменитый ученый, как профессор А. Вэйс, поплатился за эту ересь — руководство университета отстранило его на время от раскопок в Микенах. Не будем рисковать и поступим соглашательски — признаем, что знаки линейного письма Б изображают отдельные слоги неведомого «крито-минойского» языка. В таком случае мы оказываемся в тяжелейшем положении. Поскольку язык этот никому неведом, то неизвестны ни его слова, ни, естественно, их слоги, а стало быть, неизвестно, какие звуки подставлять под разные знаки табличек — нет никакой зацепки. Нужно найти хотя бы какие-то правдоподобные слова и их слоги, иначе нельзя даже сдвинуться с места. В поисках этих слов и слогов первые исследователи линейного письма Б стали обращать взгляды во все мыслимые и даже немыслимые стороны. Одни утверждали, что «крито-минойский» язык, скорее всего, не принадлежит к семейству индоевропейских, а потому может быть похож на современный баскский (поскольку баскский является единственным неиндоевропейским языком в нынешней Европе). Другие полагали, что он должен быть похож на древний этрусский (поскольку традиция утверждала, что этруски пришли в Италию с островов Эгейского моря, близких к Криту). Болгарский лингвист Георгиев объявил «крито-минойским» языком изобретенную им смесь греческого с элементами других индо европейских языков; его теорию энергично поддерживали в сталинском СССР. А пионер расшифровки хеттского языка чешский лингвист Б. Грозный, взявшийся на старости лет разгадывать поголовно все еще не расшифрованные языки, предложил свою трактовку крито-минойских линейных начертаний как произвольной смеси хеттских, древнеегипетских, протоиндийских и даже финикийских письменных знаков; эта гипотеза оказалась такой же бесплодной, как «расшифровка» Георгиева. Тем не менее не все попытки были одинаково безрезультатны. Среди них оказались и удачные. Так, А. Коули разгадал с помощью пиктограмм знаки, характеризующие девочек и мальчиков; Алиса Кобер опознала знаки, которые обозначают пол людей и животных, а также меняют форму слова, как при склонении по падежам (эти «падежные окончания» она нашла, обнаружив на табличках комплексы знаков (слова), в которых все знаки, кроме последнего, были одинаковы); Беннет, анализируя количество одинаковых фигурок в разных частях таблички, выявил знаки для системы счета. Но великую заслугу полной и окончательной расшифровки линейного письма Б нужно отнести, несомненно, на счет англичанина Майкла Вентриса. Этот молодой английский архитектор (в годы второй мировой войны — штурман самолета-бомбардировщика) увлекся загадкой критского письма еще в детстве, а первую свою работу по его дешифровке опубликовал уже в 1940 году в возрасте 18 лет. Поначалу, подобно многим другим, Вентрис предлагал на роль неизвестного языка табличек этрусский. Попытки в этом же направлении он продолжил и после войны и окончания университета. Однако в 1952 году после нескольких лет напряженных размышлений, интенсивных поисков и обширной переписки с другими исследователями он пришел к совершенно новой, революционной гипотезе, опробование которой очень быстро привело его к решающему прорыву. Невзирая на всё, сказанное выше, о нерушимом авторитете гипотезы Эванса, Вентрис рискнул предположить, что язык загадочных табличек не какой-то там «крито-минойский», а все-таки древнегреческий, только очень архаический его диалект — микенский, на котором говорили за 500 лет до Гомера. И действительно, оказалось, что стоит подставить под знаки табличек слоги этого диалекта, как сквозь беспросветную чащу линий и черточек начали проступать первые понятные слова. Каким же путем Вентрис пришел к своей гипотезе? Прежде всего, он опирался на достижения некоторых своих предшественников. Уже Эванс понял, что большинство текстов на его табличках — это хозяйственные списки: в них явно просматривались какие-то подсчеты и суммы. Как уже говорилось, среди линейных знаков текста отчетливо выделялись отдельные пиктограммы — изображения мужчин, женщин, лошадей, амфор, треножников, колесниц, колес и т. п., и это позволяло, понять, какие именно объекты подсчитывались. А.по значкам в итоговых суммах можно было угадать и систему счисления (это сделал Беннет). Выше я уже упоминал о других разгадках — знаках пола, возраста, падежей. Чтобы продвинуться дальше, нужно было прибегнуть к комбинаторике, и Вентрис начал с составления статистических таблиц: какова частота употребления каждого знака, какова частота его появления в начале, середине и конце слова и так далее. Это привело его к определенным важным выводам. Так, он заметил, например, что в начале слов преобладают три знака, под номерами 08, 61 и 38 (такими номерами Вентрис обозначил все различные знаки линейного письма Б в составленной им сводной таблице). Они появлялись также внутри слова, но почти никогда не встречались в конце. Вентрису было известно, что в слоговом письме слог, состоящий из отдельной гласной, редко появляется внутри слова, но часто — в его начале (это подтверждала, в частности, упомянутая выше кипрская письменность). Отсюда следовало, что подмеченные им знаки, скорее всего, означают гласные. Далее, знак 78 очень часто заканчивал слова в различных суммированиях однородных предметов (вроде: пять / рисунок кувшина / 78 шесть / рисунок кувшина / 78 и так далее), за которыми следовала общая сумма («равно тому-то»). Было разумно предположить, что знак 78 означает союз «и», заменяющий (очевидно, не известный критянам) знак «плюс»: «Пять кувшинов и шесть кувшинов и так далее равно такому-то числу кувшинов». В некоторых случаях Вентрису помогали ошибки писца: подметив, к примеру, что знак 28 очень часто исправлялся писцом на 38 (а на глиняных табличках эти замены были очень хорошо видны), он заключил, что соответствующие слоги, видимо, весьма близки (вроде сходства слов «то» и «до», которое действительно может приводить к частым опискам). Все эти догадки и предположения позволили Вентрису в конце концов составить таблицу знаков, в которой они были разделены на «предположительно гласные» и «предположительно согласные», а затем построить таблицу повторяющихся комбинаций тех и других. Некоторые из этих комбинаций оказались повторяющимися, причем одни из них наличествовали как в кноссоских, так и пилосских табличках, тогда как другие — только в тех или других. В известных к тому времени угаритских и других надписях Ближнего Востока такие повторяющиеся комбинации знаков обычно означали названия городов и групп населения. Вентрис сделал смелое предположение, что это верно и для его табличек. Тогда комбинации, присущие только критским табличкам, могли означать названия городов или местностей на Крите вблизи Кноссоского дворца. Одно такое «критское» сочетание — 70-52-12 — повторялось особенно часто, и Вентрис предположил, что эти слоги как раз и образуют слово Кноссос: «ко-но-со». Рядом с ним часто возникало сочетание 08-73-30-12, и можно было думать, что это слово (кончающееся на 12, т. е. тоже на «со») является названием какого-нибудь важного места вблизи Кноссоса; одно такое название было известно еще из Гомера: Амниос, близлежащая торговая гавань. В слоговом (древнем) написании оно должно было выглядеть скорее всего как «а-ми-ни-(о) — со», что позволяло определить написание еще трех слогов. Дальше Вентрис рассуждал так: согласно Коули, комбинации знаков для девочек и мальчиков — это 70–42 и 70–54; если 70 — это «ко», то оба слова имеют вид «ко-42» и «ко-54». В греческом языке среди прочих названий для мальчиков и девочек есть «корос» и «коре»; в ионийском диалекте Гомера «корос» звучит как «коурос», в дорийском диалекте — как «коруос»; быть может, исходным (древнемикенским) были «корвос» (а для девочек — «кор-ва»)? Это добавляет еще два слога в таблицу. Работа Вентриса, таким образом, отчасти напоминала решение кроссворда, где разгадка первых слов все более и более облегчает разгадку следующих, но лишь в том случае, если каждое очередное слово читать именно по-гречески («по-древнемикенски»). Тем самым вероятность того, что язык табличек — действительно древнегреческий, а не какой-то крито-минойский, постепенно усиливалась. К 1952 году Вентрис (работая теперь совместно с кембриджским специалистом по греческим диалектам Джоном Чадвиком) расшифровал слоговые значения почти всех знаков «линейного письма Б» и составил их сводную таблицу. Однако многие специалисты (в особенности ярые сторонники «крито-минойского» происхождения табличек) не верили в эту «греческую» расшифровку и требовали в качестве решающего эксперимента, чтобы Вентрис прочел с ее помощью незнакомый текст (т. е. текст, не использованный при составлении самой таблицы). И Вентрис блестяще справился с этой задачей: получив от Карла Блегена еще не опубликованную табличку из Пилоса и применив для ее расшифровки найденные им слоговые (греческие) значения знаков, он получил связный й осмысленный текст! После этого чтение табличек пошло полным ходом, и уже в 1956 году Вентрис и Чадвик опубликовали толстый том «Документов микенского греческого языка», где было собрано большое число расшифрованных ими к тому времени текстов. А через две недели после выхода этого главного труда своей жизни 34-летний Майкл Вентрис погиб в автомобильной катастрофе. >ГЛАВА 9 ХЕТТСКИЕ СОСЕДИ История расшифровки линейного письма Б бесконечно интересна сама по себе, но скажем честно: мы не стали бы ею так долго заниматься, если бы одна деталь этой истории не имела прямого отношения к интересующей нас загадке Троянской войны. Вот она, эта важная и далеко ведущая деталь. В строках глиняных табличек из Пилоса то и дело встречаются перечни рабов и рабынь, работавших в царском хозяйстве (кстати, термин для обозначения этих людей, «лавийяйи», произведен от того же слова «лавия», «добыча», которое употребляет Гомер в 20-й песне «Илиады», рассказывая о пленницах, захваченных Ахиллом: «…множество жен полонил и, лишив их жизни свободной, в рабство увлек»). Если вдуматься, эти упоминания о рабах и рыбынях отнюдь не удивительны — рабский труд составлял в те времена один из главных хозяйственных устоев всех империй и царств. Любопытней другое. Зачастую рядом со значками, обозначающими рабов, обнаруживаются слова, которые можно расшифровать как указание, где именно эти рабы захвачены. Например, один такой (особенно подробный) список из Пилоса насчитывает около 600 женщин и 700 детей рабского сословия, причем о части из них сказано: «Из Милета» («милатийяйи»), что свидетельствует о походах микенцев к этому городу, находившемуся на западном побережье Малой Азии: В другом месте читаем о рабыне родом из местности «Асийяйи», что сразу напоминает (специалисту, конечно) слово «Ассува» — тогдашнее название обширного региона на том же побережье, позднее трансформировавшееся в греческое название для всей Малой Азии — «Асия». А одна из таких «пленниц» в пилосском списке и вообще характеризуется как «То-ро-ва» — может быть, «из Трои»? Впрочем, подобные фонетические сходства следует толковать крайне осторожно. Не зная, по каким законам меняются со временем гласные и согласные в данном языке, а также как они меняются при переходе от языка к языку (а лингвисты уже обнаружили множество таких законов), очень легко попасть впросак и принять желаемое за действительное. Не будем поэтому торопиться и выделим лишь то, что является несомненным. Несомненным во всем ранее сказанном представляется тот факт, что перечисленные выше упоминания «микенских» табличек о рабах и рабынях, будучи сведены воедино, убеждают нас, что уже в XV–XIII веках до н. э. (пилосские таблички относятся именно к этому времени) микенские и другие цари Ахейи совершали довольно частые походы за «живым товаром» в Малую Азию (в район Милета и «Ассувы»). Этот вывод настолько важен для наших «поисков Трои», что немедленно возникает волнующий вопрос: подтверждается ли он какими-либо другими фактами? Оказывается, да. Оказывается, в ходе новейших археологических раскопок на западном побережье Малой Азии обнаружено уже более 25 мест, где бытовала в больших количествах микенская посуда XV–XIII веков до н. э. Места эти концентрируются в центральной и южной части побережья, вблизи Эфеса и упомянутого выше Милета{15}. Более того, установлено, что микенцы, видимо, составляли заметную часть постоянных жителей тогдашнего Милета (а также, возможно, и некоторых других малоазийских мест). Действительно, этот город, основанный критянами и долго, сохранявший связи с Критом, в какой-то момент, примерно в 1450–1440 гг. до н. э., что совпадает со временем захвата Крита микенцами, резко меняет свой облик: он перестраивается, в нем воздвигается крепость, строятся храм Афины и дома с типично греческими большими залами — «мегаронами» — и т. п. Аналогичные приметы греческого пребывания появляются в то же время в соседних малоазийских городах Эфесе, Книде и других, а также в других бывших критских владениях — на островах Родосе, Хиосе и Самосе, лежащих у побережья Малой Азии. Иными словами, все критское стало теперь микенским. Как говорится, «убил — и еще наследовал». Это делает понятным упоминания о рабах в пилосских табличках. Разумеется, владея столь многими опорными пунктами у берегов Малой Азии и даже на ее побережье, ахейцы вполне могли совершать с этого плацдарма не только спорадические, но и вполне регулярные вылазки за рабами и рабынями в глубь малоазийского полуострова. Все эти факты интересны и сами по себе, ибо рисуют картину микенской цивилизации XIV–XIII веков до н. э. как весьма внушительного по размерам и военной силе царства, территория которого включала не только материковую Грецию, но также многочисленные острова Эгейского моря и даже прилегающее к ним побережье Малой Азии. Мы уже видели такую картину — в гомеровской «Илиаде», разумеется, где же еще! — но на сей раз уже не нужно гадать, достоверна ли она, на сей раз исторический фон гомеровского рассказа подтвержден как точными данными археологии, так и показаниями критско-микенской письменности. Это крайне интересно. Но у перечисленных выше фактов есть и другой, не менее важный аспект. Наличие форпостов Микенского царства на берегах Малой Азии и его неустанные попытки проникновения в поисках «живого товара» все дальше и дальше в глубину полуострова неизбежно должны были приводить к столкновениям ахейцев с другим могучим царством, которое в те же времена доминировало в этих же местах, вплоть до Милета и Трои, — с государством хеттов, с Хеттской империей. А если так, то можно думать, что конфликты двух столь серьезных противников могли найти какое-то отражение в том или ином хеттском клинописном тексте — ведь хеттские цари, как мы сейчас убедимся, вели обширную и детальную документацию всех своих военных, дипломатических и торговых действий. Продолжая эту логическую нить, мы приходим к очередному важному выводу: не исключено, что искомые нами отголоски Троянской войны (которая вполне могла быть одним из таких малоазийских «территориальных конфликтов») тоже могут обнаружиться в каких-нибудь хеттских текстах XV–XIII веков до н. э. Этот вывод заставляет пристальней присмотреться к хеттам, к их истории и в особенности, как мы уже сказали, к письменным памятникам этой истории. Хеттское царство часто называют «забытым». Действительно, долгое время господствовало представление, будто главными действующими лицами на древней ближневосточной сцене были египтяне да ассирийцы. Хетты воспринимались в духе многочисленных упоминаний в Библии (в той её части, которая у евреев называется «ТАНАХ», а у христиан — «Ветхий завет» для христиан), где о них говорится в основном как об одном из второстепенных племен («Хиттим»), встреченных евреями, когда они вернулись из египетского рабства в Палестину: например, красавица Батшева (в современном произношении Вирсавия), так возбудившая любострастие царя Давида, была женой «Урии Хеттеянина», т. е. хетта. Лишь в двух местах ТАНАХа мельком говорится о «хеттейских царях». В действительности, однако, хетты были не столько «зат бытыми», сколько, скорее, «неопознанными» участниками ближневосточной истории. Когда археологи обнаружили в Карнаке и других местах Египта стеллы с отчетом о великой битве при Кадеше (1275 г. до н. э.), эта историческая роль хеттов сразу стала очевидной: выяснилось, что фараону Рамзесу II противостоял в этой битве не кто иной, как «Великий Царь Хатти», армия которого включала воинов «шестнадцати народов» и насчитывала 2500 боевых колесниц! «Узнавание» хеттов получило огромный толчок, когда в 1834 году на поросшем дикими колючками холме вблизи заброшенной турецкой деревеньки Богазкёй в, Анатолии были открыты развалины бывшей хеттской столицы Хаттусы. Остатки ее могучих стен позволяли думать, что когда-то они тянулись на добрых три-четыре километра в длину и, следовательно, заключенный внутри них город не уступал по размерам Афинам в пору их высшего расцвета; там и сям на холме еще сохранились следы высившихся здесь некогда огромных храмов, посвященных каким-то неведомым богам, остатки львиных фигур, украшавших громадные ворота, и обломки странных скульптур, покрытых иероглифами на неизвестном языке. Вскоре аналогичная крепость, хотя и меньших размеров, была раскопана в Каркемише, а иероглифы, аналогичные богазкёйским, обнаружились во многих местах Сирии и Северного Ирака, а также Центральной и Западной Турции. Стало очевидно, что хеттское государство занимало огромную по тем временам территорию и его влияние ощущалось от западного побережья Малой Азии до Северной Сирии и верховий Тигра и Евфрата; иными словами, по размерам и силе оно не уступало тогдашним Египту и Ассирии. Эти представления были подтверждены открытыми в 1887 году глиняными табличками из Тель-Амарны (Сирия), содержавшими переписку фараонов XV–XIV веков до н. э. с мелкими сирийскими и палестинскими царьками, в которой удостоверялась реальность хеттской гегемонии в этих местах задолго до битвы при Кадеше. Но главный свет на историю хеттов пролили найденные в 1906–1908 годах Винклером таблички из Богазкёя, общим числом около 10 тысяч, с текстами на восьми языках (хеттский, аккадский, шумерский и др.), что, кстати, красноречиво свидетельствовало о многонациональном характере хеттского царства. Хеттские тексты этих табличек были расшифрованы во время первой мировой войны и вскоре после нее, и пионером здесь был уже упомянутый нами чешский лингвист Бедржих Грозный. Благодаря этим текстам история хеттов известна сегодня во многих подробностях. К сожалению, даже самое краткое знакомство с ней не может обойтись без упоминаний царских имен, ибо только перечисление последовательных царствований позволяет хоть как-то сориентироваться в хеттской хронологии. Говорю «к сожалению», потому что имена этих царей, как это сейчас же станет очевидным, зачастую труднопроизносимы. Хетты говорили на языке индо-европейской группы, близком к языкам других жителей тогдашней Анатолии — лувийцев, ликийцев и т. п. (эти языки тоже теперь расшифрованы), и пришли в свои земли откуда-то с северных берегов Черного моря, по всей видимости, за две — две с половиной тысячи лет до н. э., но надежное знание генеалогии их царей начинается лишь с 1650 года до н. э. (отрывочные сведения о более ранних временах, содержащиеся в некоторых ассирийских источниках, имеют туманный характер). В 1650 году до н. э. на трон объединенного хеттского царства взошел Хаттусилис Первый, прославившийся завоеванием царства Алеппо в Сирии; ему наследовал его внук Мурсилис, завоевавший долину Евфрата вплоть до Вавилона, а затем, после продолжительных династических распрей, — потомки Мурсилиса: Телипинус, его сын Аллувамнас и ряд последующих, не очень точно известных правителей. Этот период называется «Старым царством»; он продолжался до начала XV века до н. э., когда на трон взошел Тудхалйяс (по-видимому, второй по счету с таким именем), открывший славную эпоху «Нового царства». В эту эпоху хеттская держава стала подлинной империей, т. е. конгломератом многих народностей — в ее состав входили около 20 крупных городов и 40–50 «земель» (небольших царств и отдельных полисов вроде Алеппо, Дамаска, Хацора, Тира, Сидона и т. п.). Около 1400 года до н. э. правителем этой империи стал Тудхалйяс Третий; около 1380 года его сменил Суппилулиумас (я предупреждал!); примерно в 1340 году до н. э. на трон взошел Мурсилис Второй, а около 1315-го — Муватталис, о котором нам еще придется не раз говорить; за ним правили Мурсилис Третий (1296–1289) и, наконец, Хаттусилис Третий (1289–1265); он, видимо, и был тем хеттским царем, который сражался при Кадеше. Особенно интересными с нашей, «троянской», точки зрения являются последние 70 лет существования хеттской империи — времена царей Тудхалияса Четвертого (1265–1235), Арнувандаса Второго (1235–1215) и Суппилулиумаса Второго (1215–1190 гг. до н. э.); они интересны для нас потому, что включают те годы, к которым античная традиция относит Троянскую войну, а археологи — пожар Трои-7а. Они были также последними в истории хеттов, потому что вскоре после смерти Суппилулиумаса Второго или даже при нем, примерно в 1190 году до н. э., в страну вторглись неведомые завоеватели, которые захватили и сожгли столицу Хаттуса (Богазкёй) и положили конец великой Хеттской империи. Перед тем, как задернуть занавес над ее историей, обратим еще внимание, что время гибели объединенного хеттского государства практически совпадает со временем столь же внезапной и столь же загадочной гибели объединенной микенской цивилизации (примерно 1200 год до н. э.) — и тоже под натиском неведомых завоевателей. Если добавить, что примерно тогда же подвергся вторжению и Египет, то череда многозначительных совпадений станет слишком широкой, чтобы быть случайной, и это порождает некоторые предположения, разговор о которых мы, однако, отложим на конец нашего очерка. История хеттов могла бы стать предметом увлекательного рассказа, и даже не одного, но сейчас нас интересует в ней лишь ее узкий «ахейско-троянский» аспект. Этот наш интерес не оригинален: задолго до нас, с самого начала расшифровки хеттских документов, многие лингвисты и историки стали искать в них следы хеттско-ахейских контактов (а многие — и отголоски Троянской войны) и кое-что даже успели найти. В частности, на некоторых глиняных табличках из Богазкёя они обнаружили такие тексты, которые на первый взгляд недвусмысленно указывают на ахейцев и свидетельствуют о давних контактах хеттов с ахейским государством. Действительно, в некоторых хеттских документах (их насчитывается свыше 20) фигурирует некое (заморское?) царство Ахиява (хеттское Ahhijaawa), название которого так похоже на слово «Ахайвой» (так Гомер именует своих героев-ахейцев), что кажется попросту немыслимым истолковать его как-то иначе. В этих текстах встречаются и другие, столь же впечатляющие совпадения, например, Lazpas — какая-то страна, связанная с Ахиявой: это название почти до очевидности похоже на Лесбос — остров в Эгейском море у берегов Анатолии вблизи Трои; или Milawata — город на территории Ликии, находившийся в те времена под властью царей Ахиявы, — название, весьма похожее на Милет, древнегреч. «Миллатос», который, как мы уже говорили, действительно представлял собой в ту пору главный ахейский форпост в Малой Азии. Эти совпадения простираются и на имена собственные: так, исследователи обнаружили в текстах, связанных с Ахиявой, имя Tawakalawas, что с учетом различия произношений очень похоже на греческое «Этеоклес», которое в пилосских табличках зафиксировано как Etewoklewelos; а также совсем уж поразительное Attarisijas, которое можно прочесть как Atressias, что очень близко к имени легендарного греческого героя Атрея, родоначальника всех микенских царей-Атридов вплоть до Агамемнона. В 1924 году Эмиль Форрер, швейцарский лингвист и историк, один из главных дешифровщиков хеттских глиняных табличек, опубликовал статью «Догомеровские греки в клинописных — текстах из Богазкёя», в которой на основании перечисленных выше фактов и множества других, более тонких, но не менее впечатляющих сличений выдвинул гипотезу, что в соответствующих хеттских документах, откуда они были извлечены, речь действительно идет об «ахейской» (микенской) цивилизации времен Троянской войны и ранее, что эта цивилизация (объединение городов-царств во главе с Микенами) была издавна и хорошо известна хеттам и что контакты Хеттской империи с Ахиявой, временами дружеские, временами кровавые, продолжались на протяжении нескольких веков вплоть до эпохи Троянской войны и последовавшего вскоре после нее загадочного краха обеих держав. На наш несведущий взгляд, после всех перечисленных выше совпадений эти утверждения почти самоочевидны, поэтому покажется, наверное, неожиданным, что толкование Э. Форрера вызвало поначалу крайне резкую критику крупнейших хеттологов того времени и, прежде всего, Фердинанда Зоммера — автора фундаментального исследования, в котором были собраны и прокомментированы все хеттские источники с упоминаниями Ахиявы. С этого начался затяжной «спор об Ахияве», к которому и нам стоит присмотреться, так как он напрямую связан с интересующей нас проблемой исторической достоверности Троянской войны. Надо же знать, у кого какие аргументы… Критика гипотезы Форрера шла главным образом со стороны лингвистической. Оппоненты утверждали, что его фонетические сближения — Ахиява — Ахейя, Аттарисиас — Атреус — весьма произвольны и противоречат законам греческого и хеттского языков (например, хеттское «ийя» в слове Ахийява никак нельзя свести к греческому «аи» в слове Ахайвой). А кроме того, двадцать с лишним упоминаний Ахиявы в хеттских текстах — число, конечно, внушительное, но лишь до-тех пор, пока мы концентрируем внимание на одной Ахияве; оно сразу становится ничтожным, когда вспомнишь о многих тысячах (!) упоминаний Египта или Ассирии. Стало быть, предположение о «мощи» Ахиявы не так уж убедительно — это царство вполне могло быть и не таким уж большим, чем-то вроде других царств на западном берегу тогдашней Малой Азии или в Эгейском море — и может быть, именно там оно и располагалось. Исходя из подобных рассуждений, Ф. Зоммер помещал Ахияву вблизи Милета; Б. Грозный — на острове Родос; П. Кречмер — на крайнем юге Малой Азии (нынешняя Анталйя), Дж. Маккуин — возле Трои, а Дж. Мелларт — вообще во Фракии, на противоположном от Трои берегу Мраморного моря, на месте нынешней Румынии и Болгарии. Как насмешливо заметил один из корифеев хеттологии Ф. Шахермайр, «противники Форрера готовы были локализовать Ахияву хоть на Луне, лишь бы не на греческом континенте». Однако по мере того как археология уточняла истинные масштабы ахейского присутствия в Эгейском море и в Малой Азии, гипотеза Форрера начала привлекать все большее сочувствие ученых, и сегодня совпадение «Ахиявы» с какой-то частью ахейского мира считается почти доказанным. Спор идет скорее о том, включали хетты в это понятие всю микенскую цивилизацию или только ее форпосты в Малой Азии, Но в пользу первого предположения говорит тот факт, что в некоторых хеттских документах перед словами «царь Ахиявы» стоит значок, означавший у хеттов что-то вроде «Его Величество» титул, которого удостаивались в хеттской официальной переписке только цари Египта и Ассирии. О «величии» Ахиявы косвенно говорит и другой факт: в 1981 г. в греческих Фивах были найдены 36 ляпис-лазуревых печатей, происхождение части которых надежно прослежено до храма Мардука в Вавилоне, некогда ограбленного ассирийцами. Печати найдены в том слое, который соответствует времени хеттских попыток блокировать ассирийскую торговлю. Не были ли они подарком ассирийцев, пытавшихся привлечь Ахейю на свою сторону против хеттов? Эти и другие аналогичные свидетельства значимости Ахиявы постепенно побудили большинство ученых признать, что великий царь Ахиявы, равный по рангу царям других великих держав того времени, не мог быть правителем какой-то страны в Анатолии, где не было места ни для какой великой державы, кроме Хатти, и потому мог быть лишь царем материковой Греции. Итак, по нынешнему мнению большинства ученых, хеттская «Ахиява» — это действительно Микенское царство XV–XIII веков до н. э., а коль скоро это так, нам, конечно же, следует обратиться к хеттским текстам об отношениях с Ахиявой — ведь где-то там могут скрываться и упоминания о Трое, а может быть, и о Троянской войне. Сейчас мы этим займемся. Мы уже близки к финишу. >ГЛАВА 10 ТРОЯ В ХЕТТСКИХ ДОКУМЕНТАХ Хеттские клинописные тексты, сохранившиеся на десяти с лишним тысячах глиняных табличек из Хаттусы (Богазкёя), — это подлинная сокровищница исторических документов, на страницах которой запечатлены живые, яркие образы царей и полководцев, впечатляющие описания битв и походов, сложные и тонкие дипломатические интриги международной политики. В сравнении с этим тексты крито-микенского линейного письма Б выглядят как сухие безжизненные перечни, сквозь которые едва сквозят смутные силуэты мертвых предметов и безвестных людей. Но хеттские тексты не исключение на тогдашнем Востоке. Такую же широкую, яркую, поразительно выпуклую картину сложной политической и культурной жизни далекого прошлого запечатлели и памятники двух других великих держав той эпохи — Древнего Египта и Древней Ассирии. В этой связи английский историк Майкл Вуд меланхолически замечает: «Увы, микенская Греция находилась на периферии этого «клуба избранных»…» И он прав: в сравнении с хеттской, египетской и ассирийской цивилизациями XV–XIII веков до н. э. с их бесконечными территориями, огромными столицами и громадными военными полчищами материковая Треция тех времен — даже в любовном описании Гомера — кажется «убогой» и «варварской»; этакий архаичный вариант «рыцарской Европы» с ее безграмотными королями и утопавшими в грязи городами или же более знакомой нам Киевской Руси времен какого-нибудь Святослава или Владимира. Подобно Агамемнону и Ахиллу у Гомера, и те ведь ходили походами на Царьград с окраин своей ойкумены, и у тех всех радостей было — пировать в шатрах, враждовать друг с другом из-за пленниц или золота да схватываться с врагами в богатырских поединках. Боги, однако, смеются: где сегодня те византийцы — и где славяне? Где те хетты — и где греки? Именно таким «варварам» история, как правило, дарует великое будущее: пройдет лишь несколько столетий, и Хаттуса будет лежать в развалинах, а Афины станут центром ойкумены: там Платон будет учить Аристотеля, на Самосе родится Пифагор, а на Косе — Гиппократ, и греческие корабли разгромят самую крупную сухопутную державу азиатского континента — империю персов, которая к тому времени сменит хеттов, а потом Александр Македонский высадится в Малой Азии, чтобы завоевать и преобразить Восток. В описываемые нами годы до этого, однако, еще далеко, и, глядя на варварский городок Афины, никто не рискнет предсказать им великое будущее. Хетты еще правят в Малой Азии: их империя занимает всю центральную часть этого огромного полуострова, оползая по карте вниз, на юг, в Сирию и Двуречье, словно под грузом собственной тяжести. На западе она контролирует множество мелких полунезависимых царств на побережье Эгейского моря. Среди них и Милет — видимо, он находится в двойном подчинении (термин Шахермайра): подчиняется Микенам, но официально лоялен по отношению к Хаттусе. Эти места нас и интересуют — здесь, в их северо-западном углу, лежит Троя. Политическая география этого побережья сложна и запутанна, и хеттские тексты мало помогают в ее прояснении. Огромная хеттская держава мало интересуется этими местами: она требует лояльности от всех местных царствишек, ее цель — поддерживать нерушимый порядок в своих пределах, и лишь в те редкие периоды, когда чей-то серьезный мятеж или вторжение его нарушат, она вспоминает об этих местах и шлет туда армию, чтобы восстановить положенный миропорядок. Немудрено, что хеттские документы плохо и путано фиксируют местную географию — они и Ахияву-то, как мы видели, упоминают нечасто, в основном именно в связи с ее вторжениями или интригами на побережье. Все же можно восстановить, что главным царством на побережье хетты считали Арцаву (Аггауф), о местонахождении которой хеттологи по сей день ведут яростные споры. Одни помещают ее в юго-восточной части полуострова, и на карте в старой «Британской энциклопедии» вы увидите именно этот вариант, другие — их подавляющее большинство — отстаивают теорию «западной» Арцавы, в центре западного побережья Малой Азии, со столицей в Апасе, греческом Эфесе. Здесь, на западе, действительно раскопаны крупные города и роскошные дворцы, каких нет на юге; но главное — западное расположение Арцавы много лучше согласуется с имеющимися сведениями о соседних с ней царствах — Мира, Хапалла и Страна реки Сеха. На карте «Британники» они показаны севернее «южной» Арцавы, то есть уже в глубине малоазийского полуострова, но хеттологи показали, что название «Мира» точно сопоставимо с греческим «Мирос» — названием реки северо-восточнее Эфеса, а слово «Хапалла» — Со словом «Капалла», которым греки обозначали область побережья северо-западней Эфеса. Если принять «западное» размещение этих двух соседних с Арцавой царств, то и третий ее сосед, Страна реки Сеха, тоже найдет правильное место — еще дальше на север, в той части побережья, что против острова Лесбоса. То, что это размещение правильное, подтверждается упоминанием хеттских источников, что эта страна граничит со страной Lazpas, что как раз и означает, как мы уже говорили выше, греческий Лесбос. Все перечисленные царства вместе с Арцавой иногда именуются в хеттских документах одним словом «Ассува», которое замечательно близко к тому слову «Асуйя» (позднее — «Асия»), которым в крито-микенских табличках обозначается одно из главных мест, где ахейцы добывали себе рабов в набегах на малоазийское побережье. Видимо, такое единое обозначение следует понимать в том смысле, что все эти западные прибрежные царства время от времени объединялись в борьбе против власти хеттов, и потому хетты знали их как единого врага; это толкование действительно подтверждается списком городов-государств «Ассувы», перечисленных в «Анналах» царя Тудхалияса Четвертого. Может показаться, что мы копаемся в ненужных подробностях, но это не так: двигаясь от одного прибрежного царства к другому, мы имеем важную тайную цель — найти местоположение самого загадочного из них, которое в перечне из «Анналов» Тудхалияса именуется «Вилуса» (по-хеттски — Wilusija). Это название идет в перечне сразу же после другого, — еще более примечательного — «Truisa», которое тотчас и главным образом приковало к себе внимание исследователей (прежде всего Э. Форрера), попытавшихся отождествить его с гомеровским «Troih», т. е. Троей! Эта попытка встретила возражения других ученых, ибо хеттские знаки этого слова допускали несколько возможностей чтения (Форрер выбрал из них самую удобную для своих целей), и потому хеттологи, отложив на будущее загадку «Труисы», переключились на поиски Вилусы, и вот тогда-то П. Кречмер первым привлек для сравнения с ее названием греческое слово «Илион», или «Илиос», в котором, вглядываясь в особенности гомеровского языка, он выявил некогда существовавшее, но выпавшее начальное «В» — «Вилиос». Гипотеза Кречмера вскоре получила поддержку. При анализе хеттских текстов конца XIV века до н. э. времен царя Муватталиса выявилось, что тогдашний правитель Вилусы, некий Alaxandus (обратите внимание на это имя!) обратился к хеттам за помощью против соседей, отдав себя под власть Муватталиса. Между тем из много более поздних византийских хроник известно, что был в Византии город, основанный, по легенде, «царем Мотилом», который принимал там «Париса и Елену». Напомнив, что второе имя Париса было Александр, Кречмер предположил, что «Мотил» — это искаженное временем и легендой «Муватталис». Более того, в другом хеттском документе упоминается царь — предшественник Алаксандуса, по имени Кукунис, которое Кречмер отождествил с именем царя Кикна, упоминаемого в «Илиаде»: согласно Гомеру, он правил в городе Колоны, южнее Трои, и первым пришел на помощь осажденной Трое. Все эти совпадения побуждают сопоставить Вилусу с гомеровским Илиосом, или Троей. И действительно, если следовать перечню прибрежных царств в «Анналах» Тудхаилияса, то местонахождение загадочной Вилусы естественным образом совмещается с положением Трои. Может быть, Труисой в списке Тудхалияса называлась местность, окружавшая город, т. е. тот район, который мы сегодня называем Троадой? Ведь и у Гомера Троя и Илион-Илиос часто упоминаются так, будто Троя понимается и как город, и как страна (Троада), а Илион — только как город (мы говорили об этом в 3-й главе). Как бы то ни было, но в хеттских текстах перед словом Вилуса иногда стоят сразу два значка — страны и города, так что все вместе читается как «страна города Вилуса», а иногда только знак страны — «царство Вилуса». Это царство упоминается весьма часто, что создает впечатление давнего знакомства хеттов с этим районом. Самый первый «вилусский» документ хеттов — договор Алаксандуса и Муватталиса — рассказывает, что некогда хеттам подчинялась и Вилуса, и Арцава; позднее Арцава отпала, но Вилуса оставалась с хеттами в мире и дружбе, и отец Алаксандуса царь Кукунис даже оказал отцу Муватталиса — царю Мурсилису — помощь против Арцавы. Далее в этом документе следует: «У Кукуниса… было… вот он…» Исходя из того, что точно такое же сочетание слов было найдено в другом хеттском документе — об усыновлении одним хеттским царем некоего принца из страны Мира, историк И. Фридрих выдвинул смелую гипотезу, что и тут нужно читать: «У Кукуниса (не) было (детей), вот (он тебя, Алаксандус, и усыновил)». Гипотеза может показаться даже слишком смелой, учитывая скудость наличного текста, но ее делает привлекательной упоминание великого греческого драматурга Еврипида в его (известной, к сожалению, лишь в пересказе) трагедии «Александр» о том, что троянский Парис-Александр имел аналогичную биографию: он был усыновлен царем Приамом и провозглашен законным наследником, что вызвало недовольство и ропот троянцев. В договоре Муватталиса с Алаксандусом тоже говорится, что «человечество ропщет» против Алаксандуса. Параллели слишком волнующи, чтобы оставить их без внимания, — ведь, приняв гипотезу Фридриха, мы, по существу, обнаруживаем в хеттских текстах прямое указание на одного из главных героев «Илиады»! Судя по дальнейшему тексту договора, Муватталис поддержал Алаксандуса против «ропщущих» подданных, за что Алаксандус признал себя хеттским вассалом. Хетты, таким образом, в обмен за свою помощь получили еще одного вассала на западном берегу (в добавление к уже покоренным ими Хапалле, Мире и Стране реки Сеха). Как предположила Хайнхольд-Крамер, сколачивание этого блока вассальных царств было, видимо, необходимо хеттам для прикрытия побережья от возможного вторжения опасного врага. Мы сейчас увидим, что, скорее всего, этим врагом, была Ахиява, т. е. ахейцы. Пока же заметим, что с этим присоединением Вилусы к прохеттской коалиции прибрежных царств весьма подозрительно совпадает первое упоминание хеттами троянского племени: в стеле Рамзеса Второго о битве с хеттами при Кадеше (1275 г. до н. э.) говорится о хеттских союзниках «A-ru-sa-wi», что, видимо, означает воинов из Арцавы, и, «Dar-d-an-ja», что ученые расшифровывают как «дарданцы» — племя, обитавшее, согласно «Илиаде», на юге Троады-Илиоса (Вилусы); мы уже говорили много раньше, что это название то ли восходит к проливу Дарданеллы, то ли само дало ему такое название. Но откуда бы ни взялось слово «дарданцы», ясно, что их упоминание в Кадешской стеле — лишнее доказательство того, что Вилусу правильно отождествлять с Троадой: стоило ей стать вассалом Муватталиса (ум. в 1296 г. до н. э.), и вскоре (1275 г. до н. э.) вилусцы-дарданцы уже появляются в хеттских войсках при Кадеше. Есть и еще одно подтверждение того, что Вилуса — скорее всего, Троя: в договоре вилусского Алаксандуса с Муватталисом упоминаются вилусские боги; один из них — «Аппалинаус», что, несомненно, означает Аполлон. Напомним, что и у Гомера Аполлон не греческий, а именно троянский бог (о чем говорит, например, его история с Кассандрой, которой он хотел овладеть, а за отказ наплевал в уста). Следующим в списке вилусских богов назван «бог подземных вод», что не менее поразительно совпадает с тем фактом, что вблизи Трои воды реки Скамандр с шумом и грохотом выходят из подземного туннеля в широкое ущелье под горой Ида; это ущелье издавна было местом религиозных праздников в Троаде. Гомер, кстати, тоже называет Скамандр «божественным» и «богорожденным». После всего сказанного представляется уже почти несомненным, что в хеттских текстах, рассказывающих о царстве Вилуса, речь действительно идет о Трое-Илионе, знакомой Гомеру, и о ее древних царях времен Троянской войны: не забудем, что правление Муватталиса и его преемников, по какой хронологии ни считать, совпадает со временем существования Трои-6 и 7а, раскопанных Шлиманом, Дорпфельдом и Блегеном. Сам этот факт не так уж поразителен, если вдуматься, т— ведь сомнений в реальном существовании Трои на самом деле ни у кого нет, как нет сомнений и в том, что Троянское царство (а Троя-6, судя по ее размерам, должна была быть столицей довольно значительного царства — это самый большой древний город, раскопанный на северо-западе Малой Азии) уже хотя бы в силу своего геополитического расположения должно было входить в контакты с современной ему и соседствующей с ним могущественной империей хеттов. Приятно, конечно, что все эти представления, имеющие первоисточником гомеровский рассказ, подтверждены теперь перекрестными историческими, археологическими и лингвистическими доказательствами. Но это еще не доказывает исторической реальности описанной Гомером Троянской войны… Пока что мы не обнаружили в хеттских документах чего-либо, напоминающего об этом событии. Задумаемся поэтому: где следует искать такие упоминания (если они вообще существуют)? Ответ представляется однозначным. Троянская война велась ахейцами (для хеттов — Ахиявой) против Трои (для хеттов — Вилусы, их вассала). Следовательно, теперь, на завершающем этапе нашего исторического расследования, надлежит обратиться к тем хеттским текстам, в которых одновременно упоминаются и Вилуса, и Ахиява. Обратимся же к ним — и скорее — мы почти у цели! >ГЛАВА 11 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ХЕТТОВ Большинство хеттских документов повествует о внутренних делах империи; это вполне обычные, знакомые имперские дела: смены правителей, борьба за престол, смуты и гражданские войны, нерадивость местных чиновников и волнения в окраинных областях. Эти глиняные таблички не сохранили ни текстов своего Гомера, ни даже текстов своего Бродского, чтобы позволить потомкам вдохнуть горячую и горькую пыль тех веков, но и в них ощущается бескрайний размах имперского пространства, стянутого сетью нескончаемых, в пустоту уходящих дорог, всепроницаемость и вездесущесть централизованного надзора и тяжесть столичной длани на загривке провинций, бесконечная глушь отдаленных полисов и размеренная медлительность их предустановленного быта. Другой массив текстов посвящен делам внешним — это дипломатическая переписка с повелителями других империй, сообщения о битвах и походах, хвастливые отчеты о победах и сетования на нежданные поражения, договоры о торговле или их расторжение, смутные отголоски сложных политических интриг. Заморское царство Ахиява (которое большинство хеттологов, как мы уже говорили, отождествляют сегодня с материковой, «микенской» Грецией) упоминается здесь нечасто, около 20 раз, то есть несравненно реже, чем Ассирия и Египет, но ведь и то сказать — Ахиява далеко, и ее цари редко когда угрожают империи столь серьезно, как ее ближайшие и могущественные соседи на юге и востоке. Все же несколько-раз доходит, видимо, и до этого, и к таким конфликтам Ахиявы и хеттов нам нужно присмотреться особенно детально, потому что, как уже говорилось в конце предыдущей главы, отголоски Троянской войны, т. е. похода ахейцев на Трою-Вилусу, могут оказаться лишь в тех хеттских документах, которые повествуют о вторжениях царей Ахиявы в хеттские владения. Первый (из доныне найденных) хеттский текст, в котором упоминается такое вторжение, — это «рассказ о преступлениях Маддуваттаса», как его называют хеттологи, отнесшие этот рассказ после долгих споров примерно к 1440–1380 годам до н. э. Микенские греки в то время, как известно, уже овладели Критом и островами Эгейского моря, и вот уже пара десятилетий, как утвердились в Милете. Немудрено, что, ступив на побережье Малой Азии, они тут же начинают вмешиваться в дела прибрежных малоазийских земель, подвластных империи хеттов, и вот в тексте послания к некому Маддуваттасу (видимо, царьку одной из таких земель) в ходе перечисления его прегрешений впервые появляется упоминание об Ахияве: «…тебя (Маддуваттаса), из страны твоей изгнал Аттариссий, человек из страны Аххия… он и далее вслед за тобой… он постоянно преследовал тебя, он стремился к твоей, Маддуваттас, погибели. Но бежал ты, Маддуваттас, к от(цу Солнца Моего). И отец Солнца Моего отклонил тебя от погибели и Аттариссия назад отстранил…» В чем же состояли «преступления» Маддуваттаса, по которым названо это пространное и примечательное послание? Оказывается, едва оправившись благодаря помощи хеттов от поражения, он тотчас напал на своих соседей, других хеттских вассалов, и тогда отступивший было Аттариссий снова появился на сцене с огромным по тем временам войском, насчитывавшим 100 боевых колесниц. Пришлось снова отправлять против него хеттскую армию. Однако неугомонный Маддуваттас и после этого продолжал свои происки: он захватил ряд мелких прибрежных царств по соседству, сколотил из них серьезный анти хеттский блок и, что всего хуже, вступил в тайный сговор с Аттариссием и помог тому напасть на «страну Аласию» (ученые давно уже установили, что хеттская Аласия — это остров Кипр), где Аттариссий захватил много пленных (читай — будущих рабов). В этом месте так и просится упоминание, что по археологическим данным массовое проникновение микенской посуды на Кипр начинается именно в это время — около 1400 года до н. э. Мало того, массовое появление этой посуды на западном побережье Малой Азии тоже начинается в те годы, к которым, судя по хеттскому посланию, относятся вторжения «ахиявского царя» в малоазийские земли{16}. Созданная Маддуваттасом анти-хеттская коалиция сыграла роковую роль в истории «Старого» хеттского царства. Войдя в сговор с Египтом, эта коалиция едва не сокрушила хеттов; во всяком случае, накануне вступления на трон Тудхалияса Второго хетты находились на грани окончательного поражения. Однако новый правитель сумел отразить главные угрозы и возродить хеттскую империю под названием «Нового царства», а его преемники Тудхалияс Третий и Суппилулиумас неслыханно раздвинули пределы полученного наследия. На хеттских табличках сохранилась «Автобиография» Мурсилиса Второго, сына Суппилулиумаса, в которой он много рассказывает о своем отце, упоминая, в частности, что «когда отец мой в живых (был)… тогда он (что-то) с моей матерью… и ее в страну Ахиява… он на ту сторону отправил». Этот документ описывает времена, отстоящие на несколько десятилетий от походов Аттариссия, и отношения хеттов с Ахиявой за это время, видимо, изменились: они стали настолько дружественными, что Ахиява даже готова пойти навстречу хеттскому царю в довольно щекотливом вопросе распри с женой и принять у себя опальную царицу. Сам Мурсилис Второй продолжил победы своего отца, окончательно разгромив Арцаву, которая возглавляла антихеттскую коалицию на западном побережье Малой Азии, и главу ее, некого Ухацитиса, изгнал все в ту же Ахияву: «и он с моря… к царю Ахиявы… я снарядил с кораблем, и они увезли его прочь». Правда, в ходе этой войны был сожжен и главный форпост Ахиявы на побережье — город Милет, но ахиявские цари, судя по всему, не выразили никакого возмущения по этому поводу, и город вскоре был отстроен, кажется, руками самих же хеттов. А вскоре из Ахиявы ко двору заболевшего Мурсилиса отправляется некто «Антаравас» (возможно, Антреус) со статуями ахиявских богов, которые должны помочь выздоровлению царя. Одним словом, при Мурсилисе Втором глухая вражда между Хаттусой и Ахиявой сменяется подлинной политической идиллией. Однако ни во времена вражды, ни теперь, во времена дружбы, Вилуса в связи с Ахиявой, увы, не упоминается. Как мы помним, во времена правления следующего хеттского царя, Мувутталиса (1315–1296), некий принц из Вилусы, Алаксандус, опасаясь каких-то врагов, обратился за помощью к хеттам и согласился стать их вассалом (этими врагами скорее всего были его же «ропщущие» подданные, которым не понравилось, что усыновленный предыдущим вилусским царем Алаксандус взошел после его смерти На трон, минуя законных наследников). В договоре Алаксандуса с Муватталисом вассал обязывается противостоять какому-то врагу, и последующие события показывают, что обязательство это не было случайным — ожидать вторжения врага были все основания. Действительно, в сохранившемся отрывке письма, отправленного царем Страны реки Сеха (это царство, напомним, соседствовало с Вилусой с юга и востока) в Хаттусе, хеттскому царю (скорее всего, тому же Муватталису), говорится, что ожидаемый враг «пришел и войско страны Хатти привел… назад л страну Вилуса биться пошли». Весь этот эпизод хеттологи трактуют следующим образом: упрочив положение Алаксандуса на престоле Вилусы и сделав его своим вассалом, хетты, видимо, изменили прежнее положение вещей, при котором Вилуса была вассалом неведомого «врага»; этот противник не потерпел ослабления своих позиций и вторгся в страну, пытаясь восстановить прежнее положение; хетты тотчас отреагировали присылкой своих войск. Кто же этот неведомый противник, с которым хетты воюют из-за Вилусы? Хайнхольд-Крамер высказала предположение, что им могла быть Ахиява. На первый взгляд кажется, что это совершенно безосновательное предположение, но анализ последующих документов показывает, что оно вполне правдоподобно. Главным из этих документов является так называемое «Письмо о Тавакалавасе». Сопоставление его с другими хеттскими текстами, где упоминаются некоторые из лиц, указанных в «Письме», позволяет отнести события, излагаемые в письме, ко временам наследников Муватталиса — царя Мурсилиса Третьего (1296–1289), а скорее даже — его преемника и дяди, Хаттусилиса Третьего (1289–1265). Этот царь известен (из документов) своей политикой умиротворения противников, проводимой с большим дипломатическим искусством (впрочем, войну с Египтом при Кадеше он этим не предотвратил), а в «Письме о Тавакалавасе» обнаруживаются все приметы такой политики. История, стоящая за письмом, такова: некий Пиямарадус (судя по дальнейшему, мелкий властитель на западном побережье Малой Азии) восстал против хеттов на побережье, а когда хетты пришли навести порядок, этот «враг» бежал в Ахииву вместе с братом ахиявского царя Тавакалавасом, до того находившимся в Милаванде (как мы уже говорили выше, хеттская Милаванда — это главный ахейский, т. е. микенский, форпост в Малой Азии, город Милет, а имя Тавакалавас некоторые хеттологи отождествляют с греческим «Этеоклес», или «Этеокл», считая этого царевича Этеокла микенским наместником в Милете). И вот теперь хеттский царь пишет царю Ахиявы, именуя его «другом и братом», что он-де никаких враждебных замыслов против Ахиявы не имеет, Милаванду и трогать не намерен и просит лишь выдать ему мятежника Пиямарадуса, причем готов даже простить его, если царь Ахиявы будет на этом настаивать. Автор письма признает, что, возможно, обидел царя Ахиявы, и торопится заверить «друга и брата», что согласен на все его условия ради примирения с ним, а покамест посылает своего высокородного придворного в Ахияву в качестве «заложника мира». Подчеркнутая смиренность и миролюбивость текста выдает в авторе царя-миротворца Хатусилиса. Но самое интересное для нас таится в одной из второстепенных строк «Письма», где Хаттусилис вспоминает о прежних отношениях хеттов с Ахиявой. Он признает, что у царя Ахиявы могут быть обиды — ведь еще не так давно хетты воевали с ним из-за Вилусы, — но тут же оправдывается: во-первых, Ахиява ведь победила в той войне, а во-вторых, он, Хаттусилис, в ней вообще не виноват: «Я ведь юн был!» После чего восклицает с деланным недоумением: «Чего же еще?» Мол, какие еще могут быть претензии? Хаттусилис был «юн» во времена царствования своего брата Муватталиса, и это позволяет связать его слова о войне хеттов с Ахиявой из-за Вилусы с предыдущим сообщением царя Страны реки Сеха о вторжении неведомого врага в пределы Вилусы как раз во времена правления Муватталиса. В.таком случае предположение Хайнгольд-Крамер подтверждается: этим «неведомым врагом» действительно была Ахиява, цари которой не потерпели перехода Алаксандуса на сторону хеттов и сумели, по всей видимости, вернуть себе свои прежние позиции в Вилусе. Еще одно место из «Письма о Тавакалавасе» делает эту трактовку событий почти несомненной — здесь автор «Письма» вкладывает в уста своего адресата (царя Ахиявы) такое заявление: «Мы, царь страны Хатти и я, из-за этой страны Вилуса во вражде были мы… и он меня в отношении ее умиротворил и мы заключили договор». Иными словами, после кратковременной попытки Муватталиса повернуть Вилусу против Ахиявы и решительного военного ответа последней статус-кво был восстановлен и в отношениях, между хеттами и Ахиявой снова наступила идиллия. Но времена менялись. И в дипломатических текстах, относящихся к правлению следующего хеттского царя, воинственного Тудхиялиса Четвертого (1265–1235 гг. до н. э.), царь Ахиявы уже перестает быть «братом и другом». Причем перестает им быть весьма эффектно. В перечислении великих царей, содержащемся в одном из тогдашних документов, знак титулатуры «Его Величество», поставленный писцом перед словами «царь Ахиявы», стерт с таблички с таким усердием, словно была допущена грубая политическая ошибка. И в другом тексте, повествующем о победоносном походе хеттов на Аласию-Кипр, где в то время, — археологам это доподлинно известно — было много ахейских городов, никакого упоминания о «великой Ахияве» тоже нет, она в этом тексте не присутствует вообще. И то же самое — в третьем тексте, в «Письме в Милаванду», где этот давний и главный ахейский форпост в Малой Азии запросто, словно так и должно быть, словно так всегда и было, именуется хеттским владением — нет Ахиявы! Что, микенская держава распалась, исчезла под натиском каких-то врагов? Нет, она существует, это известно из других — греческих — источников, но хетты уже с ней не считаются, теперь она для них — побежденный и поверженный противник. Когда и как это произошло? Возможный ответ на это содержит документ, относящийся, по всей видимости, к началу царствования Тудхалияса Четвертого и представляющий собой очередное сообщение о военных столкновениях на западном побережье: «(Царь или народ) Страны реки Сеха снова дважды согрешил… вел войну. И царь страны Ахиявы отступил назад… отступил назад, а я, Великий Царь, пришел». Судя по этому тексту, сам царь Ахиявы вторгся в хеттские владения в районе реки Сеха, но потерпел сокрушительное поражение и был отброшен назад. Кажущееся незначительным и рядовым, событие это давно уже привлекло внимание хеттологов своим сходством с другим событием того же (если верить греческой традиции) времени, происходившем в том же (если верить традиции) месте. Речь идет об упоминаемом множеством древнегреческих авторов неудачном «первом» походе царя Микен Агамемнона и его спутников на Трою. У Гомера об этом событии глухо говорит Елена Прекрасная в своем плаче по Гектору, в самом конце «Илиады»: «Ныне двадцатый год круговратных времен протекает с оной поры, как пришла в Илион я, отечество бросив». Кажется странным, что Елена насчитывает уже 20 лет со времени своего побега с Парисом в Трою — ведь осада Трои, по Гомеру, продолжалась всего 10 лет! Но поэмы упоминавшегося нами в первых главах (и предшествовавшего Гомеру) «Эпического цикла», прежде всего — «Киприя», пересказ которой сохранился у автора V века до н. э. Прокла, рассказывают, что походов на Трою на самом деле было два, и во время первого ахейцы, «выйдя в море, причалили к Тевтрании и начали ее грабить, как будто Илион; Телеф же (местный царь) поспешил на помощь». Аналогично у другого автора V века — Аполлодора: «Не зная морского пути в Трою, пристали к Мисии (Тевтрании) и стали ее разорять, думая, что это Троя; Телеф же, царствовавший над мисийцами, погнал эллинов к кораблям и убил многих». После этого ахейцы целых 10 лет не могли оправиться от позорного поражения и лишь затем снова собрались с силами для второго похода, который и стал знаменитой Троянской войной; Елена, стало быть, была права, говоря о двадцати годах своего пребывания в Трое: десять лет перерыва между первым и вторым походами и десять — осады. Мисия, или Тевтрания, согласно греческой традиции, — это страна между реками Каик и Меандр, что к югу от Трои; об этом говорит историк II века Павсаний («У отправившихся в Трою с Агамемноном случилась ошибка во время плавания, результатом чего была битва в Мисии, и как напоминание об этом входящему в долину Каика служит камень в городе Элее…») — но у хеттов эти же места назывались Страной реки Сеха, и именно здесь, если верить документу тудхалиясовских времен, был с позором разгромлен «царь Ахиявы». И поскольку все прочие документы из анналов того же Тудхалияса Четвертого «великую Ахияву» больше не упоминают, надо полагать, что это незадачливое вторжение ахейцев произошло в самом начале правления Тудхалияса, т. е. близко к 1265 году до н. э. Если вся эта трактовка верна (а многие хеттологи на ней настаивают), то мы наконец-то можем с истинно гоголевским удовлетворением воскликнуть: «Отыскался след Троянского похода!» И ведь действительно вроде бы отыскался — пусть не второго, главного, а первого, неудачного, что из того? Куда важнее, что Гомер говорил правду: Троянская война — была! Гиндин и Цымбурский привлекают в этом месте внимание специалистов к еще одному замечательному документу, который представляет собой письмо царя хеттов к царю Ахиявы (именуемому без титула пренебрежительным «господин»). Пробиваясь сквозь путаницу фраз: «(ты)… написал… какие твои (страны) в запустении (были), их мне во владения отдал Бог Грозы. Царь страны Ассува… Акагамнус, дед отца, связал. А нынче Тудхалияс… его низвергнул», авторы делают смелое предположение, что речь идет о давней попытке прадеда нынешнего царя Ахиявы, некого «Акагамнуса», выступавшего под покровительством Бога Грозы, оттягать себе хеттские земли, пользуясь каким-то их «опустошением» — например, в результате землетрясения: известно ведь, что Троя-6 была разрушена мощным землетрясением примерно за 50 лет до того, как ее осадил и взял Агамемнон. Предположение смелое, потому что авторы, по сути, хотят одним махом решить загадку Троянской войны, объявив указанный документ ее «хеттским отголоском». В самом деле, если, вслед за авторами, видеть в «Акагамнусе» хеттское произношение имени «Агамемнон», в Боге Грозы — Громовержца Зевса, а в самом нашествии «ахиявцев» — взятие ахейцами Трои через 20 лет после их неудачной высадки на реке Каик, в начале царствования Тудхалияса Четвертого, то событие это следует отнести к середине или даже к концу этого царствования — скажем, к 1245–1240 годам до н. э., что, вообще говоря, совпадает с датой Троянской войны, предложенной К. Блегеном. Но эта гипотеза немедленно наталкивается на очевидные трудности. К каким временам относится рассматриваемое письмо, коль скоро его писал правнук «Акагамнуса»? Ведь даже приняв дистанцию между правнуком и прадедом всего в 60 лет, мы оказываемся в 1180 году до н. э., а в это время хеттская империя была уже сокрушена, и никаких царей, к которым могло быть. обращено такое послание, в Хаттусе уже не было, потому что и самой Хаттусы не было — сожжен он был и разрушен. И когда же, задумаемся, успел Тудхалияс Четвертый «низвергнуть» надменного этого «Акагамнуса»-Агамемнона после его победы над Троей, если всех лет царствования этому хеттскому царю осталось в лучшем случае четыре-пять? Нет, предположение Гиндина — Цымбурского загадку Троянской войны не решает, и потому нам придется сделать еще одно — впрочем, на сей раз действительно последнее, — усилие и попытаться найти в хеттских текстах иное, более убедительное свидетельство ее реальности. Или даже доказательство, если повезет. Повезет ли? >ГЛАВА 12 ИСТОРИЯ ТРЕХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ Подсчитаем наши бесспорные достижения. Мы убедились, что хеттские документы подтверждают реальное существование могучей микенской державы ахейцев, о которой говорит Гомер, — у хеттов это Ахиява. Мы увидели, что хеттские тексты засвидетельствовали реальное существование сильного и геополитически важного Троянского царства; у хеттов это царство Вилуса, расположенное на северо-западе малоазийского полуострова — именно там, где Шлиман нашел великую Трою. Мы обнаружили даже следы одного из царевичей Трои, названных велитсим Гомером, — усыновленного Париса-Александра, виновника Троянской войны; похоже, что у хеттов это Алаксандус, усыновленный царем Вилусы и поддержанный на троне властителем хеттской империи Муватталисом. Описанная в поэмах догомеровского «Эпического цикла» ошибочная высадка экспедиции Агамемнона у реки Каик и ее позорный разгром и бегство описаны также и хеттами — в виде незадачливого вторжения царя Ахиявы в Страну реки Сеха; даже географическое положение мест почти совпадает. Этих перекрестных совпадений так много, что постепенно они складываются в плотную сеть взаимосвязанных прочтений, каждое из которых подкрепляет предыдущее и подсказывает последующее, как во внезапно полностью раскрывающемся кроссворде. В целом можно сказать, что мы нашли еще одно подтверждение реальности микенской цивилизации — Шлимана — на сей раз в документах хеттов. Но наш поиск еще не закончен. Мы еще не нашли пока в этих документах никакого упоминания о том ахиявском триумфе в Вилусе, который греческая традиция описывает как осаду и взятие великой Трои ахейцами, как победное завершение Троянской войны. Чтобы приблизиться к этой цели, нам придется двинуться несколько обходным, на первый взгляд, путем — вернуться в Троаду-Вилусу и ее великую столицу. Великая Троя… Раскопки Шлимана лишь обнаружили ее истинное расположение; Дорпфельд углубился чуть дальше в ее прошлое, но только многолетние труды Карла Блегена позволили наконец выявить главные даты в биографии могучей крепости на равнине Скамандра и со всей несомненностью установить, что ее начало, первые следы поселения людей на Гиссарлыке, восходит к поистине баснословной древности — примерно 3600 лет до н. э.! До своего окончательного исчезновения, скажем, в XV веке нашей эры, Троя, следовательно, прожила свыше пяти тысячелетий, всего на пару тысяч лет меньше, чем Йерихо, этот древнейший город на Земле. В том культурном слое, который Шлиман, открыв его во время своего второго цикла раскопок, считал «древнейшим», поселение было заложено около 2500 года до н. э., то есть через целую тысячу лет после основания городища на холме. Знаменитая шлимаиовская Троя-2, которую он поначалу считал современницей Троянской войны — «Приамовой Троей», возникла в действительности за две тысячи лет до нашей эры, а это значит — как минимум за шесть столетий до предполагаемой даты этой войны. Судя по найденным там Шлиманом развалинам дворца и многочисленным золотым украшениям (пресловутая «диадема Елены»), Троя уже в то время была центром какого-то небольшого царства, властители которого, надо полагать, обогащались за счет выгодного стратегического положения своего города вблизи Дарданелл. Видимо, уже и тогда эти «таможенные поборы» троянцев вызывали чье-то сильное недовольство, ибо Троя-2 погибла в результате штурма: об этом свидетельствуют следы пожара и разрушений, а также тот факт, что «диадема Елены» вместе с прочим золотишком были брошены просто на землю, словно жителям, торопливо бежавшим из города, было уже и не до золота. Можно думать, однако, что это же «проклятие» Трои было одновременно и ее «благословением», ибо местоположение города у Дарданелл побуждало людей снова и снова возвращаться в эти края и основывать здесь поселение или даже крепость, — уже через сто лет после разрушения Трои-2 на ее развалинах (поверх них) возник очередной город — Троя-3, а еще через сто лет — на развалинах этого города — следующий, Троя-4. Проходит еще столетие, и его сменяет Троя-5 — по предположениям историков, именно тогда в здешние места пришли новые, индоевропейские племена, умевшие приручать и использовать лошадей (вспомним, что Гомер в «Илиаде» тоже говорит о «троянских конях», да и хетты тоже, как полагают, вывели свое название всего западного побережья Малой Азии, «Ассува», из слова, означавшего у них коня). Некоторые историки полагают, что племена, пришедшие тогда в Трою, составляли часть огромного воинства, основная масса которого осталась на противоположном берегу Дарданелл, на севере Балкан, и много позже стала называться фракийцами; они видят подтверждение этой гипотезы в совпадении множества названий околотроянских мест и народностей с фракийскими топонимами и этнонимами. Лишь позднее, говорят они, Троя обособилась, стала отдельным царством, и ее жители стали называть себя «троянцами» или «дарданцами». Что ж, возможно; возможно даже, что из тех же протофракийских племен, что троянцы, вышли (и двинулись на юг) и будущие греки; это могло бы объяснить их последующую, роковую, многовековую тягу к Троаде — неосознанное родство, почти по Фрейду. Впрочем, оставим. Несколько позже, на грани 1600–1500 годов до н. э., в культурных слоях Трои-5 обнаруживается микенская посуда, то есть следы прямых контактов между Троей и Микенами. Эти следы сохраняются до 1200 года до н. э., но за это время совершаются четыре важнейших события в истории Трои: возникает Троя-6 с ее крепостными стенами и бастионами, дворцом и аристократическими зданиями, напоминающими описания Гомера; происходит землетрясение, разрушающее этот город; окрестные жители возвращаются на развалины и строят там убогие, тесные и скученные лачуги — Трою-7а; и спустя 50 лет после своей предшественницы Троя-7а гибнет, как и та, только уже от рук людей — в огне и разрушениях, военного штурма. Последнее событие Блеген помещает между 1270–1250 годами до н. э. Снова проходит каких-нибудь полвека, и над развалинами Трои-7а возникает новый, тоже небольшой город — Троя-7б. Ее остатки тоже свидетельствуют о насильственном разрушении, но не таком полном, как раньше, — следы жизни переходят в следующий культурный слой непрерывно, как если бы часть жителей осталась на месте и продолжала поддерживать существование, города; более того, останки посуды свидетельствуют о смешении этих коренных троянцев с какими-то пришельцами из-за Дарданелл, возможно — опять из той же Фракии. Такая же посуда обнаруживается несколько выше по течению Скамандра, в Бурунбаши, — видимо, часть троянцев переселилась туда, так что недаром в новое время кое-кто считал, что Троя находилась именно в Бурунбаши, а не на Гиссарлыке. Однако примерно к 1000 году до н. э. последние следы жизни и там, и там исчезают древняя Троя окончательно уходит в прошлое. Но место «свято», и оно не опустевает: еще 200–300 лет спустя в Троаду (или, как она еще называлась, Илион, а у хеттов — Вилуса) приходят поселенцы с соседнего греческого острова Лесбос и основывают здесь «Эллинскую Трою» — «маленький торговый городок», как сообщают первые древнегреческие историки. Возможно, именно здесь побывал когда-то Гомер; возможно, в этих местах еще сохранялись тогда следы Древней Трои и, кто знает, даже легенды о героическом прошлом этого города. Как бы то ни было, с этого момента Троя вступает в период письменно зафиксированной истории: «Новый Илион» сменяется городом Александрова полководца Лизимаха, «Александрией Троянской», потом римской колонией Новый Илион, это уже Троя-9, по датировке Блегена; ее сменяет центр христианского епископата — «Византийская Троя», но к 1000 году нашей эры это поселение тоже угасает, и спустя еще 500 лет тут возникает последнее на Гиссарлыке поселение — деревня Гиплак, позднее покинутая жителями; останки ее поросли диким кустарником, не гнущимся даже под здешними ветрами. Очертим границы нашего поиска: весь наш предшествующий рассказ сосредоточен практически в пределах одного-полутора столетий — от гибели многовековой Трои-6 до гибели скоротечной Трои-7б. Как мы помним, поначалу Дорпфельд решил, что «Приамовой» («гомеровской») является именно могучая Троя-6. Но затем Блеген объявил, что этот богатый и укрепленный царский город был на самом деле разрушен мощным землетрясением, зато следы пожара, убийств и разрушений, которые могла причинить только война, присущи жалкой, «лачужной» Трое-7а, находившейся в полуразрушенных стенах предыдущей крепости. На первый взгляд, такая последовательность событий соответствует греческой мифо-эпической традиции. Эта традиция утверждает, что задолго до Агамемнона великий Геракл уже предпринял поход против троянского царя Лаомедонта, которому помогал бог моря Посейдон. Естественно Геракл победил: он захватил и разрушил Трою и посадил в ней нового царя — Приама, но предварительно ему пришлось схватиться врукопашную с неким «Посейдоновым чудищем», которое бог послал на защиту любимого города. Остается вспомнить, что греки считали Посейдона «сотрясателем земли», т. е. приписывали ему причину землетрясений, и тогда в эпизоде сражения Геракла с «Посейдоновым чудищем» легко усмотреть подернутое мифопоэтическим туманом воспоминание о реальном землетрясении, некогда разрушившем город Лаомедонта. Поскольку, по Блегену, землетрясение разрушило именно Трою-6, то именно ее он и объявил «Лаомедонтовой». По его расчетам, это «первое взятие Трои» (Гераклом) произошло примерно в 1300 году до н. э. (Заметим, что такая дата хорошо согласуется с описанной в «Письме о Тавакалавасе» распрей хеттов с Ахиявой за Вилусу, при царе Муватталисе.) Здесь уместно объяснить, на чем основывались эти расчеты. Подобно всем другим археологам до и после него, Блеген руководствовался в определении дат типом посуды, или, точнее, типом обработки керамической посуды, обнаруживаемой в том или ином культурном слое. В истории микенской керамики (которая сама датируется по египетским памятникам и, в свою очередь, позволяет датировать те раскопки, где она обнаруживается) существует очень важная и отчетливо прослеживаемая граница — примерно 1240–1190 годы до н. э., скорее, ближе к последней дате: до этого перелома керамика принадлежит к типу 3В (или еще более ранней 3А), после него — к типу 3С (более примитивному и грубому, который еще иногда называют «варварским»). Считается, что упрощение способов обработки керамики связано с общим падением ремесел в микенской Греции, а оно — с распадом и крахом микенской цивилизации в целом, павшей под натиском неведомых пришельцев с севера. Об этих загадочных пришельцах, разрушивших не только Микенский союз древнегреческих царств, но заодно и Хеттскую империю, и вообще радикально переменивших лицо древнего Средиземноморья, мы уже однажды упоминали, обещая поговорить о них в конце нашего рассказа; и нам действительно придется сейчас о них говорить. Но пока вернемся к Блегену и его расчетам. Раскапывая Трою-7а, Блеген не нашел в ее слоях признаков керамики типа ЗС и потому заключил, что этот город погиб раньше роковой даты варварского вторжения, т. е. раньше 1240 года до н. э.; поэтому он отнес дату взятия Трои-7а на 1270–1260 годы. Мы следовали этой схеме, когда в одной из предыдущих глав закончили рассказ о раскопках Трои выводом, что «Приамовой Троей» оказалась блегеновская Троя-7а. Теперь я вынужден с огорчением сказать, что нам придется изменить этот вывод. Дело в том что через несколько десятилетий после Блегена, в серии работ 1970–1980 годов самый авторитетный в мире специалист по микенской керамике Фурумарк сообщил, что повторное изучение некоторых керамических обломков, найденных Блегеном в Трое-7а, заставляет отнести их к типу 3С. Но керамика этого типа могла появиться в городе только после 1240–1230 годов до н. э. как минимум. Значит, Троя-7а существовала после этой переломной даты. Однако в ту пору Микенский «союз греческих героев» уже никак не мог осадить, захватить и разрушить Трою-7а, ибо сам был к тому времени подорван, а то и вовсе разрушен пришельцами с севера. Стало быть, блегеновская Троя-7а никак не могла быть той «Приамовой» Троей, которую осаждал и захватил Агамемнон. Прямым следствием этих сенсационных выводов Фурумарка было то, что археологи и историки. в подавляющем своем большинстве отвергли схему Блегена, и последние годы основная часть специалист тов снова вернулась к мнению Дорпфельда, признав «Приамовой» (гомеровской) могучую Трою-6. Английский историк Майкл Вуд сформулировал это новое представление следующим категорическим образом: «Если Троянская война была столь величественной, как описано у Гомера, она могла быть только войной против Трои-6». В поддержку этого утверждения сегодня приводится ряд новых фактов. Как показали археологические открытия последних лет, Трою-6 действительно постигло мощное землетрясение, и в этом Блеген был прав, но окончательное разрушение ее дворцов и аристократических зданий (на месте которых возникли позднее лачуги и времянки Трои-7а) было все же делом рук человеческих, а точнее — греческих, микенских: археологи нашли в слоях Трои-6 многочисленные останки микенского оружия, следы пожара, возникшего при захвате и разграблении города, и некоторые признаки нарочитого разрушения крепостных стен. Этот бесславный конец могучей Трои-6, просуществовавшей несколько столетий, сегодня датируется 1270–1260 годами до н. э. Новая датировка обоснована надежнее блегеновской, потому что базируется на более точном и детальном анализе типа керамики, но фактически она совпадает с датировкой Блегена. «А что же Троя-7а?» — немедленно спросите вы. Если поход Агамемнона («Троянская война») имел целью захват и разрушение Трои-6, то кто же и когда разрушил следующую по счету Трою, возникшую на развалинах предыдущей? И что означали найденные Блегеном в этом следующем городе признаки подготовки его жителей к осаде — скученность жилищ, врытые в землю кувшины с запасами продовольствия и т. п.? Упомянутое «большинство специалистов» располагает ответами и на эти-заковыристые вопросы. Они утверждают, что Троя-7а просуществовала вплоть до начала XII века до н. э., примерно до 1190–1180 годов. Но надо иметь в виду, что вся вторая половина XIII и начало XII веков до н. э. были эпохой нашествия северных варваров, которые накатывались на Средиземноморье несколькими последовательными волнами. То были времена всеобщего разрушения, хаоса и неустойчивости, и поэтому можно думать, что особенности жизни в Трое-7а попросту отражали общую неуверенность тогдашних людей в завтрашнем дне, их постоянную настороженность в предчувствии возможного набега бродивших повсюду варварских отрядов. «Не исключено, — говорит тот же М. Вуд, — что именно один из таких отрядов и разрушил Трою-7а, ведь она была слишком бедна и слаба, чтобы долго защищаться даже против небольшой группы захватчиков; не исключено также, что в числе этих захватчиков были и примкнувшие к варварам микенские ахейцы; но в любом случае то не были уже дружины Агамемнона и других греческих героев — времена героев давно прошли; скорее то была жалкая кучка искателей приключений и легкой наживы». Так выглядит новая схема «троянских событий», сложившаяся в самые последние десятилетия и принятая, как уже сказано, большинством современных исследователей. А как выглядит в свете этой схемы наш поиск отголосков Троянской войны в хеттских документах? Всмотримся снова в даты, и мы поймем, что искать в этих документах следы грабительского набега варваров на Трою-7а попросту безнадежно: в то время, к которому Вуд и другие относят это событие, в 1190–1180 годах до н. э., Хаттуса уже лежала в развалинах, ибо хеттская империя и сама уже рухнула под натиском тех же варваров. Но поход Агамемнона (если он вообще реален) происходил по этой схеме в 1270–1260 годах до н. э., а в это время хеттская империя еще существовала. По нашей «хронологии хеттских царей», это годы правления воинственного Тудхалияса Четвертого, того самого, при котором произошло вторжение «царя Ахиявы» в Страну реки Сеха (точности ради заметим, что сторонники новой схемы пользуются несколько иной хронологией и потому считают, что в это время в Хаттусе еще правил Хаттусилис Третий). Об этом вторжении упоминается в одном из хеттских документов, связанных с Ахиявой, — в письме правителя Страны реки Сеха к хеттскому царю. Так вот, говорят современные историки, это упоминание и есть искомый «хеттский отголосок» Троянского похода микенского царя Агамемнона, если угодно — прямое подтверждение реальности этого похода. Если принять это толкование, то наши поиски становятся излишними: мы, оказывается, давно нашли то, что искали; мы только не опознали найденное. Разумеется, такое разочаровывающе будничное завершение долгих поисков напоминает скорее сырое шипенье намокшего заряда, чем тот эффектный громовой взрыв, который от него ожидался, но что делать, если авторитетные специалисты думают именно так? Только развести руками. Хорошо еще, что мы выбрали в качестве представителя мнения большинства цитату из Майкла Вуда, который все-таки верит в реальность Троянской войны; много более авторитетный Шахермайр, к примеру, в это не верил и в свете новых данных считал, что Троянской войны не было вообще: «Илиада» — это переработка мифа о походе Геракла, а Троянский конь — это преобразованное воображением Гомера «Посейдоново чудище». Есть, однако, еще и мнение меньшинства, которое не согласно ни с Вудом, ни, тем более, с Шахермайром. Это меньшинство предлагает совершенно иное решение загадки Троянской войны, и этому меньшинству мы и предоставим сейчас, как давно обещали, последнее слово в нашем историческом расследовании. >ГЛАВА 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. НАРОДЫ МОРЯ Мы обещали в заключение предоставить слово тому меньшинству среди современных историков и лингвистов, занимающихся загадкой Троянской войны, которое энергично отстаивает свой особый взгляд на эту проблему. Судить об их правоте или неправоте мы, конечно, не сможем, но несомненную увлекательность возникающей из их рассуждений картины наверняка сумеем оценить. Начать хотя бы с того, что первые, кто во весь рост появляется на этой картине, — это те самые загадочные «северные варвары», о которых мы уже несколько раз говорили. Теперь мы, наконец, узнаем, кто они такие. Это — «народы моря», разгадке происхождения которых посвящены сотни исследований и десятки толстых научных книг. Их название восходит к двум египетским документам времен фараонов Мернепты и Рамзеса Третьего, один из которых правил в, 30-е годы XIII века до н. э., а второй — лет на сорок позже. Как сообщает рассказ Мернепты (точнее, его писца), на 5-й год правления этого фараона «пришли с моря народы» — лувийцы, шардана, ахейцы, турша, сикелы и многие другие — и пытались ворваться в Египет. Мернепта дал им бой и разгромил. На поле битвы осталось около двух с половиной тысяч пришельцев. Египтяне разделили убитых на два класса: обрезанных, как и они, — у этих они для счета отрубали одну руку, и необрезанных, у которых для счета отрубался пенис. Все эти руки и половые члены были свалены в кучу у ног фараона-победителя, как немецкие флаги некогда на Красной площади, и отсюда мы знаем, что необрезанных лувийцев и прочих было тысячи полторы, а все остальные были ахейцы (которые в ту пору, представьте, практиковали обряд обрезания). Благодаря историкам мы знаем также, что означают некоторые из упомянутых выше этнонимов: «шардана» — это балканский народ, который впоследствии заселил остров Сардиния, «турша» — это тирсены, поначалу северо-балканское племя, позднее переселившееся на юг Троады (о нем упоминает Гомер), после распада первой коалиции «народов моря» они мигрировали в Италию, где, по-видимому, дали начало этрускам; «сикелы» — будущие сицилийцы; ахейцы же нам знакомы — это микенские греки. Вся эта огромная масса племен, по мнению историков, двигалась с севера, из нынешней Фракии, сметая на своем пути прежние государства, в том числе Микены и Хатти, вынуждая к бегству одни народы (в это время началось великое переселение греков на периферию своего мира), обращая в рабство другие и увлекая за собой третьи. В документах из древнего ближневосточного города-государства Угарит сохранились письма от царя хеттов, который панически просит прислать ему на помощь угаритский флот, чтобы отбить нашествие варваров; известно (из египетских источников), что Мернепта послал царю Хатти пшеницу, чтобы прокормить население, оставшееся среди растоптанных полей; дипломатическая, переписка великих держав того времени запечатлела ощущение страха и судорожные попытки организовать совместный, отпор чудовищному потоку диких воинов на конях, повозках и идущих пешком. Попытки эти не увенчались успехом. Новое вторжение удалось лишь оттянуть — лет на тридцать, — но не предотвратить. На 5-й год правления Рамзеса Третьего, сообщает его стела, «народы моря» пришли вновь. На сей раз они окончательно сокрушили Хатти (впрочем, считается, что этому немало помогли внутренние распри), Арцаву, Аласию (Кипр), Угарит, полностью разорили микенскую Грецию и Крит, угрожали самому существованию Египта. Свою победу над ними Рамзес Третий считал главным достижением своей жизни. Он утверждал, что их вторжение было опасней гиксосского. В этот раз основу пришельцев составляли тевкры (из протофракийских племен, родственных троянцам) и пелашти; отброшенные Рамзесом от границ Египта, эти пелашти осели на восточном берегу Средиземного моря, дав название своей стране — Палестина, а сами стали теми «филистимлянами», что так хорошо известны Библии (там они называются «плиштим»); их культура (керамика, захоронения, обычаи) была во многом микенской, заимствованной по дороге; их предыстория связывает наш рассказ с предысторией евреев в Земле обетованной, но мы не будем сейчас отвлекаться в эту интереснейшую сторону (желающие могут обратиться, например, к книге копавших древнюю Филистию израильских археологов Моше Дотана и его жены Труды «Народы моря в поисках филистимлян», Нью-Йорк, 1993). Сейчас нам важнее узнать, что, оказывается, греческая традиция хранит некие смутные воспоминания о том, что когда-то в незапамятные времена ахейцы действительно вторгались в Египет и что это вторжение напрямую связано с Троянской войной! В поэмах догомеровского «Эпического цикла» рассказывается, что греки, взяв Трою, рассорились: Менелай обиделся на Агамемнона, отделился от главного отряда, вернувшегося на родину, и двинулся со своей дружиной в Египет, где был, однако, разбит. Гомер в «Одиссее» (песни 3 и 4), переиначивая тот же мотив, говорит, что на обратном пути из Трои буря занесла корабли Менелая в Египет, где он скитался целых 10 лет. В той же поэме, в песнях 13 и.14, Одиссей (уже на Итаке) рассказывает, будто во время своих скитаний пытался вторгнуться со своей дружиной в Египет, но был отогнан. И много позже Геродот собирает, повторяет и дополняет своими вымыслами все эти истории. По расчетам археологов, вторжение «северных варваров» в Грецию произошло примерно в 1240–1230 годах до н. э. — именно к этому времени относится появление керамики «варварского» стиля. Согласно египетской хронологии (она допускает несколько толкований, но здесь берется самая ранняя дата), первое вторжение «народов моря» произошло примерно в 1230 году. Главной ударной силой этого вторжения были ахейцы, видимо, примкнувшие к северным варварам, и жители южной Троады — турша, или тирсены. Что свело их вместе? Не могло ли быть так, осторожно спрашивают Гиндин и Цымбурский («Гомер и история восточного Средиземноморья»), что они объединились в Троаде, куда ахейцы вместе с другими северными варварами пришли для захвата Трои? Именно там, взяв город, разграбив и разрушив его, обретя дополнительных сильных союзников и гонимые мечтой о новых грабежах и новой добыче, ахейцы могли повернуть дальше на юг и, пройдя страну Хатти, ворваться в Египет фараона Мернепты. Если дело действительно обстояло так, то нельзя ли предположить, продолжают наши авторы, что это и был тот поход ахейцев, который много позже разросся в воображении потомков до размеров Троянской войны и последующей вооруженной высадки Менелая и Одиссея на египетских берегах? В таком случае придется признать, что Троянская война происходила не на взлете Микенского царства, а на его излете, когда оно уже рушилось под натиском северных варваров. Не случайно царствовавший именно в те времена Тудхалияс Четвертый велел вычеркнуть Ахияву из списка великих держав. И не случайно и Гомер, и народная традиция греков утверждают, что конец Троянского похода совпал с гибелью его царственных героев, распадом их царств и концом «героического века». Суммируя эти факты и предположения, сторонники новой гипотезы рисуют следующую, уже третью по счету, возможную картину событий (она третья, если первой считать блегеновскую трактовку Троянской войны как «похода на Трою-7а», а второй — новейшую трактовку этой же войны как «похода на Трою-6а»). В этой третьей трактовке никакой «великой» Троянской войны не было; а было вот что — где-то около 1240 года до н. э. Греция пережила первое нашествие северных варваров, резко ослабивших ее царства, но после их возвращения на Балканы предприняла попытку восстановить свои прежние позиции. Именно тогда царь Микен (Ахиявы) послал хеттскому царю Тудхалиясу Четвертому письмо с напоминанием договора о Вилусе; царь Хатти, однако, игнорировал это напоминание, и микенцы решили силой отвоевать Вилусу-Трою, но, увы, по ошибке высадились в Стране реки Сеха (Каик) и потерпели поражение. С этого момента начинаются их беспрестанные попытки расквитаться за позор, поэтому неудачную высадку у Сехи можно считать началом Троянской войны. В таких мелких попытках проходит почти 20 лет, но потом ахейцы все же добиваются своего благодаря помощи вновь пришедших в Грецию северных варваров, «народов моря». Объединившись с ними, они наконец захватывают Трою (по датам это Троя-7а, так как дело происходит примерно в 1230–1220 годах до н. э.), после чего движутся на Египет, где терпят поражение, откатываются и рассеиваются по берегам Средиземного моря. Этот уход из Греции множества ее самых отчаянных, предприимчивых молодых воинов (не забудем — только в бою с Мернептой их погибло свыше тысячи двухсот — огромное по тем временам число) окончательно ослабляет страну, и в образовавшийся вакуум вскоре вторгается новое северное племя, на сей раз родственное грекам, — дорийцы. Наступают «темные века» греческой истории. В отличие от двух первых гипотез, базирующихся в основном на археологических фактах, эта третья опирается преимущественно на факты лингвистические. Но нельзя не видеть, что и в этой схеме есть множество хронологических и прочих натяжек. В целом выводы из всего сказанного представляются, скорее, неутешительными. То, что во времена Шлимана казалось таким ясным и определенным, сегодня снова подернулось туманом зыбкой неопределенности. Хотя новейшая «археологическая гипотеза» объявляет «Троянской войной» поход ахейцев против Трои-6, она не исключает возможность их второго, крайне незначительного, похода против Трои-7а совместно с варварми. Со своей стороны, новейшая «лингвистическая гипотеза» считает подлинной «Троянской войной» именно этот поход (с ее точки зрения, единственный). А в схеме стоящего особняком Шахермайра никакого Троянского похода, как мы видели, не было вообще. Так что нам, скорее всего, так и не удастся до конца решить загадку этой воспетой Гомером войны — была она в действительности или нет? И если была, то когда? Пройдя по текстам Гомера, через данные археологических раскопок, тексты линейного письма Б хеттские клинописные документы, мы нигде не отыскали совершенно однозначных свидетельств «за» или «против» ее реальности. Каков же итог? Скорее всего, правы Гиндин и Цымбурский, когда заключают: «Видимо, слияние некого многовекового лейтмотива (прежних походов — Геракла или хеттской «Ахиявы» — на Трою. — Р.Н.) с порывом «бегства за моря», охватившим массы ахейцев после первого нашествия северных варваров и придавшим новому походу на Илион общеахейский размах, и породило тот грандиозный облик, какой обрела в памяти греков Троянская война». Та «Троянская война», что была, добавим, последней. Больше уже, если верить названию пьесы Жана Жироду, «Троянской войны не будет»… >Комментарии id="c_1">1 Самыми последними из этих книг по времени уже в наши дни стали многочисленные произведения, посвященные т. н. «теории разумного дизайна» («Intelligent Design», или ID). Этими словами ее создатели сокращенно называют утверждение, будто сложность живых существ и обнаруженное астрономией точное соответствие космических параметров всем требованиям возникновения разумной жизни якобы свидетельствуют о том, что космос был «сконструирован» (причем именно для появления жизни и человека) неким высшим Разумом, или Разумным Конструктором. С благословения сочувствующих этому тезису американских политиков-республиканцев, в том числе и самого президента Буша, эта теория, по сути возрождающая креационизм в новом обличье, сейчас внедряется в американские школы в качестве «научной» альтернативы теории эволюции. id="c_2">2 В еврейской системе летосчисления, изложенной в летописи «Седер Олам Рабба» и ведущей счет годам от Сотворения Мира, «баhарад» — сокращенное название для новолуния первого месяца от начала мироздания; это первое новолуние называется также «новолунием хаоса» (молад ТОРУ). id="c_3">3 Цепочка рава Элиягу Залмана замечательна и другими своими особенностями. Например, между «мэм» в слове «мишнэ» и «тав» в слове «тора» пропущено ровно 613 букв, что равно числу мицвот (заповедей) в Торе; первые буквы последних четырех слов стиха 11:9 — это «рэйш», «мэм», «бет» и «мэм», что складывается в «Рамбам»; один из стихов той же главы содержит дату «четырнадцатое нисана», что является днем рождения Рамбама; и, наконец, 49 — это священное для евреев число — количество дней Омер между праздниками Песах и Шавуот. Между прочим, рав Вейсмандель тоже обратил внимание на тот факт, что его буквенные цепочки «т-о-р-а» имеют пропуск в 49 букв. Правда, в последней цепочке пропуск на одну букву меньше, но рав Вейсмандель объяснил это тем, что последняя книга, «Дварим», рассказывает о смерти Моисея, а Моисей однажды согрешил перед Всевышним самовольным чудотворством, и за это перед ним была закрыта одна из дверей мудрости Торы. id="c_4">4 Первая (еврейская) буква этого слова — «хэй», что может означать «ha» — это определенный артикль. Вообще-то слово «ханука» (название еврейского религиозного праздника) пишется без такого артикля, но мы пока отложим разговор о том, почему оно в данном случае написано именно так. id="c_5">5 «Хашмонай» — представитель знаменитого в еврейской истории рода Хасмонеев, которые во II в. до н. э. возглавляли борьбу евреев за религиозную независимость; праздник Ханука был учрежден как раз в честь победы в этой войне. Отметим важный факт — то, что буквы второго слова («Хашмонай») не образовали вертикальный столбик, а идут по диагонали, связано с тем, что пропуск между ними другой: им нужна чуть более длинная окружность оборота нити, чтобы улечься друг под другом. Но если бы мы выбрали цилиндр с чуть большей окружностью, то не легли бы друг под другом буквы слова «hа-ханука». Два слова стали бы столбиками только при одной и той же длине оборота, т. е. если бы интервалы между буквами обоих слов были одинаковыми. id="c_6">6 Под наименованиями понимаются сокращенные прозвища, аббревиатуры или акронимы, с которыми те или иные еврейские мудрецы вошли в историю, — например, Рамбам или Маймонид (рав Моше бен Маймон), «Бейт-Исраэль» или просто «Бейт-Йуд» (так назвали рава Йосефа Каро по заглавию его важнейшей книги) и т. п. У некоторых мудрецов есть по 3–4 таких наименования. id="c_7">7 Например, одна и та же дата может быть словами записана как «шени бэ нисан», «бэ шени бэ нисан» и т. п. id="c_8">8 Сухие определения — такой-то век до н. э. — вряд ли способны создать правильное ощущение времени. Та «классическая эпоха» греческой истории, которую мы знаем из школьных учебников истории, — война греков с персами, Афины, Перикл, Парфенон, война Афин со Спартой — очень близка к нам, это V век до н. э. Гомер жил за 300–400 лет до возвышения Афин, а описанная им «героическая эпоха» имела место в совсем уж глубоком прошлом — за 800 лет до Перикла! Это лет на сто раньше еврейского Исхода из Египта и на 2000 лет раньше Киевской Руси. id="c_9">9 Сокровищам, которые Шлиман нашел в Микенах, повезло больше: они сохранились полностью, и сегодня каждый желающий может увидеть поразительной, красоты золотую маску Агамемнона в афинском музее. Стоит, однако, предупредить, что маска эта по мнению современных ученых, на несколько столетий старше гомеровского Агамемнона, даже если последний действительно существовал. Современный американский специалист проф. Калдер примерно 30 лет назад поставил вопрос, не является ли и эта находка Шлимана его фальсификацией: это вызвало продолжающуюся по сей день оживленную дискуссию; отчет о которой можно найти в журнале Archeology (т. 52. 4, 1999). id="c_10">10 Впоследствии ему и это лыко поставили в строку; в мае 1995-го тот же журнал «Археология» сообщил, что потомки Кальверта решили потребовать возвращения принадлежащих им по праву наследования двух золотых мечей, найденных Шлиманом на восточной оконечности холма Гиссарлык, принадлежавшей Франку Кальверту (он купил ее у оттоманских властей). В момент публикации сообщения мечи эти находились в Пушкинском музее. Чем кончилось дело, мне неизвестно. id="c_11">11 Много позже, в ходе раскопок 1930 года, золотые предметы были найдены и во многих других местах второго слоя, словно жители того давнего города бежали из него в панике, теряя на бегу драгоценности и пожитки: это, кстати, доказывает, что Шлимана, видимо, зря обвиняли в фальсификации сокровищ. id="c_12">12 Самое интересное во всей этой истории то, что спустя семьдесят с лишним лет греческие археологи обнаружили второй такой же круг гробниц, но уже вне стен крепости, снаружи от Львиных ворот — там, где некогда простирался древний город (внутри крепостных стен находились в древности лишь дворцовые постройки). Скорее всего, именно этот круг и был тем, который когда-то видел Павсаний. Так что в итоге оказалось, что Шлиман неправильно понял Павсания, но как раз эта ошибка и принесла ему сказочную удачу. id="c_13">13 Принятая сегодня хронология различает три главные эпохи греческой предыстории: ранний бронзовый век, 2800–1900 гг. до н. э.; средний бронзовый век, 1900–1600 гг. до н. э.; и поздний бронзовый век, 1600–1100 гг. до н. э.; далее начинается век железный. Эти абсолютные даты базируются на синхронности определенных критских и греческих находок с аналогичными находками в Древнем Египте и наоборот; египетская же хронология благодаря сохранившимся надписям известна с достаточной точностью. id="c_14">14 Уже в наши дни некоторые ученые выдвинули предположение, что причиной этой катастрофы могло быть знаменитое извержение вулкана на близлежащем острове Санторин, он же Тера (эта же катастрофа, по их мнению, положила начало мифу об утонувшей Атлантиде). Имеются, однако, убедительные основания считать, что это извержение произошло почти на столетие раньше. id="c_15">15 Любопытно, что следов микенской посуды почему-то почти нет на северо-западе, если не считать раскопанной Трои: здесь, видимо, не было других крупных городов, или же местные жители, будучи более воинственны, успешно отражали попытки ахейского проникновения. id="c_16">16 Некоторые хеттологи видят в «Аттариссии» прародителя микенских царей Дтрея, но, как указывают другие, такое отождествление противоречит законам хеттской и греческой фонетики. Л. Гиндин и В. Цымбурский отмечают, однако, что эти противоречия можно обойти, если принять, вслед за О. Семереньи, что хеттское «Аттарисий» не столько тождественно греческому «Атреус» по фонетическому звучанию, сколько передает тот же смысл («бесстрашный»), только на хеттский лад, поскольку восходит к анатолийскому корню «a-trs-io», имеющему значение «не знающий страха». |
|
|||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
